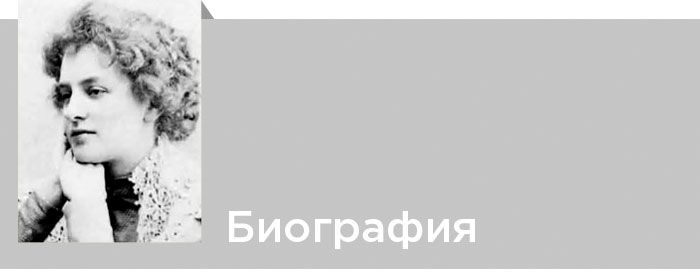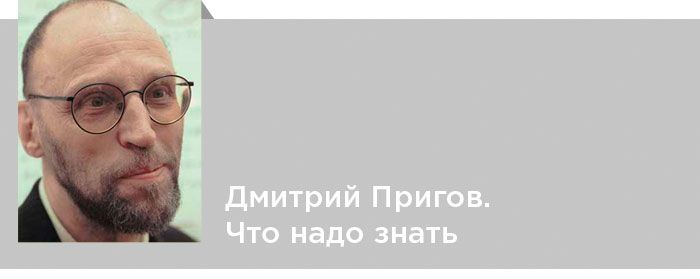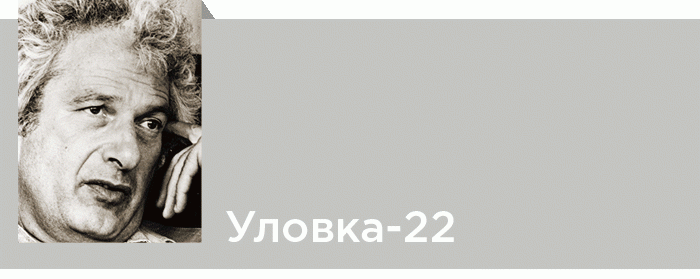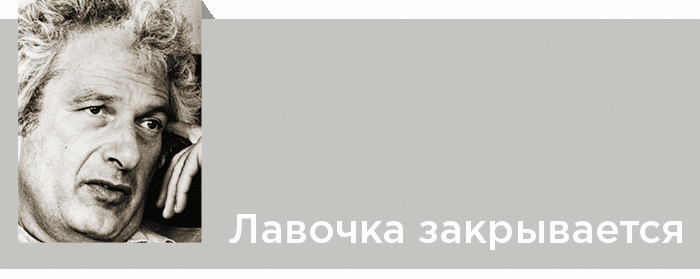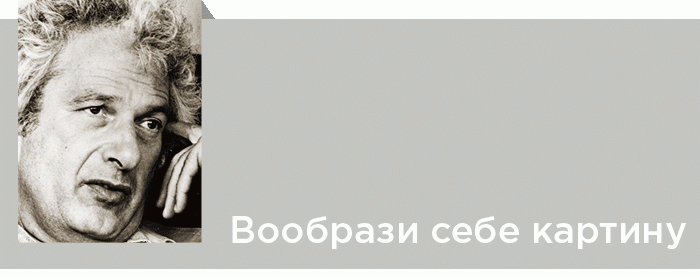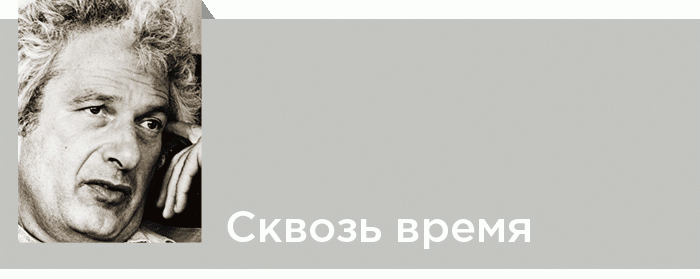От волшебно-сказочной комедии к комедии социально-бытовой (Становление реализма в раннем творчества И. Нестроя)

Г. Слободкин
В творчестве Иоганна Нестроя (1801-1862) — основоположника критического реализма в австрийском народном театре — отразился важнейший исторический рубеж — революция 1848 года, углубившая социальные противоречия капиталистического общества. Но уже и в 30-е годы в Австрии, переживавшей промышленный переворот, начинается под влиянием Июльской революции во Франции постепенный рост оппозиции меттерниховскому режиму. Ранние комедии Нестроя были ярким свидетельством пробуждения общественного сознания. Между тем некоторые ученые на Западе стремились и стремятся по сей день представить «венского Аристофана» сторонником мещанского идеала примирения с действительностью в духе австрийского «бидермайера».
Раннему творчеству Нестроя посвящено лишь одно специальное исследование. Интересное по конкретному анализу многих пьес драматурга, оно убедительно доказывает отличие сказочно-волшебных элементов и сатиры раннего Нестроя от его предшественников по комедии. Однако из верных наблюдений З. Диль делает весьма странные выводы о том, что комедиограф не реалист, что произведения Нестроя — «только чистая игра фантазии», а «земной мир комедий обрисован совершенно нереалистично и живет лишь на театральных подмостках». Ложные выводы автора во многом объясняются узким пониманием им реализма лишь как искусства жизненной достоверности. Поэтому вне поля его зрения остается проблема типичности характеров и их взаимодействия со средой.
Данная статья стремится показать отличие раннего творчества Нестроя от мироощущения бидермайера. Вместе с тем она является попыткой рассмотреть сказочно-волшебные пьесы в эволюции и тем самым проследить формирование реализма в этих комедиях, являющихся ключом к радикальной сатирической драматургии И. Нестроя зрелой поры.
По своим жанровым особенностям волшебно-сказочные комедии Нестроя: «Изгнание из волшебного царства» («Die Verbannung aus dem Zauberreiche», 1828), «Смерть в день свадьбы» («Der Tod Am Hochzeitstage», 1830), «Неловкий волшебник» («Der konfuse Zauberen», 1832), «Волшебное путешествие в рыцарские времени» («Die Zauberreise in die Ritterzeit», 1832), «Злой дух Лумпацивагабундус» («Der böse Geist Lumpazivagabundus», 1833), «Семьи Цвирн, Книрнм, Лейм» («Die Familien Zwirn, Knieriem, Leim», 1834), «Равенство возрастов» («Die Gleichheit der Jahre», 1834) — примыкают к весьма популярным в венском народном театре 10-х-20-х гг. «моральной комедии», «драме нравственного исправления» («Besserungsstück»). Создателями ее были необычайно плодовитые драматурги тех лет: А. Глейх («Горный дух или три желания», «Идор, странник водяного царства», «Путешествующий дьявол брака» и др.), А. Бойерле («Вена, Париж, Константинополь»), К. Майзль («Веселый Фриц»), а продолжателем их был замечательный комедиограф — романтик, старший современник Нестроя, Фердинанд Раймунд («Мастер барометров на волшебном острове», «Девушка в мире фей или крестьянин-миллионер», «Альпийский король и человеконенавистник», «Расточитель»). Венская волшебно-сказочная «моральная комедия» — довольно сложное явление, возникшее из скрещения австрийских национальных и общеевропейских тенденций. Народное зрелище по своим истокам, в котором элементы средневековых мистерий и образ народного забавника Гансвурста слились со сказочными фольклорными мотивами о духах, магах, феях, кобольдах и волшебниках, она вобрала в себя также и некоторые черты барочного театра XVII века, итальянской комедии масок и представляла динамичное, богатое по своей поэтической фантазии комическое представление. Откровенная же поучительность этой комедии, пафос морального исправления героя явно восходят к просветительским идеям о театре как школе добродетели. Однако в условиях меттерниховской Австрии, в обстановке гнетущих полицейско-бюрократических порядков, где душилась любая свободная мысль, просветительские традиции переживают заметное оскудение и измельчание. Ни политическая страстность великих французских просветителей, ни мятежный дух «Эмилии Галотти» Лессинга и драматургии «Бури и натиска», ни глубокие нравственно-философские искания и энциклопедическая широта Гете и Шиллера невозможны в Австрии — стране относительно слабой, по преимуществу мелкой буржуазии и, самое главное, в эпоху послереволюционную, в период развития «прозы» капиталистического общества. Австрийское искусство этой поры — живопись и литература — стремятся углубиться в частный мир, в частную жизнь среднего человека, в стихию его личных страстей и радостей, замкнуться в пределах семьи и узких моральных проблем. Не случайно поэтому в австрийской живописи тех лет развивается главным образом жанровая живопись и портрет (П. Крафт, М. Даффингер, А. Амерлинг, Ф. Вальдмюллер). В ней, как впрочем, и в «моральной комедии» Глейха, Бойерле, Майзля много точных жизненных наблюдений, верных деталей, но значительные темы не находят в ней отражения. Эти тенденции австрийского искусства и получили название «стиля бидермайера».
Австрийская «моральная драма» испытала также и влияние немецкой мещанской драмы А. В. Иффланда и А. Коцебу, которая широко была представлена в репертуаре австрийских театров в начале XIX века. Их пьесы изображали узкий мещанский мирок, его семейные горести, несчастные браки, финансовые банкротства. В них часто фигурировала молодые люди, сбившиеся с пути под дурным влиянием аристократических повес, и девушки, которых удается спасти от знатных распутников, благодаря усилиям строгих и добродетельных отцов. При этом добродетель осязательно торжествовала над пороком, счастливый и сентиментальный финал был неизменным законом их пьес. Подобно этому и у К. Майзля веселый Фриц («Веселый Фриц») — тип венского шалопая, представитель золотой молодежи Вены эпохи развивающегося капитализма, увидев во время волшебного сна последствия своего расточительства и легкомысленной жизни, исправляется и становится хорошим сыном и мужем.
Тем не менее, при всей назидательности и умеренность, благодушном оптимизме, сближающем австрийскую «моральную комедию» с немецкой мещанской драмой, венские комедии полны неистощимой выдумки, уморительного веселья и остроумия. Они — продукт многовекового развития народной смеховой культуры, национальных традиций австрийского народа. Отсюда их удивительная живость и непосредственность, отличающие их от немецкой «коцебятины» и «иффландиад».
Но сложность литературы «бидермайера» состояла в том, что у некоторых австрийских писателей обращение к частной жизни, углубление во внутренний мир личности было своеобразной и единственно возможной реакцией на невыносимые австрийские условия эпохи Реставрации, попыткой отстоять, по крайней мере, внутреннюю свободу личности. Это была форма проявления внутренней оппозиции, хотя, разумеется, и пассивной, таившей в себе опасность филистерской защиты «скромной жизни», обстоятельства которой невозможно изменить. В «Идоре» А. Глейха мизантроп, умудренный жизнью, приходит к выводу: «Слабы люди, но зато они достаточно вознаграждены радостями жизни». Двойственность «бидермайера» наглядно сказывается в драматургии Ф. Раймунда, которая становится средством романтической критики складывающегося капитализма. Волшебно-сказочная атмосфера его комедий — арена столкновения добрых и злых сил, воплощенных в феях, магах, волшебниках, аллегорических фигурах. Здесь получает заслуженное вознаграждение бедняк и торжествуют, увы, недостижимые в реальной жизни социальное равенство и взаимная любовь. Конечно, поэтическая атмосфера и высокое нравственное благородство его комедий бесконечно далеки от мещанской удовлетворенности, торжествующей в комедиях Глейха, Бойерле, Майзля. Оттенок романтической печали и иронии, порой трагикомической, резко отличает Раймунда от этих драматургов. Но утверждение гуманистических идеалов и преобразование жизни происходит и у Раймунда в романтически иллюзорном мире. И в этом, и в других случаях действительность выступала в идеализированных формах, хотя и качественно различных.
Творчество Нестроя означало, так сказать, конец «Kunstperiode» в предмартовской Австрии. Это сознавал и сам драматург, когда писал: «Повседневность повсюду заявляет о своих правах». Ряд исследователей справедливо сближают Нестроя с Гейне.
Комедия «Изгнание из волшебного царства, или Тридцать лет из жизни одного непутевого малого» («Die Verbannung aus dem Zauberreiche oder Dreissig Jahre aus dem Leben eines Lumpen») была своеобразным вызовом привычным канонам «моральной драмы». В центре пьесы Нестроя, как и у его предшественников, стоит непутевый молодой человек, которого должны образумить и наставить на путь истинный тяжелые испытания. Однако уже завязка комедии представляет собой издевку комедиографа над идиллической и примитивной схемой. Отец героя — властитель мира духов волшебник Пумпф отправил своего сына Лонгина на землю с целью, чтобы он получил там хорошее воспитание и образование. Но жизнь среди людей не только не усовершенствовала юношу, а, напротив, развратила и испортила ого: общество, его обстоятельства сильней всяких отвлеченных моральных схем, утверждает Нестрой. И его комедия, и сущности, начинается с того, чем должна была бы закончиться моральная комедия — воспитанием героя, но воспитанием со знаком минус. Лонгин — вполне сформировавшийся тип богатого венского бездельника: он грубит отцу и ведет себя крайне развязно, он наделал кучу долгов и в совершенстве, по его словам, изучил «семь свободных искусств»: курил, пил, играл на бильярде, флиртовал. Образ Лонгина полемически направлен против романтической идеализации личности, ибо, как говорит один из героев комедии, этот «образец» он «вычитал в книге природы, а не в романах Вальтера Скотта». По совету воспитателя, Лонгин опять изгоняется для исправления на землю на тридцать лет, и притом — к великой радости непутевого сына. Видимо, он чувствует себя в земной порочной среде как в своей тарелке. Четыре картины земной жизни Лонгина рисуют постепенное нравственное падение героя. В отличие от своих предшественников в жанре «моральной драмы», комедиограф связывает эти эпизоды прочной внутренней логикой развития характера, его моральной деградации. У Глейха, Бойерле, Майзля, напротив, подобные сцены в композиционном отношении зачастую слабо связаны друг с другом. Их пьесы распадаются на ряд отдельных сцен. Полный материальный достаток в сочетании с уродливым оранжерейным воспитанием сделали из Лонгина легкомысленного паразита. Прокутив в Париже долю наследства, полученного от тетки, он вынужден стать жалким бродячим актером, затем трактирным слугой и, наконец, совершает кражу, чтобы как-то выпутаться из карточных долгов, т. к. ему грозит арест. Однако решение совершить кражу со взломом — лишь повод покрыть долги, истинная же причина преступных решений героя коренится глубже. Подобно Бальзаку, рисующему в своих романах растлевающее влияние общества на человеческую личность, Нестрой (хотя, конечно, в несравненно более облегченной, обусловленной комическим жанром форме) изображает душевную борьбу, которая происходит в герое в тот момент, когда ему впервые приходит в голову преступная мысль. Он испытывает укоры совести, колебания и все же признается: «Это меня окончательно доконает! Сидит во мне вкус к раздольной жизни, не могу иначе! Не могу сидеть дома, не могу лить воду, не могу есть хлеб — нет, хочу пить пунш, кофе, гулять, лакать шампанское — первосортное вино...». Слишком въелась ржавчина в душу Лонгина: богатство, растлив ее, создав из героя тунеядца, естественно, приводит его к преступлению. В этом одно из самых важных отличий реалистического образа, созданного драматургом, от образа его предшественников: поведение героя мотивируется не внешним вмешательством сказочно-волшебных сил, а внутренней закономерностью его характера, обусловленного, в свою очередь, влиянием среды. Перед ним встает та же дилемма, которая мучила и героев Бальзака: в этом обществе труд и честная жизнь означают прозябание на хлебе и воде, а «раздольная», сытая жизнь ничего не имеет общего с честностью. Истинная мораль несовместима с реальной жизнью. Нестрой объективирует в комедии этот разлад в душе героя в виде спора двух аллегорических фигур Честности и Вкуса к раздольной жизни.
Стремление драматурга раскрыть внутренний мир героя несомненно перекликалось с художественными усилиями Раймунда. Но легко заметить существенные отличия Нестроя, идущего по пути реализма, от романтика Раймунда. Во-первых, аллегорические фигуры занимают у Нестроя весьма скромное место. Во-вторых, он прибегает к реалистической мотивировке их введения: они появляются как результат сновидения и поэтому более естественно вписываются в конкретную бытовую среду. Но самое главное заключается в том, что внутренняя логика образа объясняется у Нестроя условиями воспитания общественной среды, тогда как у Раймунда, у которого отсутствует такое богатство реальных обстоятельств, социальное обоснование характера скорей лишь угадывается из психологической его правды.
В угоду традиции «моральной драмы» и требованиям дирекции театра Нестрой заканчивает свою комедию, вопреки всей ее логике, возвращением внезапно исправившегося Лонгина в небесные волшебные сферы, где он женится на заждавшейся его фее Урании. Поэтому в композиционном отношении пьеса Нестроя производит двойственное впечатление. Завязка ее вынесена за пределы собственно бытового действия комедии. Она сохраняет в какой-то степени еще старый принцип аллегарико-морализирующего действа, она обнаженно тезисна. Это своеобразный спор о человеке, как и пролог на небесах в гетевском «Фаусте», хотя и лишенный его морально-философской глубины и масштабности. В силу того обстоятельства, само непосредственное действие комедии приобретает, по крайней мере внешне, иллюстративную форму, но по существу вовсе не является иллюстративным, и определяется самодвижением главного характера Лонгина. Да и по содержанию своему оно, как уже известно, противоречит ожидаемой моральной схеме, что, в свою очередь, снижает иллюстративность. Весьма условной оказывается и счастливая традиционная развязка. Не случайно, в отличие от своих предшественников, Нестрой делает две последние сцены развязки очень короткими, тогда как обычно в «моральных драмах» это обширный, торжественно-радостный апофеоз добродетели, роскошная феерия, очень типичная, например, для пьес Раймунда. Драматург ощущал искуственность, формальность таких счастливых финалов и ухитрился вложить в исход своей комедии иронический смысл, разрушающий иллюзию благополучия. Воспитателя, стремящегося вопреки обстоятельствам «перевоспитать» Лонгина, последний в сердцах называет «философским спекулянтом истиной». Эта аттестация относится ко всем благодушным оптимистам, чьи отвлеченные теории отрывали личность от общественной среды.
Отсюда естественно в комедию вторгается и прямая полемика с мещанской драмой Иффланда и Коцебу. Мещанскую драму комедиограф осмеивает за ее слезливую сентиментальность— «иффландовское море слез», за отсутствие в ней истинных страстей, которым нет возможности развернуться «в этих жалких границах», где действуют «нежные отцы семейства». Венский Аристофан иронически противопоставляет этой слезливости «взрывы героического пыла» романтических «рыцарских драм» и «драм о привидениях», влагая в уста Лонгина гротескный панегирик затасканных штампов романтической драматургии. Драматург не желает, чтобы его герои и пьесы походили на прилизанные картинки. Когда фея Урания, невеста Лонгина, узнает, что ее жених стал непутевым малым, она отказывается от него, на что Лонгин остроумно замечает: «Ах, так я должен был вести себя как идеал? Это было бы идеальное представление!».
Отсюда и сложность главного образа комедии. В нем есть, действительно, много порочного, и все же он вызывает симпатию зрителей. От многих прочих персонажей Лоигин отличается простодушием и бескорыстием, он, во всяком случае, искренен и не преследует никаких иных целей, кроме чувственных наслаждений. Его окружают либо порядочные лицемеры-мещане, либо откровенные подлецы и корыстолюбцы. И только Лонгин не может и не хочет приспособиться и поэтому катится по наклонной плоскости. На фоне окружающего его общества наивный и откровенный гедонизм Лонгина является даже своеобразной формой протеста против мира этих лживых и ограниченных душ. Лонгин нередко напоминает образ по-своему поэтичного романтического бродяги, столь распространенный в романтической литературе (например, у Эйхендорфа в его «Дневнике одного бездельника»). Раннее творчество Нестроя еще не свободно от элементов романтической критики складывающегося капитализма и поэтики романтизма, что объясняется глубокой связью драматурга с основами народной жизни, чаяниями народа, часто неотделимыми от романтической, мечты. В беспечности, веселье, остроумии, откровенной приверженности к чувственным радостям, в чистосердечности Лонгина и широте его натуры проявляются и национальные черты австрийского народа, «счастливый и милый характер австрийцев», и особенно веселых и сердечных венцев. Но во всем этом звучит и народное презрение к собственности и скупости, народная насмешка над мещанской добропорядочностью. Это знакомая тема «веселых нищих», но только в специфически австрийско-венской форме.
Новая утверждающаяся в творчестве Нестроя реалистическая концепция личности вызывает разрушение традиционного жанра не только в области композиции. Изменяется роль сказочной фантастики и аллегорических фигур. Чисто волшебно-сказочных пьес у Нестроя нет. Между тем у Глейха, Бойерле, Майзля, Раймунда волшебный план нередко нарушает план реальный, а волшебно-сказочные персонажи часто вмешиваются в ход реального действия, постоянно напоминая о себе герою своими моральными поучениями и механически двигая действие. Напротив, назидательный элемент сведен у Нестроя к самому минимуму, и смысл «Изгнания» вытекает из логики характера и обстоятельств, в которые попадает Лонгин, из реакции героя на них. У Глейха в «Горном духе», у Раймунда в «Брильянте короля духов», «Мастере барометров» человек — как бы орудие в руках этих высших сил, распоряжающихся им. Аллегории и символы предшественников Нестроя — это отчужденные от человека и романтически воспринятые общественные силы и закономерности. У Нестроя же Лонгин действует и опускается все ниже по законам земных обстоятельств и по собственной воле. Показательно в этом отношении сравнить К. Майзля и Нестроя. В пьесе первого Сатира ведет непутевого Фрица во дворец Роскоши, камердинером которого является Порок. Нестрой предпочитает пользоваться не аллегориями. Желая показать порочность героя, его падение, он создает ряд живых образов — баронессы, банкира, он ставит Лонгина в конкретные обстоятельства недоросля и богатого наследника, бродячего актера, слуги, арестанта, он рисует жизнь, а не морализирует.
Аллегорические фигуры у Раймунда сохраняют всю серьезность романтического пафоса и являются воплощением Случая, Старости, Юности, Ненависти и пр. Наоборот, Нестрой окончательно секуляризирует волшебно-сказочный мир и аллегорические фигуры. В царстве волшебника Пумпфа в сущности разыгрывается вполне земная история: любящий отец, его непутевый сын, светская дама, фея Бисгурния, которая навязывает своей дочери пусть даже и непутевого, но зато богатого жениха.
От комедии «Изгнание из волшебного царства» идут нити ко многим дальнейшим произведениям и мотивам раннего творчества Нестроя. Вполне понятно поэтому создание им в 1832 году комедии, направленной против реакционной идеализации мира феодального рыцарства — «Волшебное путешествие в рыцарские времена» («Die Zauberreise in die Ruterzeit»). Кроме того, он пишет в эти годы и ряд блестящих пародий на романтические произведения. Борьба драматурга за реализм усиливается и принимает острый, воинствующий характер.
Отсюда возникает иной тип комизма у Нестроя — сатирический комизм, резко отличающий драматурга от его предшественников. У Глейха, Бойерле, Майзля смех носил зачастую юмористический характер и возникал из внешне нелепых ситуаций, буффонных шуток. У Нестроя он возникает из противоречия между обыденным фактом, поступком героя и теми сентиментально-возвышенными субъективными мотивировками, которые стремится дать им герой-лицемер.
Изменяется функция сказочно-аллегорической фантастики. Она становится средством сатирического обличения, а не средством утверждения романтических идеалов, как у Раймунда, или постной назидательности, как у трех предшественников Нестроя по «моральной драме». По форме эта фантастика еще сказочно-волшебная, по существу она уже реалистическая и ее художественная функция — реалистическая. В сказочный мир нередко забавно проецируется реальная действительность, что остраняет и заостряет сатирическую ситуацию. Это особенно наглядно сказывается во втором акте комедии, когда, по волшебному мановению феи Современности (sic!), оживают рыцарские романы личной библиотеки одной героини: рыцари выходят из книг, начинают действовать, и «романтики» чудесным образом переносятся в излюбленное средневековье. Фантастика носит здесь заведомо условный характер, преследуя двойную цель — пародии на поэтику сказочно-волшебной «моральной драмы» и гротескного изображения современности.
Но ни одна комедия раннего Нестроя не пользовалась таким успехом у зрителя как «Злой дух Лумпацивагабундус, или Неразлучная непутевая троица» (Der böse Geisi Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblat»). К 1881 году она уже насчитывала тысячное представление в различных театрах. Картина жизни у «венского Аристофана» приобретает здесь еще более реалистические и социально острые очертания, взгляд на жизнь становится более философско-обобщенным. Лонгин из «Изгнания» был до известной степени условной фигурой, пришельцем из волшебно-фантастического мира. В «Лумпацивагабундусе» речь идет о судьбе обыкновенных ремесленников, разоряющихся в условиях промышленной революции, переживаемой страной. Драматург рисует процесс имущественной дифференциации, нравственного разложения этой среды, деклассирования ремесленников, заражающихся стремлением к мотовству и безделью, потребительским отношением к жизни. Демократическому зрителю, составлявшему подавляющую часть зрителей пригородных театров, была близка и понятна судьба нестроевских героев. Трем бедным подмастерьям: столяру Лейму, портному Цвирну и сапожнику Книриму Фортуна предоставляет возможность выиграть в лотерее огромную сумму денег, которую они делят между собой поровну. Однако очень скоро ремесленники возвращаются к своей прежней нищете, за исключением Лейма, который становится владельцем мастерской, женившись на давно любимой им Пепи, дочери своего прежнего мастера. Так вновь доказывает драматург всесилие общественных обстоятельств, сформировавших героев. Олицетворением порочного духа этого общества, его нравов является злой дух Лумпацивагабундус. Он проник даже в идеальное царство фей и проводит там успешно свою разрушительную работу. Волшебно-сказочный мир является в этой пьесе еще большей условностью, сказочно-аллегорическим и сатирическим изображением все той же реальной жизни. С самого начала в прологе чувствуется большой драматизм. Поэт переходит к изложению своего тезиса in medias res: несчастье нравственного всеобщего упадка непреоборимо, а Фортуна, то есть богатство, лишь усиливает его. Лумпацивагабундус — всемогущая сила, воплощающая важные тенденции в обществе: «Буду ли я здесь или нет, — говорит он, — эти молодые господа все равно останутся моими сторонниками, ибо мои принципы живут в них».
Успех «Лумпацивагабундуса» побудил Нестроя написать продолжение комедии — «Семьи Цвирн, Книрим и Лейм, или День мировой катастрофы» («Die Familien Zwirn, Knieriem und Leim oder der Weltuntergangstag»). Безжалостная мысль сатирика и реалиста разрушает до конца остатки романтических иллюзий. Если еще в «Лумпацивагабундусе» неразлучная троица, и особенно Лейм, были изображены поэтически, то в «Семьях» они нередко вызывают прямую антипатию зрителей. Нестрой полемизирует с самим собой и, подчиняя развитие характера героя логике жизни, отказывается от сентиментальной сказки о добром и честном Лейме. Лейм теперь — закоренелый обыватель-бюргер, который использовал свою долю выигрыша и наследство жены и собирается породниться с дворянской семьей, насилуя волю дочери и сына. Его подруга, трогательная Пепи, превратилась в злую каргу-мещанку, м-м Лейм. Портной Цвирн продолжает бродяжить и не оставляет своих привычек Дон Жуана. Книрим спился и тиранит семью.
Ф. Раймунд в своей пьесе «Расточитель», написанной в том же году, что и «Семьи», продолжал утверждать: «Прекрасное сословье, поверьте мне, честный ремесленник!».
Безрадостная атмосфера этой комедии еще более усиливается мрачными пророчествами Книрим а о скором наступлении конца света в результате столкновения кометы с землей. Во внешне смешной «астрономической» болтовне невежественного пьянчужки Книрима заключен глубокий смысл, своего рода подтекст. Истинный смысл мировой катастрофы — гибель привычных человеческих взаимоотношений, всеобщее торжество зла и порока, воплощенного в Лумпаци, разорение и нравственное падение ремесленничества. Миропорядок теряет свою разумную форму, и даже трактир, постоянное обиталище Книрима, символически назван «Непонятный порядок». Нестрой подчеркнул эту мысль через волшебно-аллегорический образ глуховатого и ленивого старичка Фатума, которому вовсе нет дела до земных дел. Здесь уже в зародыше содержится та идея, которая будет позже основательно развита драматургом и его комедии «Адский страх» (1849): идея протеста против вековой социальной несправедливости, освящаемой религией, и тесно связанная с этой мыслью проблема активности человека, которому не следует беспомощно оправдывать зло Провидением. В практическом приложении идеи эти приводили к необходимости выяснять земные обстоятельства и общественные взаимосвязи личности.
Но если в «Лумпацивагабундусе» в мировой катастрофе убежден лишь один Книрим, то в «Семьях» ужас перед ней охватывает всех, и припев песни Книрима о комете становится настойчивым лейтмотивом комедии. За беспечным поведением забулдыги Книрима угадывается одиночество, бесприютность, стремление потопить в вине трагическое отчаяние. В его пророчествах содержится затаенная мечта народа о социальном равенстве, столь часто и в прошлом принимавшая мрачно-апокалиптические очертания. После катастрофы, в том будущем «божьем царстве» «исчезнут различия сословий: господа, слуги, милостивый повелитель, благородные барышни и сапожники — все теперь равны».
В комедии Нестроя зарождается недовольство социальной несправедливостью. По мере углубления критики современного общества драматургом, сложней становятся комизм и характеры в его пьесах, как например, Книрим, вызывающий и сочувствие, и отвращение, и веселый смех. Все это в дальнейшем творчестве «венского Аристофана» найдет более широкое развитие в его социально-бытовой комедии.
Любопытна реакция тогдашней венской прессы на постановку комедии. Либеральная критика не отрицала таланта Нестроя, однако с неприязнью отмечала, что он черпает свои образы «исключительно из кабаков и низших классов общества», и явно впадала в противоречие, когда указывала: «Г-н Нестрой — жанрист, искусно и точно схватывающий самые низменные сцены жизни и изображающий их на сцене столь наглядно, что в изумлении и страхе отворачиваешься от них, как от живого портрета». И тут же упрекала его за отсутствие правды, понимая под этим отсутствие «поучительных и отрадных картин» в комедиях драматурга. Либеральной критике не приходились по душе ни демократизм Нестроя, ни безжалостный характер его острой сатиры, которую она называла «пародийной» и «грубой».
Нарастание обличительной тенденции скоро должно было привести в комедии Нестроя к противоречию ее содержания и формы. Трезвый подход к человеку и обществу, стремление выяснить их связи и влияния стали несовместимыми с условной волшебно-фантастической формой, которая постепенно «секуляризировалась». Последней волшебно-сказочной комедией этого периода была «Помолвка в царстве фей, или Равенство возрастов» («Die Verlobungsfest im Feenreiche oder die Gleichheit der Jahre»). Но традиционная волшебно-сказочная комедия уже не удовлетворяла драматурга, и вскоре он основательно переделал эту пьесу, совершенно исключив из нее всякий намек на какие-нибудь сказочно-волшебные и аллегорические элементы. Новый вариант он назвал просто «Равенство возрастов». Волшебный пролог, в котором происходил спор феи Репины с властителем волшебного царства относительно равенства возрастов в браке, был опущен, ибо эта проблема в обществе, где все определяют деньги, абсолютно несущественна. Фея превратилась в богатую капиталистку (как указывает сам автор) г-жу Гельдкатц, и действие начиналось теперь не в условном царстве фей, а в доме лесничего, г-на фон Гиршвальда, сватающегося к госпоже. Однако богачка убеждена, что, несмотря на свой пожилой возраст, она приобретет за свои деньги молодого жениха и отвергает предложение лесничего. Лишенная каких-либо моральных устоев, эта эгоистка не останавливается и перед преступлением: она совершает ограбление кассы сборщика таможенных пошлин с тем, чтобы, предложив несчастному чиновнику в тяжелую минуту свою финансовую помощь, обязать его женить на ней молодого Эдуарда, сына таможенника. Образ Регины в новом облике Гельдкатц приобрел реалистическую мотивировку и социальную определенность.
В таком же направлении шла работа Нестроя и над образом Эдуарда. Если в первой редакции комедии это был довольно бесцветный «голубой герой», то во второй редакции он превратился в студента-бурша, забияку, азартного игрока с задатками барчука, по-аристократически относящегося к крестьянам. Ради денег он готов «жениться даже на внучке самой ведьмы Мегеры». Феи и ведьмы волшебного царства окончательно спустились на землю и приобрели облик земной Мегеры — капиталистки Гельдкатц, страшной не споим внешним обликом, а своей черной «адской» душой и своими делами. К середине 30-х годов переход от волшебно-сказочных комедий к социально-бытовой комедии в творчестве Нестроя завершился.
Л-ра: Вопросы национальной специфики произведений зарубежной литературы 19-20 вв. – Иваново, 1979. – С. 14-29.
Критика