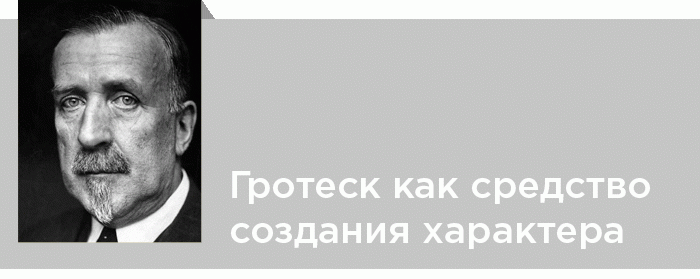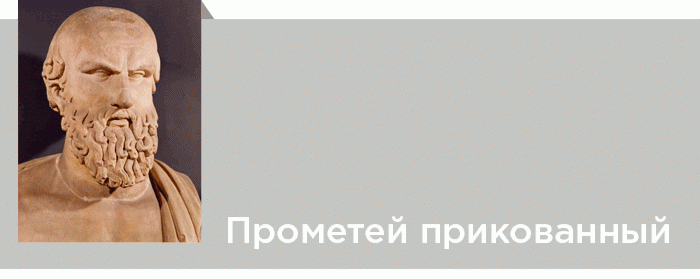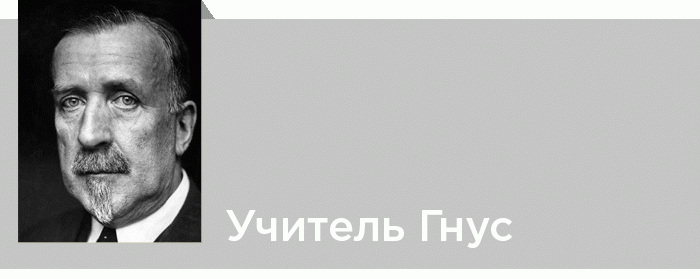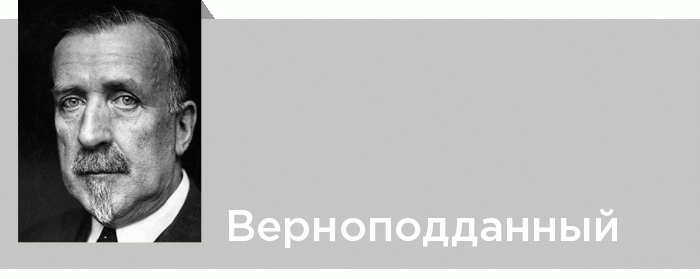О могуществе и заблуждениях разума (эссе Генриха Манна «Дух и действие» и «Вольтер и Гёте»)

Г. В. Ховрина
«Поразительно доказывает... история, что немецкая мысль, предаваясь комфортабельному самодовольству, к сожалению, слишком часто упускала из виду необходимость сочетаться с живою народною силою, и произвести путем этого союза свой прекраснейший плод, дело», — писал во второй половине XIX в. известный либеральный филолог и историк культуры Иоганн Шерр.
Синтез Geist und Tat, духа и действия, мощного устремления передовой мысли и жизненного ее воплощения — сколько лучших умов Германии долгие годы билось над разрешением этой проблемы! Она увлекала и выдающегося немецкого писателя современности Генриха Манна.
Возникнув впервые на страницах его ранних произведений как тема борьбы между артистическим началом и потребностью жизненной активности в душе художника (новеллы «Бранцилла», «Пиппо Спано», повесть «Актриса» и др.), утвердившись в качестве основного конфликта романа «Между расами», эта проблема в значительной мере определила дальнейшие творческие искания писателя, увенчавшиеся идеалом единства духа и действия в дилогии о Генрихе Четвертом.
Необходимость преодоления разрыва между этими двумя своеобразными проявлениями человеческого могущества стала центральной темой Генриха Манна как литературного критика, темой, из которой на всех этапах его творчества, пусть не всегда с одинаковой отчетливостью, так или иначе исходят и к которой сводятся многочисленные специфически писательские проблемы его эссеистики. Более того, именно литературно-критические статьи, в силу обнаженности хода теоретической мысли, «однозначности» утверждений, сплошь и рядом звучащих как афоризмы и даже лозунги, в силу неприкрытой полемической остроты особенно четко и наглядно показывают позицию их автора — художника, мыслителя, гражданина.
Программными и в то же время ключевыми в этом отношении являются написанные Г. Манном в 1910 г. эссе «Дух и действие» и «Вольтер и Гёте». Не только временное, но близкое тематическое и идейное родство позволяют рассматривать их вместе, как некое целое.
Не без влияния самого писателя в советском и в зарубежном литературоведении утвердилось мнение, что мировоззрение Генриха Манна сформировалось под решающим влиянием французского Просвещения. В исследуемых нами статьях это мнение на первый взгляд подтверждается безоговорочно и бесспорно: упования на разум и его конечное торжество, проповедь свободы, равенства и братства, постоянные ссылки на Великую французскую революцию, обращения к примерам Вольтера, Руссо и т. д.
Но необходимо сделать одно существенное уточнение: миропонимание Генриха Манна, безусловно, воспринявшее многие идеи французских просветителей, по ряду принципиальных положений берет истоки в отечественной философии, в частности, у Канта и Фихте, «переведших» на язык немецкой философской науки достижения мысли современной им революционной Франции.
Представление об исторических фазах как о стадиях вечно развивающегося духа — в противовес антиисторизму французских просветителей — по всей вероятности, пришло к Генриху Манну, непосредственно или опосредованно, от Гегеля. Сходна с гегелевским учением и оценка доминантной, образующей способности духа. Правда, «дух» Генриха Манна, в отличие от гегелевского, идентичен разуму. Но это отнюдь не означает, что формула, полученная путем замены духа «разумом», уподобляется знаменитому просветительскому положению «Разум правит миром».
К картине истории Г. Манн подходит с позиции наболевшей немецкой проблемы, т. е. со стороны противоречия духа и действия. Трагизм этого противоречия и необходимость гармоничного его разрешения определяют, собственно, и отношение писателя к Просвещению и революции во Франции. В этой революции он видит яркий и поучительный пример сочетания духа с действием, а в просветителях — носителей духа, подготовивших революцию.
Таким образом, в представлении Генриха Манна разум сам по себе еще не правит миром; не соединенный с действием, он бесполезен — пример тому Германия, чьи люди «широтой мысли... превосходили всех, подымались до вершин чистого разума, додумывались до небытия: в стране же царил произвол и кулачное право». Разум же, воплощенный в действии, движет прогрессом истории, подтверждением чему служит французская революция.
Здесь писатель противопоставляет немецкую и французскую традиции — не только исторические, но и философские: он категорически отказывается от провозглашенного Кантом и подтвержденного Гегелем принципа удовлетворенности личным знанием, имманентной свободой внутреннего. Признавая эту внутреннюю свободу необходимой, он не считает ее достаточной.
Напротив, сама идея просветительства привлекает Генриха Манна именно потому, что требует выхода разума за пределы индивида, превращения его в общественное, народное достояние. Поэтому и во французском Просвещении писатель отчетливо различает две линии: «вольтеровскую», буржуазную («Он буржуа, который одинаково ненавидит аристократию и народ и одинаково их боится. Его ненависть к Руссо — это ненависть буржуа к человеку из народа»), и «руссоистскую», демократическую.
Все симпатии Манна на стороне последней. Разум в его понимании есть свойство сугубо человеческое и всечеловеческое; следовательно, он по природе своей демократичен, стремится к равенству; именно «страстность разума», «Die Leidenschaft des Geistes», утверждает Манн, спасла Вольтера от буржуазной ограниченности, помогая ему подняться до понимания народных задач. Разум стремится к свободе — в гражданском, политическом смысле этого слова («Свобода — это конечная цель разума... это прогресс и человечность ... это равенство»). Монархия неразумна, антигуманна, ибо она «государство господ... организация человеконенавистничества и его школа». Поэтому для воплощения духа в действие необходим «народ, способный воевать за разум, воплощенный Ratio militans».
Так выявляется еще одно требование к разуму, предъявляемое автором эссе, — требование активности, максимальной действенности.
Если вспомнить Лиона Фейхтвангера, писателя сходной с Генрихом Манном судьбы и одного поколения, также ориентирующегося на эпоху Великой французской революции, вспомнить его трактовку разума — прогресса как «невидимого кормчего истории», исподволь и неуклонно ведущего человечество вперед, то станет особенно очевидным то принципиально новое, что внес в понимание просветительского разума Генрих Манн.
Разум у Манна не трансцендентен, а человечен и зависит от воли и сознания людей. Пусть «в самой природе вещей заложена необходимость „развития“», — оно, это развитие, утверждает писатель, само по себе никогда и нигде не обеспечит ничего, кроме минимума жизненных возможностей — но не свободу, не справедливость, не человеческое достоинство. «Делать ставку на развитие — значит отдаться на милость природы; но никогда еще не бывало, чтобы природа дала нечто сверх положенного. Нужен дух, нужен бунт человека против природы, ее медлительности и суровости».
И все же обусловленность разума замыкается у Генриха Манна в идеалистическом, кругу внутренних, спонтанных импульсов: разум «сам предъявляет требования, исходя из своих внутренних законов, исходя из справедливости и правды».
Особый интерес представляют эосе Г. Манна «Дух и действие» и «Вольтер и Гёте» как обстоятельное и обоснованное теоретическое размежевание с философской (и эстетической), социальной и политической позицией Ницше, как начало борьбы с «ницшеанским» направлением умов немецкой интеллигенции.
Вопреки постулировавшемуся Шопенгауэром в качестве общечеловеческой и неизменной нормы разрыву интеллекта и воли, утвержденному его учеником Ницше как принципиальная враждебность, несовместимость разума и действия («Полная решительность в мышлении и исследовании, т. е., свободомыслие ...делает умеренным в действовании...»), Генрих (Манн провозглашает необходимость синтеза духовного и деятельного начал.
Если у Ницше, вслед за Шопенгауэром, разум находит высшее удовлетворение в созерцательном спокойствии, то для Г. Манна он оправдывает себя прежде всего как стимул к действию. Отсюда гуманизм и демократизм разума в трактовке Г. Манна, разума, призванного служить людям и улучшать им жизнь, в противоположность эзотеричности разума элиты, «олигархов духа» у Ницше.
От принципа недоступности разума, высшего духовного начала народным массам всего один шаг до социальной и политической реакционности, — и этот шаг Ницше делает, возмущаясь «требованием равенства прав», которое якобы «вытекает отнюдь не из справедливости, а из алчности». При этом Ницше утверждает, что «более высокая культура сможет возникнуть лишь там, где существуют... каста принудительного труда и каста свободного труда» и, что народ в целом не может быть велик, а значение имеют лишь отдельные крупные личности.
Разум же Генриха Манна требует поднятия не единиц, а масс на более высокую культурную ступень, его идеал — это тип интеллигентного человека, ставший преобладающим в народе, и именно этим общим интеллектуальным уровнем измеряется, по мысли Г. Манна, достоинство и значимость нации.
С гневом обрушивается писатель на «гениев», «великих людей» (в ницшеанском понимании этих слов), упивающихся своей самоценностью, стоящих над толпой и взращенных «на самоотречении целых поколений», саркастически третирует антигуманную идею «сверхличности»: «Нельзя позволить, чтобы фабриканту шерстяных изделий или газетному борзописцу внушалось желание стать сверхчеловеком, в то время когда они еще не стали обычными людьми».
В противовес Ницше Генрих Манн, следуя за классической немецкой философской и литературной (Шиллер) традицией, утверждает необходимость согласования сердца и разума, чувственного и рационального начал. В области эстетики это умение «находить равновесие между интенсивностью чувственного начала и силой и ясностью разума» предполагает, по мысли Г. Манна, равнение на французских писателей, сумевших воспитать демократическое сознание; в области социально-политической оно (опять-таки у французов) демонстрирует способность привести к целенаправленному деянию — революции.
Нетрудно заметить, как разум ницшеанского толка, изолированный от действия, воли, чувственного и морального начал (доброта, по словам Ницше, неразумна) лишается, таким образом, своих материальных корней и естественной атмосферы существования, равно как и атрибутивных свойств управления, координирования, незаметно и закономерно подменяясь антирационалистическим интуитивизмом.
С другой стороны, разум в понимании Генриха Манна, соизмеримый со всем человеческим и в то же время корректирующий, направляющий его, жаждущий действия и к нему ведущий, вырастает до масштабов демиурга истории.
Поэтому столь велика роль, отводимая Генрихом Манном носителям разума — философам и писателям прежде всего. Чтобы воплотить в реальность идеальные категории добра, справедливости, равенства, т. е. привести к разумной организации общества (республике), эти своеобразные посредники между сферами духовного и материального должны, по его мысли, дать народу идею, воодушевить массы — так, как в конце XVIII в. поступали французские философы и писатели.
К оценке каждого художника Генрих Манн подходит с одной решающей мерой — степенью полезности, действенности, народности его творчества, т. е. мерой, по сравнению с которой второстепенными представляются и обаяние личности, и даже масштабы таланта. Так, Руссо вспоминается немецким писателем как создатель «идеалистических романов», а в устах Генриха Манна «идеалистический» означало «неправдоподобный», недостаточный в художественном отношении. Но в то же время, утверждает Генрих Манн, Жан-Жак велик в силу правильного понимания задач духа, диктуемых временем. Он сумел дойти до народа и тем самым выполнил свою миссию.
В этом разделении понятий полезного и прекрасного ощутимо влияние на автора отечественной эстетики — Канта, а также Гегеля. Но, в отличие от Канта, Г. Манн при оценке произведения искусства выдвигает на первый план критерий полезности, а в отличие от Гегеля, отнюдь не отождествляет критическое направление в литературе с разрушением прекрасного, т. е. искусства вообще.
С точки зрения общественной значимости творчества как определяющего критерия Генрих Манн противопоставляет Вольтера и Гёте.
Вряд ли стоит в образах этих двух писателей, бегло, но энергично выписанных автором эссе, искать исторически верные портреты и исторически объективную истину. В особенности это касается Гёте.
Литературно-критические статьи Г. Манна, рождавшиеся всегда как непосредственный отклик на злобу дня, полемичны и пристрастны. В данном случае проблема синтеза духа и действия, ждущая, по мнению Г. Манна, своего решения прежде всего от носителей духа, заставляет писателя выступить с максимально острым обличением пассивности интеллектуалов Германии. И самым «подходящим» объектом для такого обличения Г. Манн считает Гёте.
Насколько ошибочен этот выбор объекта критики, насколько «ницшеанской», помимо воли автора, является трактовка Гёте как олимпийца, Генрих Манн поймет позже, спустя несколько десятилетий. И даст справедливую оценку великому автору «Фауста» как провозвестнику лучшего будущего.
Пока же Гёте служит для Генриха Манна средоточием, наиболее полным и ярким выражением пороков немецкого духа — словом, незаслуженно дурным средством для достижения благой цели: показать ложность, преступность созерцания и невмешательства.
Генрих Манн признает, что Гёте гениален и грандиозен, он всеобъемлющ — в то время как Вольтер односторонен, и если в гётевских творениях «отражается бесконечно богатая душа вселенной», то «в фантастических произведениях Вольтера — ее академическая схема». Но это нисколько не мешает Манну утвердить победу Вольтера над Гёте, поскольку последний, пишет автор эссе, «провозглашал справедливость, равенство и свободу для угнетенных лишь в тех сферах, в которых человека может утешить поэзия», был равнодушен к бедам и страданиям малых сих, а Вальтер боролся «во прахе, и крови за человечество».
Таким образом, дух, замкнутый сам в себе и безучастный к жизни, упивающийся «своим тайным знанием и своей внутренней жизнью», не истинен, ибо, по мысли Г. Манна, истинно не то, что достигается только разумом, но то, что рождается в соприкосновении разума с действием. Истинен путь Вольтера, подвигнувшего свой народ на революцию, и ложен путь Гёте, чье «имя, мысль о нем ничего не изменили в Германии, не проложили пути в лучшее будущее, не помешали ни одному бесчеловечному поступку».
Эта неистинность, ложность позиции, избранной носителем разума, противостоит естественным тенденциям разума и тем самым предает его. Предает потому, что интеллигент-созерцатель вольно или невольно пристраивается к касте господ, в то время как разум, дух по сути своей всегда благородно воинствен, непримирим и беспокоен.
Созерцательность Гёте представляется Г. Манну выражением индифферентности самой природы — беспредельной и гармоничной, в отличие от оружия человека, разума, но именно в силу безграничности включающей в себя как добро, так и зло и потому равнодушной к дисгармониям человеческого бытия.
Так, «пантеистическая» философская позиция созерцания, говорит Генрих Манн, объективно приводит к обывательскому кредо трусливого невмешательства.
Тут небезынтересно вспомнить Томаса Манна, чей взгляд на Гёте (с самого начала отличающийся большей широтой и терпимостью) также претерпел известную эволюцию от постулата аристократического олимпийства великого поэта до признания его демократизма и гуманности. Квалифицируя Гёте, как и его старший брат, в качестве безмятежного сына природы, Томас Манн, однако, ничуть не оскорбляется этим и видит в «безучастии» Гёте к земным делам естественное свойство, даже положительное качество гения, в то время как для Генриха Манна это есть вынужденное состояние Гёте, не закономерное воплощение, но ограничение тенденций, заложенных в его натуре.
Генрих Манн сомневается в неуязвимости презрительного отношения Гёте к французской революции, видя здесь «боль человека, принадлежащего к бездействующему народу, человека, прикованного к извечному порядку вещей», вспоминает о благородной, но не увенчавшейся успехом попытке Гёте освободить население Веймара от бремени феодального охотничьего права, утверждая тем самым стремление духа Гёте к действию, желание «выйти из вечности в современность»: «Hattenicht auch er wirken, aus der Ewigkeit in der Tag übergreifen wollen?».
Подступая таким образом к разрушению легенды о спокойствии и самоудовлетворенности, полной внутренней гармонии Гёте, проницательно предвидя муки неосуществленных потенций в душе великого поэта, «обузданного» временем (позднее Томас Манн также придет к признанию внутренней дисгармонии мнимого олимпийца), Генрих Манн пишет о Гёте: «Его внутренняя свобода является в действительности попыткой найти красивую рамку для жизни, в которой было много самоотречения, много затаенного. Тайный позор Гёте раскрывается в его признании, что в течение всей своей жизни, этой великой, богатой, славной жизни он испытывал робость в присутствии каждого дворянина, одетого в форму лейтенанта».
Не случайно автор эссе называет Гёте немецким вариантом жизни Вольтера: разрыв духа и действия, по мысли Манна, не есть изначально присущее свойство немецкого гения как такового, но результат позорной, «буржуазной» немецкой действительности, не созвучной, не достойной, не конгениальной Гёте, но тем не менее влияющей на него.
Взаимоотношения выдающейся личности и современного ей общества (прежде всего народа) представляются в исследуемых эссе проблемой сложной, противоречивой и не до конца осознанной.
Особая, как бы над-стоящая роль носителя духа, должного вовремя «спускать» идеи массам — таково заблуждение французских Просветителей. Именно национальный, собственно немецкий взгляд на историю и общество помогает Генриху Манну понять порочность и антидемократизм такого противостояния, поскольку оно способствует углублению пропасти между духом и действием, как бы узаконивает ее. И несчастье Германии, по мнению писателя, в том, что «свойственная немцам переоценка исключительного» привела к гипертрофированию выдающейся личности за счет народа («чудо человеческого совершенства, взращенное на самоотречении целых поколений», «махровый чудо-цветок на живом перегное нации») и ее обособлению от масс — наивно-механистический диагноз, но верно найденная болезнь.
Поэтому с такой силой звучит у автора эссе тема выхода личности в общество, призыв к писателям не превращать своей избранности в культ собственной личности, пророческое и актуально звучащее утверждение, что «тип интеллигентного человека должен стать преобладающим в народе, который... хочет подняться на высшую ступень».
Поддержка народа провозглашается Генрихом Манном непременным условием силы и влиятельности носителя духа. Но обеспечить эту поддержку, поднять народ на должную интеллектуальную ступень обязаны сами писатели и философы.
Так, детерминированность народного сознания мыслится Г. Манном все же однолинейно, лишь со стороны великих личностей. Поэтому, идеалистически противопоставляя французский и немецкий народы как различные нравственно-психологические совокупности (по характеристике, данной в эссе, французы доверчивы, обладают страстностью художественного темперамента, полагаются на силу духа; немцы скептически относятся к мощи разума, предпочитают сытое рабство борьбе, цепляются из-за трусости и умственной неподвижности за ложь и несправедливость и т. п.), видя в последних причину мещанского долготерпения немцев и революционности французов, Генрих Манн возлагает на писателей и философов ответственность за так или иначе сложившееся народное сознание.
«Идейным вождям Франции, от Руссо до Золя, — пишет Г. Манн, — было легко, у них были солдаты», так как сами они сумели воспитать у своего народа демократическое сознание. И произошло это потому, что французских писателей, даже самых значительных, «окружающий мир интересует... больше, чем собственная личность. Сердцем и разумом они стремятся слиться с людьми, со своим народом». Для писателей Германии жизнь народа была «лишь символом их собственных возвышенных переживаний. Они отводили окружающему миру роль статиста, никогда их прекрасные страсти не имели ничего общего с той схваткой, которая шла внизу, они не знали демократии и презирают ее» («...haben die Demokratie nicht gekannt und haben sie verachtet»).
Как и при оценке Гёте, полярность противопоставления двух национальных литератур и категоричность сурового осуждения немецкой литературы следует отнести за счет злободневного полемического запала автора. Однако сейчас для нас важно то, что в этом противопоставлении выявляются эстетическая программа и гражданская платформа Генриха Манна, проясняются те задачи, которые он ставил перед писателями, носителями разума.
Первая и главная из них — воспитательная, образовательная функция литературы. В определенной мере это, конечно, является продолжением традиции французского Просвещения, но не следует забывать, что и немецкое Просвещение вынашивало подобную идею, например, мечты Шиллера об «эстетическом воспитании» народа. Причем в эстетике Генриха Манна эта воспитательная функция обогащается критическими тенденциями, которые должны направляться на общего с народом врага — несправедливую власть.
Требование экзотеричности творчества писателя, естественно, рождает требование понятности доступности литературных произведений. Следует заметить, что и здесь Г. Манн является преемником национальной эстетической мысли, в частности Канта и Гегеля. Вспомним хотя бы утверждение Гегеля о том, что поэт творит для публики и, в первую очередь, для своего народа и своей эпохи, которые имеют право требовать, чтобы художественное произведение было народу понятно и близко».
Если писатель творит согласно времени и для общества, то очевидны детерминированность и тенденциозность его творчества. И Генрих Манн конкретизирует эти понятия, утверждая, что именно насущными потребностями народа обусловлен и вдохновлен труд литератора. Отсюда постулат демократичности истинного искусства. Демократичность, неразрывная многосторонняя связь с массами имеет своим истоком глубокое постижение жизни, а результатом — действенность искусства. Такому искусству Г. Манн предоставляет поистине неограниченные возможности. Именно литература, доказательства разума, духовный фактор, утверждает он, сумели подвигнуть французский народ на революцию: «Этот народ не совершал революции, пока он только голодал; он совершил ее, когда узнал, что на свете есть справедливость и правда».
Однако здесь коренится и основное заблуждение разума в трактовке Генриха Манна — переоценка собственных сил, убеждение, что в самом разуме как таковом заложено все необходимое для изменения действительности, играющей по отношению к разуму лишь подчиненную роль.
Спору нет, могущество идей в жизни общества, в историческом процессе действительно велико, но игнорирование обратного влияния действительности на разум есть пагубная односторонность. Ведь провозглашаемый таким образом постулат спонтанности, саморазвития разума, идущего параллельно с развитием общества, но стоящего над ним, упускает из виду то, что действительность не только воплощает разум, но и является истоком разума, ферментом его и даже коррективом.
Непонятность диалектики взаимоотношений разума и действительности мешает Генриху Манну прийти к верному представлению о взаимоотношениях выдающейся личности и народа. С одной стороны, носителями разума являются единицы — это естественно вытекает из особого, «руководящего» положения разума в трактовке Г. Манна. С другой стороны, демократизм, заложенный, по Манну, в самой сути разума, требует и интеллектуального равенства, понимаемого им несколько прямолинейно и ведущего к гневным филиппикам против гениев как таковых, якобы эгоистически забирающих у нации ее плодотворные соки. Это создает в эстетике Г. Манна неразрешимое противоречие.
И еще: если разум, принятый Г. Манном за нечто самоценное и само из себя возникающее, нуждается в действии только как в средстве для того, чтобы стать фактом, то преимущественное право активности оставляется за носителями разума, но не за массами: именно избранники, по мнению Г. Манна, должны преодолеть пропасть между духом и действием.
Определенное противопоставление разума действительности (как началу неразумному, индифферентному) влечет за собой и более обобщающее противопоставление разума природе как искони враждебных субстанций. А в эстетическом плане это приводит, может быть невольно, к разрыву «идейного» и «прекрасного», т. е. содержания и формы в художественном произведении. Вспомним опять-таки противопоставление «не прекрасных», но важных и нужных творений Вольтера прекрасным, но «бесполезным» детищам Гёте».
Некоторые из заблуждений разума, очевидных в статьях «Дух и действие» и «Вольтер и Гёте», были впоследствии преодолены Генрихом Манном: например, уже в 1915 г., в эссе «Золя» синтез разумного и прекрасного, гармония содержания и формы выдвигаются как необходимое свойство искусства. Но представление об управляющей способности духа останется непоколебимым. В итоговой мемуарно-публицистической книге «Обзор века» (1945) писатель снова скажет, что русская революция вышла из столетия русского романа...
Генрих Манн, в свое время духовный вождь либеральной немецкой интеллигенции, представитель и продолжатель классической философской и литературной отечественных традиций, сколько бы не предпринималось попыток отлучить от них писателя, — и в своем художественном творчестве, и в литературной критике отразил поиски прогрессивной буржуазной интеллигенции Германии начала века. Эти поиски, естественно, приводили и к ошибкам, послужившим уроком для нового немецкого поколения, уже не полагающегося только на разум доминирующих единиц и добрую волю воспринимающих масс.
Но эти поиски помогли сформулировать и важнейшее требование, предъявляемое человечеством к разуму и особенно необходимое в середине XX в., когда могущество разума стало наглядным, как никогда. Это требование ответственности разума, призванного служить для блага людей и только для их блага, ответственности, которая, по словам Макса Фриша, и есть признак настоящего человеческого духа.
Л-ра: Вестник МГУ. Филология. – 1969. – № 1. – С. 71-80.
Произведения
Критика