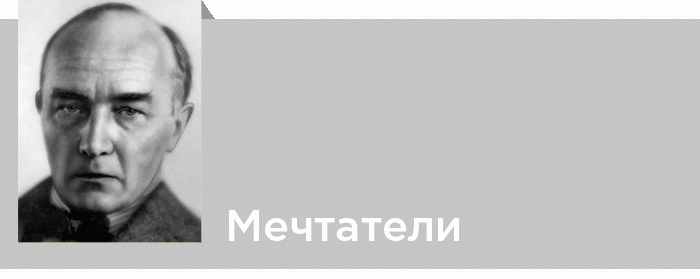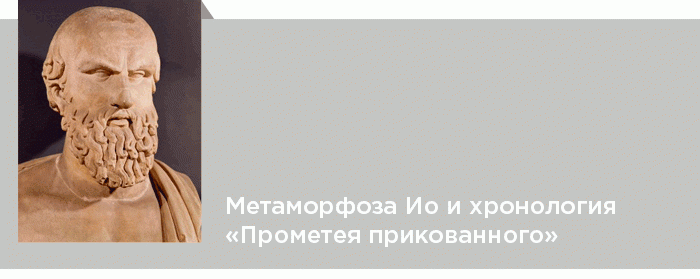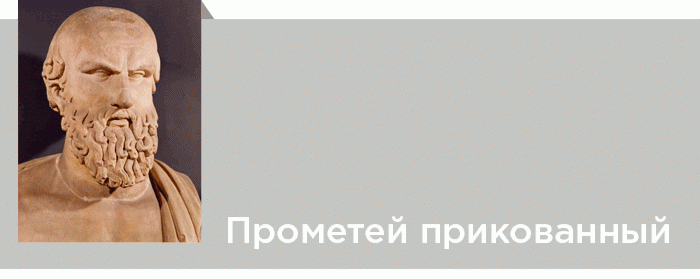Бернгард Келлерман. Голубая лента

(Отрывок)
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Четырнадцатого апреля 1912 года, в 11 часов 40 минут вечера, английский пароход «Титаник», принадлежавший компании «Уайт стар», затонул в Северной Атлантике, наскочив на айсберг по пути из Европы в Нью-Йорк.
Из 3547 человек, находившихся на борту, 1517 погибли. Расследование обстоятельств катастрофы показало, что на спасательных шлюпках «Титаника» было 1178 посадочных мест, но даже и эта цифра вдвое превышала количество, предписывавшееся тогдашними инструкциями. Расследование показало также, что один из директоров компании, сопровождавший «Титаник» в его первом рейсе, оказывал давление на капитана. Эти подлинные факты, как и в некоторых других художественных произведениях о гибели «Титаника», послужили реальной основой для «Голубой ленты». Действие романа перенесено в другое время, события и люди, изображенные в нем, разумеется, лишь плод творческой фантазии автора, на которую он бесспорно имеет право.
После гибели «Титаника» во всех странах были введены более жесткие инструкции относительно спасательных средств и радиослужбы на судах, и надо полагать, что повторение таких трагических событий впредь исключено.
Автор
Часть первая
1
Завыла сирена. Воздух содрогнулся, заклокотал, потом наполнился глухим гулом, который, нарастая все сильнее и сильнее, поглотил шум гавани и многоязыкий говор людей.
То был голос «Космоса». Он стоял тут же, у причала, величайший в мире корабль и, пожалуй, самый красивый из всех, когда-либо построенных человеком, — восьмиэтажная крепость из черных стальных плит. В сотнях тысяч заклепок на ее корпусе, казалось, не умолкло еще эхо электрических молотков. Словно сказочный город из сверкающего хрусталя, высились белые ярусы палуб, а над ними три красные низкие трубы выталкивали густые черные клубы дыма. Палубы кишели пассажирами. Оставались считанные минуты: «Космос» выходил в открытое море, он отправлялся в свой первый рейс на Нью-Йорк.
Сквозь черную броню судна донесся сигнал, и рабочие тотчас откатили в сторону высокий трап. Теперь только широкие сходни связывали пароход с сушей.
По набережной проносились автомобили, трещали мотоциклы, доставлявшие на борт телеграммы. В самую последнюю минуту примчались три огромные, точно мебельные фургоны, почтовые машины, до отказа набитые мешками. Откуда-то сверху, из шипящего облака пара, спустились вниз большие сети; они подхватили и подняли на борт мешки с почтой, на которых пестрели цвета национальных флагов всех стран Европы. Три тысячи таких мешков уже лежали в почтовых трюмах «Космоса».
Все еще прибывали запоздавшие пассажиры. В небрежно накинутой на плечи шубке, прижимая к себе охапку алых роз, в роскошном автомобиле подъехала дама. Лицо ее раскраснелось от волнения и свежего апрельского ветра, дувшего с моря. Не успел автомобиль остановиться, как к нему ринулись фоторепортеры и буквально обстреляли его беглым огнем магниевых вспышек. Один из них вскочил на подножку и, точно пистолет, нацелил фотографический аппарат в лицо даме. Над головами проплыла кинокамера. Но дама принимала все это как должное, она была в хорошем настроении и смеялась. В этот момент к автомобилю церемонно приблизился г-н Папе, старший стюард, человек с бледным, чуть одутловатым лицом; сопровождавшие его стюарды в белых куртках подхватили саквояжи, поданные шофером. Дама с алыми розами, улыбаясь, вскинула иссиня-серые сияющие глаза и последовала за старшим стюардом к сходням. Толпа репортеров устремилась за ней.
На нижней прогулочной палубе в самой сутолоке, среди возбужденных, торопливо снующих пассажиров, стоял один из директоров пароходной компании и начальник отдела рекламы г-н Хенрики, высокий, элегантный мужчина с безупречно ровным пробором в стальной седине волос, — «примадонна» рейса. Он беседовал с каким-то маленьким, очень важным господином с изящной седой бородкой, который быстро говорил по-французски с резким иностранным акцентом. Директор Хенрики вежливо улыбался, но у него то и дело нервно вздрагивала бровь. Подошел стюард, и директор Хенрики, тотчас обернувшись к нему, извинился перед собеседником:
— Простите, ваше превосходительство! Одну секунду.
Торопливо пробравшись сквозь толпу пассажиров, директор Хенрики с большим достоинством и с выражением глубочайшего уважения приблизился к даме в небрежно накинутой на плечи шубке, прижимавшей к себе охапку роз, и отрекомендовался:
— Директор Хенрики! — Он склонил голову в почтительном поклоне. — Мне доставляет особенную радость и честь, госпожа Кёнигсгартен, приветствовать вас от имени пароходной компании, — торжественно произнес он, еще раз поклонился и попросил г-жу Кёнигсгартен оказать ему честь и позволить лично проводить ее в отведенную ей каюту. — Наша компания сделала все возможное, чтобы угодить столь знаменитой пассажирке.
Госпожа Кёнигсгартен смущенно улыбнулась, она едва слушала, что он говорит, и ответила вежливой, ничего не значащей фразой. Ох, если бы люди оставили ее в покое, она так устала от разговоров! У нее был сильный венский акцент.
— Прошу теперь налево, сударыня. На новом корабле нелегко ориентироваться. Даже мне.
— Великолепный корабль! Просто удивительный! — сказала г-жа Кёнигсгартен.
Директор Хенрики польщено улыбнулся.
— Мы приложили к этому все старания, сударыня. — Хенрики вошел с ней в сверкающую никелем кабину лифта. — Ваша каюта двумя этажами выше.
Только в лифте он отважился пристальней посмотреть на знаменитую певицу. Легкий румянец на ее лице был кирпичного оттенка, упрямый рот резко очерчен, на верхней губе нежный золотистый пушок и мелкие жемчужинки пота. Он видел это лицо со сцены. Лицо Изольды, Тоски. В волнах музыки, в магическом мерцании софитов оно излучало какой-то внутренний свет. Необычайная простота этого открытого лица, которое он видел теперь так близко, смутила его. «Вот это женщина, замечательная женщина!» — подумал Хенрики и, когда она взглянула на него, сказал:
— Вчера, по сообщениям газет, вы еще пели в Брюсселе.
— Я и приехала прямо из Брюсселя.
— На борту у нас целый рой журналистов, они подкарауливают вас, — продолжал оживленно Хенрики, идя за ней по бесконечно длинному коридору. — И Нью-Йорк ждет вас с большим нетерпением. Ну вот мы и пришли, госпожа Кёнигсгартен, прошу вас!
Госпожа Кёнигсгартен заказала каюту первого класса, но, к ее изумлению, пароходная компания предоставила в ее распоряжение целые апартаменты — салон, спальню и ванную комнату. В довершение всего в салоне стоял новехонький кабинетный рояль. На крышке — вазы с цветами и тут же открытки и письма, полученные на ее имя.
Певица поблагодарила.
Больше всего ее обрадовал маленький рояль. Он показался ей таким уютным.
— Что за прелесть! Вы оказали мне поистине большую любезность, господин директор! — сказала она.
Ее иссиня-серые глаза смотрели на Хенрики с детской наивностью и удивлением. Хенрики спросил, не пожелает ли г-жа Кёнигсгартен еще чего-нибудь, быть может — прохладительного. Она еще раз поблагодарила, ей ничего больше не нужно, и директор попросил разрешения удалиться: что поделаешь — служба…
Госпожа Кёнигсгартен опустилась в кресло и с наслаждением зевнула. «Слава богу, ушел», — подумала она и лукаво усмехнулась.
— Марта, Марта, ты здесь? — позвала она хриплым от усталости голосом.
В дверях ванной комнаты появилась пожилая, сутуловатая женщина с суровым крестьянским лицом, в скромном платье горничной. Темное, будто вырезанное из мореного дуба, лицо ее было на редкость некрасивым, но прекрасные большие карие глаза сияли глубокой радостью, словно она встретила г-жу Кёнигсгартен после долгой разлуки.
— Слава богу, ты здесь, Ева! — воскликнула Марта, искренне обрадованная. Она уже начала было беспокоиться, что Ева опоздает на пароход и ей придется ехать в Нью-Йорк одной.
Ева рассмеялась.
— А я, как видишь, приехала вовремя. Ну, как у тебя дела? — Ева была счастлива, что снова видит это преданное существо. Она сразу почувствовала себя дома.
Марта пристально разглядывала Еву и недовольно качала головой.
— У тебя усталый вид, Ева, очень усталый! Эта жизнь, эти люди доконают тебя!
— Ах, оставь, Марта, пожалуйста. А кофе у тебя есть?
— Сейчас сварю, вода уже закипает!
— Но только покрепче, слышишь, как можно крепче!
И г-жа Кёнигсгартен опять зевнула, похлопывая ладонью рот.
2
Сеть все еще поднимала на борт мешки с почтой. Успеют ли до двенадцати все закончить?
Капитанская рубка «Космоса», расположенная на высоте шестиэтажного дома, казалась пустой и безлюдной, но в одиннадцать часов пятьдесят минут с пристани увидели, что стеклянный домик наверху вдруг ожил, — засуетились, прильнули к стеклу люди.
Рослый седовласый мужчина, похожий на сельского священника, — это капитан парохода Терхузен. Он снял фуражку и, прощально помахивая ею, смотрел на свою жену и двух высоких, стройных дочерей. В светлых развевающихся пальто они стояли на пристани, чуть поодаль от толпы провожающих.
Офицеры на капитанском мостике сняли телефонные трубки, и буксирные катера задымили и дали ход. Теперь не зевай!
Матросы стояли наготове, ожидая команды, чтобы убрать тяжелые сходни, еще связывавшие пароход с берегом. Но тут подкатил таксомотор. Из него торопливо вышел господин в светло-сером пальто. Впопыхах он чуть не забыл расплатиться с шофером. Потом на мгновенье остановился, глядя вверх, на пароход. Лицо его выражало нерешительность, казалось, он с большим удовольствием повернул бы назад. Стюард кинулся к нему навстречу, чтобы взять вещи.
— Прошу вас, поскорее, сударь, сходни сию минуту уберут.
На пароходе он подозвал боя:
— У господина каюта триста двенадцать, палуба В.
3
Уоррену Принсу, представителю нью-йоркской «Юниверс пресс», особенно повезло: он был на борту уже с утра. Его пишущая машинка стучала без умолку. Он работал в каюте, скинув пиджак. На носу поблескивали черные роговые очки. Щеки Принса пылали от волнения. Он должен был во что бы то ни стало закончить корреспонденцию, пока лоцман еще на борту. Уоррен Принс знал уже «Космос» вдоль и поперек. Он разговаривал со стюардами, офицерами, директором Хенрики, с конструктором корабля Шеллонгом, с механиками, кочегарами, пассажирами. Он без конца взлетал и спускался на лифте, облазил все углы и закоулки гигантского судна.
Машинка барабанит. Принс смеется и в упоении диктует вслух самому себе. Он из тех людей, которые способны влюбиться в корабль, и от «Космоса» он без ума. «Мир обогатился еще одним чудом, и имя ему „Космос“», — пишет он.
Америка на борту представлена блистательно. Каюты на первый рейс «Космоса» абонированы обладателями крупнейших капиталов: Гарденером, миссис Салливен с дочерью (Китти!), Харпером, Хопсеном, Райцем.
Джон Питер Гарденер, из Питтсбурга, декламировал Принс, возвращается на самом быстроходном корабле, он торопится в Барренхилс, чтобы покончить с забастовкой. На борту находится и Харпер-младший. Бронзовый загар, приобретенный под солнцем Африки, еще не сошел с его лица.
Европу также представляют выдающиеся имена: профессор Рюдигер — известный физик; доктор Фукс из Берлина — крупнейший в мире специалист по раковым заболеваниям; знаменитая певица Ева Кёнигсгартен, которая едет на гастроли в Метрополитен-опера.
С талантливым пианистом и педагогом профессором Райфенбергом, учителем и концертмейстером певицы, вашему корреспонденту представился случай завязать дружеские отношения. Дружеские отношения. Точка!
«Космос» погрузил в свои трюмы двести железнодорожных составов с углем, пять миллионов долларов в золотых слитках, три тысячи мешков с почтой, знаменитую картину Веласкеса, приобретенную за полмиллиона долларов для чикагского музея. Три гроба. Их поместили в самой нижней части судна. Суеверные пассажиры не должны об этом знать. В одном из гробов покоятся останки миссис Робинсон, супруги американского атташе в Риме, которая отравилась несколько недель тому назад в связи с шумным скандалом. Принс чуть не забыл упомянуть известного исследователя Азии профессора Рассела, который выступит в Америке с лекциями о своих последних научных экспедициях в Туркестан и Тибет. На борту находится и бывший премьер-министр одного из балканских государств — Лейкос, он едет в сопровождении своей племянницы мадемуазель Жоржетты Адонар, актрисы и танцовщицы парижского театра Комеди Франсез. Назвал ли он старого Бернгарда Шваба, издателя «Нью-Йорк стандарт»? Затем едут еще аферисты, шулера, сыщики, но об этом — молчок! Это шутки ради. Принс расхохотался.
Время от времени он выбегал из каюты, чтобы поглядеть на берег. Он надеялся найти какую-нибудь интересную деталь, которая придала бы колорит всей корреспонденции. Пристань кишела людьми, с верфей доносился стук клепальных молотков, дымила добрая сотня пароходов, порыв ветра вихрем закружил пыль. В воздухе звенели прощальные возгласы.
«Итак… „Космос“ отходит. Толстый буксирный трос опрокинул наземь трех портовых рабочих. Стоящие в порту тендеры, огромные, точно мебельные фургоны, разгружаются портовыми кранами. Шум верфей. В воздухе звенят прощальные возгласы…»
Принс был доволен своей работой. История с тремя гробами, несомненно, пикантна. Мысленно он уже пробегал глазами крупные газетные заголовки: «Late Mrs. Robinson returns to her country», о гробах ни один журналист даже и не подозревает. И три девицы Холл на борту — «the Holl girls»,— ну и путешествие, Принс, ну и путешествие! Да, жизнь, скажу я тебе, чудесная штука!
— Каюта триста двенадцать, — сказал стюард, обращаясь к пассажиру в сером пальто, который в последнюю минуту поднялся на борт. Пассажир нахмурился и отступил от двери: в каюте стучала пишущая машинка.
— В агентстве меня заверили, что будет отдельная каюта.
Стюард с сожалением пожал плечами.
— Очевидно, произошла ошибка, сударь. Ведь все места распроданы уже несколько месяцев тому назад.
Он постучался в дверь и внес вещи пассажира в каюту.
— Койка В, здесь вот, пожалуйста, сударь!
Принс прервал работу и обернулся.
— Очень сожалею, что помешал! — с холодной вежливостью промолвил пассажир в сером пальто. Лицо у него было желтое, пробыл высокий, очень красивый, и он им весьма какой-то горестный, беспомощный, и смотрел на Принса.
Принс вскочил и, резко вскинув голову, отбросил со лба непокорный вихор. Лоб у него был высокий, очень красивый, и он им весьма гордился.
— Нет, нисколько, Пожалуйста, пожалуйста! Я как раз кончил!
Он быстро сгреб свои бумаги, натянул пиджак и опрометью кинулся из каюты.
— Эй, стюард, стюард! — раздался его голос за дверью. — Когда лоцман сойдет на берег?
4
Снова завыла сирена «Космоса». Палубы снизу доверху черны от пассажиров, откуда-то с высоты едва доносятся звуки оркестра. Провожающие на пристани машут платками и шляпами; на пароходах, стоящих в гавани, завыли сирены, и в мгновение ока дымящие буксиры отвели корабль на десять — двадцать метров от берега. Теперь он предстал во всем своем величии и благородстве линий, из его красных широких труб, словно из кратеров клокочущего вулкана, нетерпеливо вырываются густые клубы дыма. Раздается звонок машинного телеграфа, и в тот же миг гребные винты врезаются в воду, превращая ее в кипящий мрамор. «Космос» медленно отходит.
На берегу все еще стоит жена капитана с двумя стройными дочерьми, их светлые пальто развеваются на ветру. Они глядят вслед пароходу, который исчезает за лесом труб и мачт в буром облаке дыма.
Плавучий маяк раскачивается на волнах. Он рвется из плена якорных цепей, вздымая клочья пены. Подходит лоцманский катер, и лоцман покидает борт «Космоса».
Уоррен Принс вовремя успел передать с ним свою последнюю корреспонденцию. Опять звонок машинного телеграфа — и сразу завибрировал, затрепетал могучий колосс, вот уже лоцманский катер далеко позади и кажется крохотным пятном, смутно мелькающим среди волн, а плавучий маяк, словно никому не нужная игрушка, раскачивается на морском просторе. «Космос» вышел в плавание.
Ветер внезапно усилился. Уоррен смахнул каплю пота, катившуюся по лицу. «Дело сделано, — удовлетворенно подумал он. — На этот раз Белл глаза выпучит от удивления». Ах уж этот Белл, Вильям Персивел Белл — всемогущий босс «Юниверс пресс» (четыреста газет!).
Высокий и стройный, стоит Принс на палубе, ветер треплет его кудри. Он похож на студента; еще легко представить себе его в мальчишеские годы, но уже видно, каким он станет лет через двадцать, когда будет читать лекции в небольшом университете, где-нибудь в западных штатах. Уоррену Принсу двадцать три года, он совсем недавно окончил университет, и за душой у него ни гроша. Он содержит мать, которой нужно на жизнь сто пятьдесят долларов в месяц, он честолюбив и увлечен своей профессией — со временем у него обязательно будет собственная газета!
Сегодня вечером, когда они минуют Бишопс Рок, он пошлет еще одну телеграмму и на целые сутки избавится от Белла и от «Юниверс пресс». На целые сутки! «Первым делом навещу девиц Холл, — подумал он, — Вайолет, Этель и Мери».
Принс отправился в бар пропустить рюмочку и оказался первым посетителем.
— Послушайте, бармен, — сказал он. — Я Уоррен Принс, корреспондент «Юниверс пресс». Меня интересуют всевозможные новости, и я хочу, чтоб вы это знали.
— All right, sir.
Госпожа Кёнигсгартен все еще устало сидела в кресле, когда Марта принесла ей кофе. Она была так измучена, что ни о чем не могла думать. Вчера вечером, в Брюсселе, она пела плохо, и это оставило у нее неприятный осадок. Она так переутомлена, так изнурена работой! Слишком много у нее забот. Но, несмотря на все это, концерт прошел с большим успехом — какое счастье, что там не было Райфенберга!
— Ну как, кофе достаточно крепкий? — спросила Марта.
— Да, спасибо, дорогая, — ответила Ева и стала жадно глотать горячий кофе. Она сразу почувствовала прилив бодрости, голова прояснилась. — Ты уже и вещи распаковала? Вот умница, — сказала она. — А наш багаж погрузили, да? Скажи, Райфенберг не показывался?
— Нет, профессора Райфенберга я еще не видела.
— Если он придет, скажи, что я очень устала.
— Хорошо, — ответила Марта и добавила. — Приходил господин Гарденер. Он оставил вот этот сверток и просил передать привет.
— Гарденер?! — радостно воскликнула Ева.
— Да, он был здесь с полчаса назад.
Гарденер! Какое счастье, старый Гарденер здесь! Ева сразу оживилась. Ее радовала предстоящая встреча. Гарденер всегда был ей искренним другом, его задумчивое лицо, его неизменное спокойствие действовали на нее благотворно.
Ева поднялась, развернула сверток. В нем оказались коробка цукатов и записка: «Добро пожаловать, дитя мое!» Мягко покачивая высокими бедрами, она подошла к цветам и, переходя от букета к букету, читала вложенные в них открытки и письма. На ее лице отражались все чувства, вызванные этими посланиями, она то улыбалась и радовалась, как ребенок, жадно вдыхая аромат роз, то смеялась и с презрительной гримаской пожимала плечами.
Вдруг она о чем-то вспомнила.
— Марта! — с тревогой вскрикнула она. — Я совсем позабыла о Зепле. Что с ним? Ты проведала его?
Зеплем звали маленькую таксу Евы.
Ну конечно, Марта была у Зепля. Ведь она сама отнесла его в вольер для собак. Марта вышла, чтобы приготовить ванну.
Госпожа Кёнигсгартен еще раз просмотрела все письма и телеграммы и небрежно кинула их на рояль. Она стояла притихшая, улыбка погасла, лицо разочарованно вытянулось.
— Марта! — крикнула она громко, чтобы та услышала ее через стенку. — Кроме Гарденера, никто больше не заходил?
— Нет, кроме него, никого не было.
Невероятно, совершенно невероятно! Если уж его поездка в Нью-Йорк оказалась невозможной, он мог бы, по крайней мере, прислать весточку. Последний раз Ева получила от него цветы в Брюсселе. «Где они?» — вдруг испуганно спохватилась она. Их нигде не видно.
— Марта, где алые розы, что я принесла? Неужели они остались в поезде?
— Они возле твоей кровати, Ева.
— Да, в самом деле, они здесь, какая же я бестолковая! — Снова перебирая письма и телеграммы, она возвратилась к прежним думам. Ни строчки, ни телеграммы, хотя бы коротенькой…
Ева вдруг сникла, усталость одолела ее. В спальне она скинула туфли, не раздеваясь свалилась на постель и вся ушла в себя. Марта сказала, что ванна готова. Но г-жа Кёнигсгартен даже не повернула головы.
— Дай мне вздремнуть, Марта, — пробормотала она, — и, пожалуйста, не буди, кто бы ни пришел. Я хочу немного отдохнуть.
— Отдохни, отдохни, Ева! — ответила Марта.
И Ева тотчас уснула.
5
Когда Принс вернулся в каюту, она уже вся пропахла духами и эссенциями. Пассажир с койки В, очевидно, только что кончил распаковывать свои неказистые, чуть потертые саквояжи.
— Надеюсь, вы не сочли меня невежей? — обратился Принс к пассажиру с койки В. — Я очень спешил, мне необходимо было передать с лоцманом последнюю корреспонденцию, — и с легким поклоном добавил — Уоррен Принс, корреспондент нью-йоркской «Юниверс пресс».
Господин с продолговатым желтым лицом окинул Принса беглым взглядом.
— Кинский! — равнодушно и невнятно буркнул он в ответ, так что Уоррен, хоть и навострил уши, с трудом расслышал его.
Принс снял пиджак, отстегнул воротничок и бесцеремонно стал плескаться под краном.
— Извините меня, — снова обратился он к пассажиру с койки В. — Я буквально обливаюсь потом. Битых два часа носился взад-вперед ради того только, чтобы передать по телеграфу около тысячи слов. Адская профессия, скажу я вам! — Уоррен рассмеялся и, так как ответа не последовало, повторил. — В полном смысле слова адская! — Из врожденного любопытства и общительности он старался разговориться с незнакомым человеком, предназначенным ему судьбой в спутники, как делал это всегда, сталкиваясь с людьми. А как иначе познать человека? В школе чему только не учат, но познанию человека не научит ни один учебник.
Для Уоррена Принса, в его двадцать три года, все в жизни казалось приключением, исход которого никогда нельзя предугадать: в каждом новом знакомом он видел новую возможность познания человека. Смысл жизни, насколько он вообще успел постичь в ней какой-либо смысл, он видел в том, чтобы проникнуть в глубинную сущность человеческой души.
Плескаясь под краном, Уоррен прислушивался, ожидая, что скажет пассажир с койки В, но тот молча открыл флакон и стал протирать одеколоном руки. Когда Уоррен совсем уж потерял надежду на ответ, его неразговорчивый сосед, назвавший себя Кинским или как-то в этом роде, вдруг сказал:
— Да, вы правы! У вас и впрямь ужасная профессия! — Он произнес это серьезно и как будто убежденно.
Пораженный, Уоррен обернулся. Голова его в мыльной пене походила на большой снежный ком. Вид у него был презабавный.
— Вы, конечно, пошутили? — спросил он почти испуганно и недоверчиво усмехнулся.
— Напротив! — Кинский отрицательно мотнул головой, не глядя на Уоррена.
— Что вы? Что вы? В таком случае вы меня неправильно поняли. Я ведь страстно люблю свою профессию, понимаете, страстно! Больше того, я считаю, что в наши дни профессия журналиста — единственное занятие, достойное джентльмена.
И, продолжая намыливать свои кудри, он добавил, что современного журналиста можно сравнить разве что с путешественниками прошлых веков, первооткрывателями новых земель, такими, как Колумб, Васко да Гама, Кук. Да, сегодня журналисты — это первооткрыватели, исследователи, они всегда в погоне за новым. Они — авангард, идущий впереди своего времени.
Кинский бросил на собеседника иронический, но вместе с тем снисходительный взгляд. Это был зоркий взгляд проницательного человека. На Уоррена смотрели серые утомленные глаза, недоверчивые и чуть надменные. Тонкие губы Кинского сочувственно улыбались. «Какое самомнение!» — казалось, говорила его улыбка.
— Надеюсь, вы не обиделись на мою откровенность? Я, разумеется, ни в коем случае не имел намерения отбить у вас охоту к вашей профессии.
Уоррен подставил голову под кран, смыл пену и полотенцем просушил волосы.
— О, пожалуйста, пожалуйста! Говорите откровенно, с полной откровенностью, очень прошу вас об этом! — воскликнул он.
Лицо его раскраснелось от мытья, влажные кудри, упавшие колечками на лоб, делали его еще моложе, он казался совсем мальчишкой, школьником, который не по возрасту вытянулся. Не так-то легко отбить у него, Уоррена Принса, охоту к журналистике, он очень хорошо знает, что делает.
Принс надел роговые очки на свои близорукие глаза и только теперь по-настоящему разглядел лицо господина, который так уничтожающе отозвался об его профессии.
Лицо в самом деле необычное. Продолговатое, очень худое лицо аскета. Когда Кинский поворачивал голову в профиль, выделялся его крупный, резко очерченный орлиный нос. В мрачном взгляде глубоко посаженных глаз теплился какой-то тусклый огонек, они были как пепел, под которым едва тлеет жар. Глаза мечтателя, фанатика, монаха. Такое лицо могло быть у Савонаролы. Но чем больше Уоррен всматривался в это лицо, тем яснее убеждался, что он его уже видел. Где-то… Когда-то…
Этот нос, этот поразительно маленький рот! Без сомнения, видел!
Господин Кинский явно следил за своей внешностью, хотя костюм его казался несколько старомодным и поношенным. Его волосы, очевидно очень рано поседевшие, были аккуратно причесаны на пробор. У него были узкие руки и на редкость маленькие ноги. Великолепный экземпляр европейца, сделал заключение Уоррен. Аристократ? Художник? Актер? Кинский, почувствовав, что его беззастенчиво разглядывают, неожиданно поднял на Уоррена глаза; тот смущенно улыбнулся и выпалил:
— Итак, о прессе вы не весьма высокого мнения? Это не трудно заметить.
Кинский покачал головой.
— Во всяком случае, я отнюдь не ценю ее так, как вы этого ожидали, господин Принс, — высокомерно возразил он. — А впрочем, признаюсь вам, я вообще очень редко читаю газеты.
Как, перед ним человек, не читающий газет? И это в эпоху, когда вырубают леса Канады и Ньюфаундленда, чтобы добыть необходимую для печатания газет бумагу? Уоррен окончательно растерялся.
— Как же, сударь, как же? — воскликнул он горячо. — Вот, например, разрушена землетрясением Мессина, разбился о скалы пароход, открыта бацилла рака. И вас все это не интересует?
— Да, но бациллу рака открывают не каждый день, — ответил Кинский с тонкой иронической улыбкой, чем расположил к себе Уоррена. — Все это интересно, — продолжал он, — однако речь ведь идет о принципиальной точке зрения. Вы меня понимаете, господин Принс?
— О принципиальной точке зрения?
— Да, я отвергаю все, что ведет к нивелировке людей. В том числе и прессу. Я отвергаю ее так же, как отвергаю кинематограф, граммофон и радио. Граммофон и радио я просто ненавижу. — Он слегка покраснел, и Принс почувствовал, что перед ним человек, умеющий ненавидеть.
Принс совсем опешил. Его полные румяные губы беззвучно шевелились, но он не мог произнести ни одного вразумительного слова.
— О, о! — бормотал он. — И граммофон?.. И кинематограф?..
Кинский повернулся к нему, и Принс впервые за все время их разговора увидел на его лице широкую улыбку.
— Вы сочтете меня старомодным, отсталым человеком, — сказал он. — И со своей точки зрения будете правы.
— Нет, нет! — возразил Принс, качая головой. — Но вы должны признать, что отвергаете многие завоевания нашей цивилизации.
— Вам угодно называть это завоеваниями цивилизации? Я бы это охарактеризовал совершенно иначе, — с явной насмешкой парировал Кинский.
Принс онемел. Что мог он на это ответить? Человек из другого мира! Антипод какой-то! Однако этот господин безусловно интересное явление. Он его выспросит, занесет все в один из своих толстых блокнотов и попридержит для романа, который надеется когда-нибудь написать.
— Ваши взгляды, сударь, довольно интересны, и все же позвольте мне высказать некоторые возражения, — сказал Принс, намереваясь продолжить разговор и прижать к стене противника.
Но Кинский уклонился.
— Простите, как-нибудь в другой раз, — сказал он, — я устал, я страдаю бессонницей. У нас, полагаю, будет еще не один случай поболтать.
Он полез в карман пиджака и вытащил портсигар.
— Право, не знаю, можно ли курить в каюте? — спросил он, но уже совсем другим, дружелюбным тоном. — Я впервые на таком пароходе.
Он смотрел на Принса доброжелательно и выглядел уже не таким несчастным и растерянным, как в тот момент, когда переступил порог каюты. Принс казался ему теперь славным малым, с которым легко можно ужиться. Он совсем еще мальчик и в восторге от прекрасной жизни, простирающейся перед ним, — необъятной, заманчивой и лицемерной. Несмотря на юношескую запальчивость, в нем чувствуется какая-то обаятельная простота и скромность.
Под взглядом Кинского Принс смутился и покраснел. Он откинул со лба влажный вихор.
— Разумеется, это строжайше запрещено. Но я постоянно курю в каюте, и все курят. — Он засмеялся, и в тот же миг смущение его улетучилось.
Кинский протянул ему портсигар — дорогая вещица: ляпис-лазурь, оправленная серебром. На верхней крышке маленькая серебряная корона. «О! А я что говорил? Конечно, аристократ!» Уоррену снова представился случай подивиться собственной проницательности.
— Надеюсь, господин Принс, мы не очень будем мешать друг другу, — заметил вскользь Кинский.
Уоррен надел воротничок, повязал галстук и, смотрясь в зеркало, не переставая думал, где и когда он видел это лицо. В том, что он его видел, он уже не сомневался: эти впалые виски, высокий лоб, этот маленький, плотно сжатый рот, этот крупный нос, — нет, он не мог ошибиться. Не вынимая изо рта сигареты, Уоррен как бы между прочим сообщил, что в каюте есть еще и третий пассажир, обаятельный человек. Это Филипп Роджер, его друг, чудесный парень, ему все всегда рады. К тому же он будет приходить только ночевать. Он очень занят.
— Он секретарь у Джона Питера Гарденера, — сказал Принс.
— Джона Питера Гарденера?
— Да, у Джона Питера Гарденера, — повторил Принс. Но это громкое имя, веское, как золото, не произвело, казалось, ни малейшего впечатления на владельца портсигара с серебряной короной. — Вам, вероятно, известно, кто такой Джон Питер Гарденер?
Кинский, рывшийся в своем саквояже, тихонько и весело фыркнул. Он не знал, кто такой Джон Питер Гарденер, и это было ему совершенно безразлично.
— Джон Питер Гарденер, — с гордостью объяснил Уоррен, — это уголь Америки! Уголь Америки! Это что-нибудь да значит! Не правда ли?
Кинский вынимал вещи из саквояжа, он ни словом не откликнулся и, казалось, совсем не слушал Принса.
По коридору пронеслись звуки гонга, далекие и гулкие, как эхо в лесу. Гонг звал к ленчу.
— Если вы пожелаете, сударь, занять место за нашим столом, — вежливо предложил Принс, натягивая пиджак, — вы доставите мне и Филиппу большое удовольствие.
— Благодарствую!
— Вы едете в Нью-Йорк? — спросил Принс деловито, словно намереваясь взять интервью. Он больше не мог сдерживать свое любопытство.
— Да, в Нью-Йорк.
— Позвольте спросить: по делам?
— Нет, не по делам, — ответил Кинский, избегая взгляда Уоррена.
— С научной целью?
— Нет, и не с научной, — уклончиво ответил Кинский.
Уоррен еще раз осмотрел в зеркало свой костюм и остался доволен. В Париже он полностью обновил гардероб у мосье Пело с улицы Ришелье. Замечательный портной и берет совсем недорого. Несколько рассеянно он продолжал все-таки расспрашивать:
— Стало быть, вы просто путешественник?
— Нет, не совсем… Хотя, пожалуй, можно сказать и так…
— Вы немец?
— Нет. Австриец.
— О, я так и думал! По акценту. Вы из Вены?
— Да, я уроженец Вены.
— О, Вена! Чудесный город, я обожаю Вену! — радостно воскликнул Уоррен.
Теперь он заговорил по-немецки, которым отлично владел. До сих пор они беседовали по-английски. Молодой человек бегло говорил на шести языках.
— Вы, вероятно, слышали, что с нами едет ваша знаменитая соотечественница?
Кинский взглянул на него.
— Госпожа Кёнигсгартен! Вы, наверное, знаете ее?
Кинский опустил голову и промолчал.
Уоррен с высоты своего роста — без малого сто восемьдесят сантиметров — смотрел на макушку соседа. Опущенные веки Кинского серыми пятнами выделялись на его изможденном, желтом лице. И вдруг Уоррен увидел, как помрачнел его собеседник.
— Госпожа Кёнигсгартен дает завтра концерт. Сбор пойдет в пенсионную кассу пароходной компании.
— Да, я ее знаю, — отозвался наконец Кинский, не поднимая головы. — Даже очень хорошо знаю.
— Лично знакомы?! — воскликнул Уоррен. У него сразу же мелькнула мысль, что Кинский может представить его певице.
Но тот отшатнулся, его испугала резкость возгласа Уоррена. Лицо его потемнело.
— Да, знаком, — произнес он изменившимся вдруг голосом, — но, пожалуй, будет вернее, если я скажу, что когда-то знал ее очень хорошо. Наши пути как-то разошлись. Понимаете, в жизни случается такое… — Он попытался улыбнуться, но улыбка не удалась.
— О да, понимаю! — ответил Уоррен, смутившись. Но потом добавил прежним любезным тоном: — Мы, вероятно, увидимся за ленчем, господин Кинский? Верно я произношу вашу фамилию?
— Да, верно.
Странный человек, думал Уоррен, поднимаясь в ресторан. Для чего, собственно, он едет в Нью-Йорк? Не по делам, не с научной целью, не путешествовать… А как он, скажем прямо, снисходительно разглядывал меня? Ох уж эти австрийские аристократы, нет на свете людей высокомернее их.
Кинский, Кинский… Где и когда ты слышал это имя? Ну-ка, вспомни, Уоррен! Где и когда ты видел это лицо? Где, когда? Вспомни-ка, Уоррен, пошевели мозгами! Теперь ему казалось, что он видел его не в жизни, а на фотографии. Это был хоть и небольшой, но все-таки шаг вперед.
Когда Принс покинул каюту, Кинский опять стал распаковывать свой саквояж; делал он это равнодушно и рассеянно, как человек, который принялся за дело, лишь бы отвлечься от навязчивых мыслей. Он поставил на умывальник флаконы и бритвенный прибор и начал полировать свои холеные ногти. Потом бросил это занятие и долго сидел в задумчивости.
Не убрав вещей, он растянулся на койке, устремил глаза в потолок и выкурил одну за другой три сигареты.
— Так она здесь! Она действительно здесь! — прошептал он. Его губы дрожали. Он закрыл глаза.
Произведения
Критика