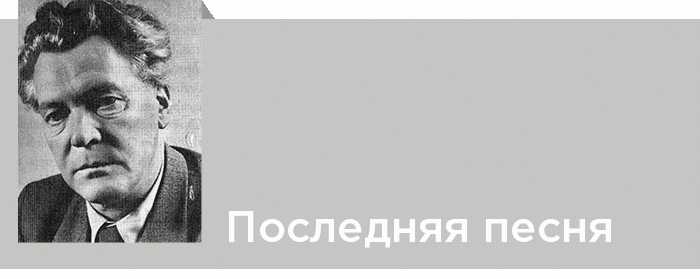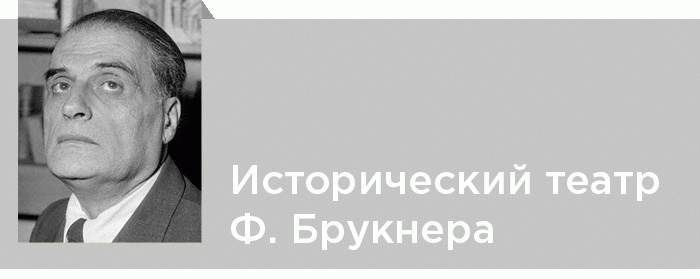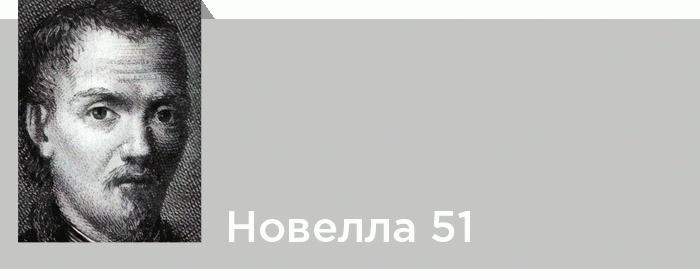Проблема личности в драматургии Ф. Брукнера
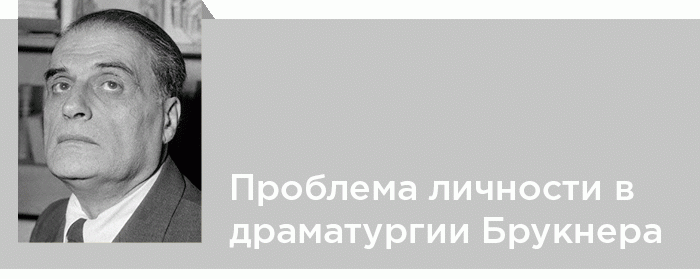
А. М. Науменко
Австрийский писатель Фердинанд Брукнер (псевдоним Теодора Таггера, 1891-1958) сыграл важную роль в развитии немецкоязычной драматургии XX в. Его творческие искания до сих пор еще мало изучены в отечественном и зарубежном литературоведении. Между тем его наследие не только представляет интерес само по себе, но и позволяет уяснить путь определенной части австрийских драматургов к критическому реализму в период между двумя мировыми войнами.
Уже первая пьеса никому не известного Ф. Брукнера «Болезнь молодежи» (премьера в Гамбургском театре, 1926) принесла автору неожиданный и бурный успех, обусловленный ее актуальной тематикой и своеобразием решения поднятых вопросов. В отличие от тогдашних религиозно окрашенных сценических произведений Ф. Верфеля и Г. Гофмансталя, от драм с общечеловеческой проблематикой Ф. Т. Чокора и К. Крауса пьеса Брукнера показывала конкретную злободневную картину (ее персонажи — жаждущие общественной деятельности послевоенные студенты Вены), правда, в удушливой атмосфере фрейдистского либидо.
Автора интересовала в этом произведении мысль о том, что правит человеком, и он находил в его душе две взаимоисключающие силы: нежное чувство и иссушающий душу разум. Такая позиция, характерная еще для просветителей XVIII в., была обусловлена не только послевоенной порой инфляции, приносившей успех лишь безжалостно-рассудочным дельцам, но и литературным движением «новой деловитости» («новой вещности»), явившимся реакцией на рационализм экспрессионизма. Вот почему в «Болезни молодежи» безраздельно господствует чувственное начало, и только два действующих лица живут по принципам разума (Ирэн и Фрэдэр) и потому вызывают к себе презрение автора: первая — своей сухой расчетливостью, а второй — тем, что утверждает себя убийством личности в другом человеке.
Внесоциальная трактовка чувства и разума, ставшая ведущей в ранней драматургии Брукнера, свидетельствовала о сложном переплетении просветительских, экспрессионистических и постэкспрессионистических традиций в поэтике австрийского писателя. К чести драматурга надо сказать, что он не стоял на месте, а двигался к материалистическому пониманию названной проблемы. И вехами на этом пути были самые значительные произведения на современную или историческую тему, вызванные к жизни, несомненно, обострением классовой борьбы (особенно в конце 20-х — начале 30-х годов), но одновременно обусловленные и внутренним, художественно-логическим развитием Брукнера.
Так, в «Преступниках» (премьера в берлинском Национальном театре, 1928) уже нет полного господства одного из двух начал. Драматург приходит к выводу, что общественная жизнь и человек не могут быть представлены одноплоскостно, однолинейно. Вот почему в этой пьесе разум и чувство ведут непрекращающуюся борьбу за руководство личностью, попеременно одерживая верх. Но по-прежнему за рассудком автор закрепляет область насилия, а за чувством — милосердия, и в целом проблема преступности получает не социальное, а нравственно-биологическое объяснение: преступен не индивидуум, а человеческий разум, якобы сужающий многогранное существование людей до одной-единственной сферы — убийства (в физическом или моральном смысле). Поэтому суждения о том, что в «Преступниках» показан «классовый характер юстиции Веймарской республики», повисают в воздухе, ибо позиция австрийского драматурга весьма далека от юридической точки зрения на виновность или невиновность.
И хотя в «Елизавете Английской» (премьера в берлинском Немецком театре, 1930) наступает относительное примирение противоборствующих начал, в ней все еще ощутима неприязнь Брукнера к разуму: трагически гибнет Эссекс, решив действовать рассудочно; высоко возносит Бэкона его гибкий ум, но ведь плата за это — предательское устранение друга и покровительницы (оставим в стороне сложный вопрос о соотношении брукнеровского и исторического Бэкона); наиболее горькие и драматические моменты в жизни английской королевы связаны с ее поклонением идолу разума.
Однако в этой пьесе уже намечен переход писателя от дилеммы «чувство или разум» к проблеме «и чувство, и разум»: ведь страдает не только Елизавета Английская, следовавшая большей частью рассудку, но и Филипп Испанский с его безграничным чувством веры в свою избранность. Весом и значителен финал драмы: рассуждения королевы о «боли и разуме» несомненно свидетельствуют о том, что Брукнер признает за чувством свойство приносить не только счастье, но и боль, а в рассудке перестает видеть одну лишь сферу преступного, хотя и не реабилитирует его полностью. Он как бы примиряет чувство и разум, почти уравнивает их в правах, передав бразды правления миром уже не одному из этих начал, а удаче (именно как удачу воспринимает Елизавета разгром испанской Армады), а разум и чувство в равной степени могут вести к ней или уводить от нее: рассудочный Бэкон требует от англичан воспитания в себе той же веры в избранность — правда, не религиозной, а прагматической, — которая, по Брукнеру, привела монархию фанатичного Филиппа к гибели.
С наибольшей полнотой раздвоение личности изображено драматургом в трагедии «Тимон и золото» (премьера в венском Бургтеатре, 1931), где впервые у Брукнера разум и чувство в одном и том же персонаже сосуществуют, но живут обособленной жизнью, разделены глухой стеной опыта. Тимон первых двух актов — это философ, ищущий в пирах радость общения с умными мыслями (не людьми!) и требующий той же радости и от присутствующих. Но где-то в нем, почти незаметный, обузданный разумом, находится другой Тимон, который весь — одна неистовая страсть, не знающая ни этики, ни предела. И в последующих двух актах бушует этот другой Тимон: теперь философ загнан в глубины естества, над которым господствует чувство.
Если в предшествующих пьесах Брукнера чувство или разум одерживали лишь кратковременную победу, то здесь одно практически изгоняет другое, чтобы в заключительной картине дать новое решение проблемы: не противоборство («Преступники») и не примирение («Елизавета Английская») враждующих начал, а их слияние, из которого рождается гармония. Проблема эта настолько волновала драматурга, что он несколько раз возвращался к «Тимону», вносил изменения, подчеркивающие неизбежность такого слияния и необходимость такой гармонии.
С признанием психологической и философской цельности человека Брукнер решительно делает поворот к художественному воплощению взаимоотношений личности и общества. Не случайно ведь эти две грани проблематики его творчества проявились почти одновременно: в январе 1931 г. на сцене была представлена пьеса «Тимон», для которой характерно пристальное внимание к внутреннему миру индивидуума, а немногим раньше, в ноябре 1930 г., свет рампы увидела драма «Елизавета Английская», где на передний план выдвинут вопрос о том, что же правит человечеством, а не одной только личностью. В этом историческом жанре Брукнер напишет затем еще целый ряд лучших в художественном отношении драм. Именно в них он будет с прогрессивных позиций ставить и решать вопросы, вызванные к жизни политической борьбой 30-х и 40-х годов: что правит миром — случайность или закономерность? является ли борьба за передовые идеи уделом только избранных? на чьей стороне ближайшая социальная победа — реакции или прогресса? в каком соотношении находятся насилие и гуманизм, тирания и демократия? Брукнер был не одинок в своих поисках. Подобные вопросы, и зачастую тоже в рамках исторических жанров, освещали и другие писатели — тенденция, характерная для австрийской и немецкой литератур предвоенных и военных лет.
Брукнеру давно не давала покоя мысль, вложенная им в уста Фрэдэра из «Болезни молодежи», что человек может быть активным в любой сфере деятельности; вся сложность лишь в том, как вырвать его из плена пассивного приятия фатума. Фрэдэр доказывает свою теорию экспериментом с милой и честной служанкой Люси, превращая ее в разбитную проститутку и воровку. В «Преступниках» подобный психологический опыт, но из других побуждений, проводит на Кларе сутенер Бэн Сим. В «Елизавете Английской» Бэкон занимается «обработкой» Эссекса и Плантагенета для своих карьеристских целей. Драматурга отпугивала антигуманная направленность этой теории, превращавшей человека в игрушку в руках экспериментатора, но его привлекала мысль о потенциально громадной творческой активности личности. Брукнеру не хватало «первичного толчка», ему хотелось, чтобы индивидуум находил себя, а не вводился кем-то в сферу бурной деятельности и чтобы сферой этой были добрые дела.
В «Наполеоне I» (премьера в венском Йозефштадттеатре, 1935) автор, считая, что «первичный толчок» человек получает от рождения, сосредоточивает свое внимание на тщетности и комичности перехода персонажа от одной деятельности к другой. Не потому ли бесплодны потуги Наполеона, признанного полководца, завоевать еще и амплуа ослепительного танцора и влюбленного, что способности человека в любой области жизни — это (как мимоходом, не понимая своей мудрости — примечательный признак брукнеровских женских образов! — заявляет его новая жена Мария-Луиза) «врожденное, это впитываешь с молоком матери, этому не научишься»? Не потому ли они комичны, что неистинны (в понимании Брукнера), хотя этого и не замечает император, находящийся в плену самозабвенной лжи и желающий «сидеть с женой и ребенком, как обыкновенный мещанин. Словно избавился от самого себя»?
Наполеон в пьесе творит себя как личность только в сфере военной стратегии и тактики, и если он все же терпит поражение в России, то лишь потому, что он из-за увлечения Марией-Луизой упустил якобы выгодный политический момент для вторжения (эту ошибку в определении причин поражения Брукнер исправит в следующей драме, когда отойдет от гипотезы о врожденной сфере человеческой деятельности). Иными словами, в этой комедии удача из неподвластной ранее логике и чувству жар-птицы превращается в весьма конкретную звезду на небосклоне людских судеб; звезду, местоположение и свойства которой можно рассчитать.
Неясными, однако, остаются для Брукнера вопросы: действительно ли предопределена сфера человеческой деятельности? когда удача будет на стороне прогрессивных сил? может ли победить реакция? Эти и другие проблемы решает драматург в «Героической комедии» и в «Симоне Боливаре», завершив названными пьесами огромную творческую работу — открытие для себя движущих сил истории, чему способствовали исторические события 30-х годов, горький и бурный период эмиграции немецких и австрийских писателей, логика собственно-художественного развития Брукнера.
«Героическая комедия» (написана в 1938 г., премьера в венском Народном театре, 1946) является вершиной драматургии Брукнера: ни до нее, ни после не найти уже такого сверкающего иронией единства — единства художественной речи, образов и сценических приемов; такой философской масштабности и такой убедительной соотнесенности действия с современной австрийскому писателю общественной жизнью. На вопрос, терзавший Тимона в его предсмертные мгновения: кому и чему должен быть верен человек в своей жизни? — в этом произведении дается целый спектр ответов: практической реализации идеи (Бернадотт), доброму началу в личности (Констан), благу абстрактно понимаемого отечества (Рокка), чистенькой, бескомпромиссной справедливости (мадам де Сталь), людям (Франсуа) и др.
Брукнер никому не отдает пальму первенства, ибо ему видна ущербность всех точек зрения (к слову, это первая и единственная пьеса драматурга, в которой он стоит выше всех персонажей и потому позволяет себе шутить над их героизмом). Заметно все же, что он склоняется к позиции де Сталь и Бернадотта. Первая привлекает его своей неукротимой воинственностью против тирании, что в годы наступления фашизма было необходимым условием существования прогрессивной части человечества, а второй прельщал практическим претворением идеи в жизнь, высказывая слова, близкие самому Брукнеру: «...свобода, когда она всего лишь мечта, во всей ее безмерности все равно не обладает таким величием, как маленький кусочек земли, на котором она может воплотиться в реальность».
Но в эпоху, когда решался вопрос «кто кого?», это слишком походило на вольтеровский принцип возделывания своего сада. А ведь не для того провозглашал драматург устами де Сталь мысль о том, что «свобода только тогда может быть силой и властью, когда принадлежит всем, а не одному». Казалось, что могло быть проще объединения этих позиций, но автора, как и Бернадотта, смущал тот факт, что люди, служащие идее, часто «раздувают костры, на которых потом сгорают другие».
Нерешенные вопросы о праве одного человека жертвовать жизнью другого и о необходимости такой жертвы удерживали Брукнера от объединения. Свои сомнения драматург отразит еще раз в пьесе на антифашистскую тему «Ибо не много ему остается времени» (премьера в Мехико, 1943) в облике норвежского священника Фоссенфангена, проходящего путь от непротивления нацизму насилием до оправдания восставших на битву с врагом рыбаков, понявшего справедливость слов казненного пастора Эрле: «Одна вера в бога нас не спасет. Мы должны для него что-нибудь делать».
Понадобились годы напряженнейшей схватки с «коричневой чумой», чтобы мечта брукнеровской мадам де Сталь о всеобщей гуманности превратилась в революционную и справедливую жестокость Боливара («Симон Боливар», премьера в Нью-Йорке, 1945), который, отличаясь в лучшую сторону от своего исторического прототипа, представляет собой развитие образа Бернадотта, ибо усвоил привычку де Сталь никогда не успокаиваться на достигнутом и понял (в отличие от прежних персонажей Брукнера), что «свобода либо остается пустой фразой, либо стоит крови».
И движет им уже не врожденная активность, а приобретенное ценой больших утрат чувство свободы: «Останавливаться нельзя! — говорит он, умудренный горьким революционным опытом. — Ибо человек может быть человеком только тогда, когда он свободен. Сквозь дикость и ад нас, оборванных, обессиленных и задыхающихся, вела вперед эта мысль. И мы победили». Собственно, это и был ответ на вопрос о том, может ли победить реакция. Нет, говорил Брукнер устами Боливара, ей суждены лишь временные успехи, ибо у нее нет исторической перспективы: «Если б мы погибли, нам на смену пришли бы другие, чтобы начать все сначала».
В сущности, уже в этой пьесе Брукнер решил основные интересовавшие его вопросы. После нее он написал еще одну с подобной проблематикой — «Освобожденные» (премьера в Цюрихе, 1945), но не высказал ничего принципиально нового, хотя актуальной была картина взаимоотношений освободителей и освобожденных в послевоенной Европе.
В ходе своей эволюции 20-х-40-х годов Брукнер занял одно из ведущих мест в немецкоязычной драматургии, потому что слагаемые его творчества весомы и значительны: злободневность и эпохальность проблематики, тенденция к диалектико-материалистическому решению исторических проблем, синтетичность приемов, эффектная сценичность пьес, обусловленная богатством и живостью интриги, многогранностью и глубиной характеров, сочной и афористической художественной речью.
В эти годы Брукнер проявил себя и как большой мастер оригинального монтажа эпизодов. Так, в первом акте «Преступников» персонажи действуют сразу на семи площадках. Несомненно, это — и театральный эффект (как у талантливого предшественника Брукнера — И. Нестроя), и, по справедливому замечанию Г. Иеринга, средство «социального разреза общества». Своеобразен монтаж второго акта «Преступников»: каждая сцена начинается финальной фразой предыдущей картины. Высказанная всякий раз в новой, разоблачительно-контрастной обстановке и по новому поводу, эта фраза комментирует происходящее, создает преемственность эпизодов и тем самым указывает на внутреннее родство персонажей, хотя они и пытаются доказать обратное; прием, который так блестяще умел использовать крупнейший австрийский сатирик XX в. К. Краус, оказавший заметное влияние на творческую манеру Брукнера.
Удачно претворен монтаж и в пьесе «Елизавета Английская», где разделение сцены на две игровые площадки — действие происходит при дворе английской королевы и испанского короля — имело иную цель: с одной стороны, как верно заметил Ю. Архипов в предисловии к драмам Брукнера, «оттенить глубокие психологические характеристики этих монархов и острее подчеркнуть выражаемый ими конфликт исторических сил», а с другой стороны, показать (под влиянием фрейдизма) подспудную тягу рассудочно властной, но прогрессивно мыслящей Елизаветы к чувственно властному и консервативному Филиппу. Брукнер использовал здесь монтаж в функции противо- и сопоставления, что соответствовало основному философскому заблуждению, на котором стоит вся его ранняя драматургия: идее об извечной борьбе в душе индивидуума слепого чувства и иссушающего душу разума.
Отказ Брукнера от такой альтернативы ведет и к изменению формы монтажа в его пьесах 30-х и 40-х годов. Теперь, когда в душе персонажа должен произойти взрыв противоречий, когда ему необходимо откровенно высказаться, автор, избегая монологов и длинных ремарок, вводит промежуточную фигуру, духовного двойника, олицетворенную совесть героя с чертами близкого ему человека. При этом драматург всячески подчеркивает условность таких сцен (этот близкий человек может явиться даже с того света), чтобы акцентировать внимание читателя и зрителя на их комментирующем характере.
Впервые он использовал этот прием в «Расах» (премьера в Цюрихе, 1933), в сцене беседы Зигельмана с таинственным Голосом, но наиболее удачное применение — в «Наполеоне I» (шестая сцена второго акта), когда перед мысленным взором растерявшегося императора предстает любимая им Жозефина, чтобы помочь ему подвести безжалостный итог жизни и стоически перенести поражение. Запоминается эта сцена не только светлым лиризмом грусти, но и полуфантастическим появлением и поведением героини; подобный прием будет повторен через несколько лет Т. Манном в его «Лотте в Веймаре» в эпизоде возникновения Гете в карете любимой им некогда Шарлотты.
После 1945 г. эволюция Брукнера могла идти в направлении варьирования уже достигнутого или в направлении углубленного пересмотра собственных воззрений. Австрийский драматург пошел по второму пути. Но теперь он пишет произведения, тематически далекие от действительности и граничащие с абстрактно-логическими построениями, которые в современном литературоведении называются притчеобразностью, параболичностью и т. п.
В начале этого нового этапа его творчества была создана драма «Следы» (премьера в венском Бургтеатре, 1947), говорящая о жажде добродетели у порочного человека, а венчает этот период «Глиняная тележка» (премьера в Мангейме, 1957), сказочный фейерверк, «брукнеровская прощальная пьеса, полная фантазии», как удачно назвал ее О. М. Фонтана, обработка староиндийской сказки о верной любви прекрасной баядеры Вазантазены к благородному обедневшему купцу Чарудатте, поэма в диалогах о высоких и чистых чувствах, достойных человека и ждущих часа своего пробуждения.
В сущности, только эта одна проблема, решаемая под разными углами зрения, и стоит в центре всех пьес Брукнера последнего десятилетия его жизни. «Следы» доброго отношения к человеку остаются в душе богатого» развратника Плесса и лжесвидетельствующей служанки Лэнэ, обманутой, им и пытающейся хоть таким путем заполучить себе мужа, а ребенку — отца (пьесы «Следы», 1947); неистребимая потребность любви к человеку (в христианском понимании ее) определяет в конечном итоге поступки к мысли не только Андромахи и Пирра, но и всех других персонажей пьесы «Пирр и Андромаха» (1952); стареющая предпринимательница Кларисса, наживающаяся на страданиях рабочих, побеждена «ангелом доброты» — ее пасынком Клаусом, но повержена она только потому, что в ее душе и без него подспудно жила доброта, которую лишь пасынок смог вывести наружу («Борьба с ангелом», 1954). Эти и другие драмы Брукнера 50-х годов. («Плоды пустоты», 1951; «Сводня», 1954; «Смерть куклы», 1956) рисуют мир должных, а не реальных отношений между людьми.
Только в таком мире поэтического вымысла не оказались смешными гипертрофированные страсти поздних брукнеровских персонажей, только в нем они смогли естественно выполнять свою основную функцию — сложной интеллектуальной игры с читателем. Отход ли это от реалистических завоеваний Брукнера в прежних пьесах? И да, и нет, ибо убедительно изложить иную творческую стратегию автору не удалось: он умер через год после премьеры «Глиняной тележки», не завершив поисков новых решений общечеловеческих проблем. Но интересно, что подобная внешняя развлекательность и глубокая поучительность резко заявляют о себе в немецкоязычной драматургии последних десятилетий. Взять хотя бы, к примеру, многие пьесы Ф. Дюрренматта или некоторые X. Калау («Кувшин с маслинами»), П. Хакса («Адам и Ева») и других авторов.
Говорить о творческой слабости Брукнера в 50-е годы было бы неверно. Именно в этот период у него вырабатывается особый подход к драме, обосновывается обращение к общечеловеческой проблематике. На премьере своей пьесы «Пирр и Андромаха» (венский Бургтеатр, 1953) он произнес речь, главные положения которой повторил затем в статье «Символы трагического»: «Существуют две основные формы драмы — форма разложения события на ряд сцен <…> и форма замкнутого единства <…> Однако с тех пор, как существует кино, которое может гораздо великолепнее, чем театр, нанизывать единичные сцены, становится проблематичным, является ли эта форма все еще законным выражением театра?»
Брукнер не разъясняет термина «замкнутое единство», хотя его пьесы последнего периода позволяют сделать вывод, что под этим термином драматург понимал известное правило трех единств и просветительскую идею о торжестве добрых начал в человеке. Для большей наглядности этой идеи он вводит в пьесы хор, функция которого состоит в том, чтобы давать персонажам нежные и добрые советы, пробуждая в них естественную, скрытую от ненаблюдательных глаз гуманную суть. Такой хор представлен уже в первой редакции «Тимона» образами людей из народа (правда, больше для комментирования происходящего). В пьесах 50-х годов он проходит ряд превращений, а в «Глиняной тележке» его обязанности возложены на единственную фигуру сказителя, возникшего не без влияния образа народного певца в «Кавказском меловом круге» Брехта.
Так заканчиваются поиски Брукнером путей сращения изображения и комментария, драмы и эпоса, родственные во многом реформаторству К. Крауса и Б. Брехта.
Отношение Брукнера к личности помогает по-иному оценить проблему преемственности литературных периодов, разделенных огромным промежутком времени. Просветительские традиции в произведениях этого австрийского художника слова (да и не только у него одного) говорят о том, что литературный процесс обусловлен, помимо очень важных социальных внешних причин, также и другими, внутренними, имманентными причинами.
Л-ра: Филологические науки. – 1981. – № 6. – С. 29-35.
Произведения
Критика