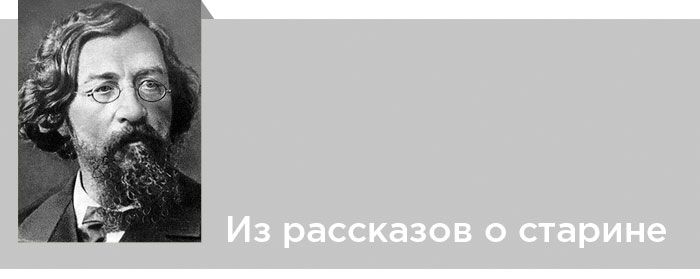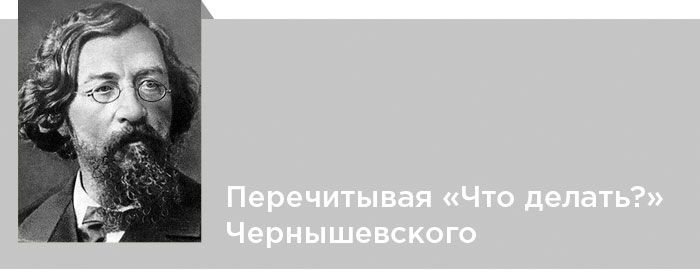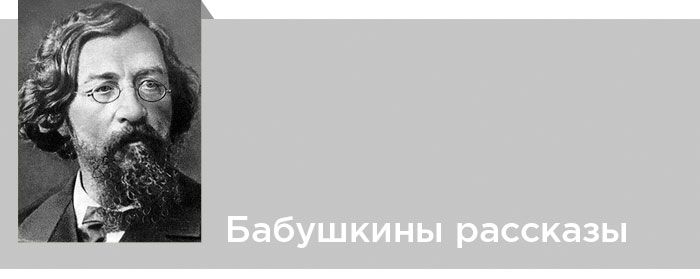Николай Чернышевский в зеркале русского европеизма
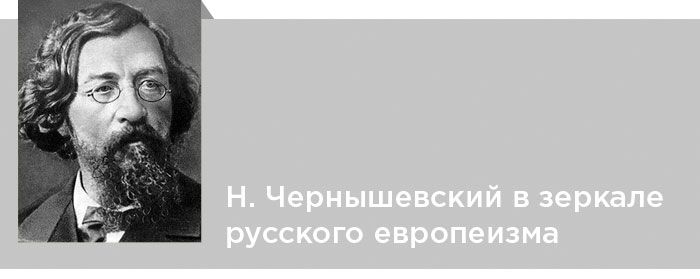
Кантор В. К. «Срубленное древо жизни»: судьба Николая Чернышевского. М.; Спб.: центр гуманитарных инициатив, 2016. 528 с. isbn 978-9-98712-661-5
Ольга Жукова*
Доктор философских наук, профессор Школы философии
факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
Адрес: ул. Старая Басманная, 21/4, Москва, Российская Федерация 105066
Предметом обсуждения статьи является книга о Н. Г. Чернышевском, написанная историком русской философии В. К. Кантором. Творческая биография писателя отражает трансформации интеллектуальной и политической культуры, произошедшие с русским обществом во второй половине XIX века. Блестящий полемист, он обладал духом социального активизма. Трагическая судьба не позволила мыслителю в полной мере осуществить важные творческие замыслы. В. К. Кантор создает новую интеллектуальную биографию Чернышевского в противовес советской версии, унаследовавшей от Ленина однозначный взгляд на Чернышевского как на революционного демократа. Обращаясь к историографии вопроса, я анализирую основные идеи книги. В статье ставятся два вопроса: можно ли наследие Чернышевского «очистить» от революционного мифа и идеологических интерпретаций? И насколько справедливо определять его как сторонника постепенных реформ и христианского мыслителя? Вступая в диалог с Кантором, я показываю дискурсивную борьбу вокруг наследия Чернышевского, которая возникла среди русских философов и писателей, представляющих направление русского европеизма и христианского либерализма в интеллектуальной культуре России. Автор демонстрирует литературные и философские источники для изучения наследия Чернышевского в периоде между тремя русскими революциями и эмиграцией. Статья представляет собой критический обзор ключевого инструментария исторических и философских интерпретаций работ Чернышевского в российском интеллектуальном контексте ХХ века. Выявить подлинную интенцию мысли русского интеллектуала и одновременно дать новую интерпретацию идейного наследия Николая Чернышевского в контексте русской философской культуры сегодня представляется крайне важным. На современном этапе эта работа отвечает актуальной задаче изучения текстов русской общественной и религиозной мысли в проблемном поле историко-философских исследований.
Ключевые слова: миф, христианская идеология, революция, русский европеизм, религиозная философия
Olga Zhukova
DSc in Philosophy, Professor, School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics.
Address: Staraya Basmannaya, 21/4, Moscow, Russian Federation 105066.
New Person: Nikolay Chernyshevsky in the Mirror of Russian Europeanism
This article represents a genre of philosophical criticism that can be defined as a reflection of the book on N. G. Chernyshevsky written by V. K. Kantor, a historian of Russian philosophy. Kantor creates a new intellectual biography of Chernyshevsky as opposed to the Soviet version, inherited from Lenin, of Chernyshevsky as a revolutionary Democrat. Chernyshevsky’s biography reflects the transformation of intellectual and political culture that took place in Russian society in the second half of the 19th century. I attempt to analyze the main ideas of the book through addressing the historiography of the subject in this critical article. The two main questions posed are whether a writer’s legacy can be “cleared” from the revolutionary myth and ideological interpretations, and is it fair to define him as a supporter of gradual reform and as a Christian thinker? The article also introduces the reader to the historical-philosophical tradition of research on Chernyshevsky. I also demonstrate the literary and philosophical sources for the study of Chernyshevsky’s work in the periods between three Russian revolutions and emigration. This essay presents a critical overview of the key instruments of historical and philosophical Chernyshevsky studies in the Russian intellectual context of the 20th century. Identifying the actual intention of the thoughts of Chernyshevsky is extremely important today. This paper responds to the relevance of studying the texts of Russian social and religious thought in the present stage of the problematic field of the history of philosophy.
Keywords: myth, Christian ideology, revolution, Russian Europeanism, religious philosophy
Апология или деконструкция мифа?
В конце 2016 года вышла в свет книга В. К. Кантора о Н. Г. Чернышевском, которая сразу привлекла внимание российского сообщества философов и историков литературы. Задуманная как биография для популярной серии «Жизнь замечательных людей», книга в методологическом и содержательном плане сохранила жанровые черты биографического описания, но переросла первоначальный замысел. В. К. Кантор, известный отечественный философ и писатель, чьи работы по истории русской мысли уже признаны классическими, подверг интеллектуальную биографию Чернышевского процедуре реинтерпретации, заново создавая образ публициста и писателя, культового персонажа недавней советской культурно-политической истории.
Можно ожидать, что книга В. К. Кантора о судьбе Николая Чернышевского вызовет серьезную дискуссию. Автор ставит себе непростую задачу защиты героя, чье имя неразрывно связано с историей русской революции. Несмотря на то что Владимир Кантор, начавший профессиональный путь в науке с анализа эстетических идей Чернышевского, постоянно возвращался к этой фигуре, книга, на наш взгляд, является вызовом для самого исследователя. Ведь центральной темой историософских построений В. К. Кантора является Российская империя, «противостоящая российскому хаосу» (Кантор, 2008). Довольно трудно исторически и философски реабилитировать автора самого известного русского идеологического романа «Что делать?», который в своих «рассказах о новых людях», по сути, противостоит социальному порядку Империи. Так это и воспринималось современниками. «Новые люди» Чернышевского типологически — социально и духовно — представляли альтернативу экономическому, политическому и культурному укладу Российской империи, олицетворяемой русской монархией.
Главный тезис автора: Чернышевский стал мифом, который одна из сторон — власть — воспроизвела как фобию, как преследующий ее страх революционного заговора, другая — радикалы — использовала для усиления моральной силы и авторитета, склоняя к себе неравнодушное и думающее общество в борьбе с политической реакционностью царизма. Кантор ставит цель увидеть Чернышевского «в его подлинности, расколдовав фантом, который подарила ему злая судьба» (с. 4), следуя моральной максиме, что человек, «не получивший защиты при жизни, имеет право хотя бы на посмертный и по возможности непредвзятый анализ сделанного им» (с. 9).
Исследователь вновь поднимает из архива уголовно-политическое дело Чернышевского. Какие дополнительные аргументы можно найти в оправдание Чернышевского, доказывающие его полную непричастность к революционным поползновениям в России? Как к драме Чернышевского отнеслась интеллектуальная элита, либерально мыслящие русские европейцы, если подлог в деле был очевиден? Понятно, что согласиться с абсурдными обвинениями в руководстве тайного заговора большинство образованного класса России не могло, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях В. С. Соловьев, разбирая по пунктам ложные обвинения в адрес писателя (Соловьев, 1991: 373–383). В деле Чернышевского Соловьева интересовала именно нравственная сторона вопроса. Такую же позицию Соловьев занял в свое время и по вопросу наказания убийц Царя-Освободителя, взывая к высоте христианского чувства и всепрощению. Примечательно, что на страницах «Вестника Европы», отдавая долг памяти и уважения Чернышевскому, Соловьев счел необходимым защитить его и как автора диссертации «Эстетическое отношение искусства к действительности», вступив тем самым в полемику с приверженцами теории «искусства для искусства». Именно великого русского европейца и религиозного философа В. С. Соловьева, охарактеризовавшего работу молодого Чернышевского как «первый шаг к положительной эстетике», вместе с Н. А. Бердяевым, В. Г. Короленко, В. В. Розановым, берет в свои союзники В. К. Кантор, выступая на стороне защиты (с. 9, 488–494). Апеллируя к высказанной выдающимися деятелями русской культуры оценке жизни и творчества писателя, он начинает новую борьбу за наследство Николая Чернышевского. Кантор видит в нем не радикала, а евангельского «нового человека», просветителя и христианского мыслителя эпохи великих реформ, заявившего о пути преобразований России, но трагически изъятого из этого процесса.
Что же произошло? На этот вопрос и отвечает В. Кантор. Он разворачивает систему аргументации на основе всестороннего анализа событий жизни Чернышевского, эпистолярного и художественно-публицистического корпуса сочинений и текстов, пытаясь убедить читателя в том, что «самое дикое и глупое в этом было, что именно Чернышевский решительно выступал против радикализации общественной жизни» (с. 7). Фигура Чернышевского, по мысли автора, быстро превратилась в общественном сознании в некий миф. Закукливание своего имени в оболочку мифа посредством создания слухов и сплетен осознавал и сам Чернышевский, что отражено в его письме (приобщенному к «делу») к князю А. А. Суворову. На это обстоятельство, как важнейшее для раскрытия основной идеи книги, указывает В. Кантор: «Чернышевский описывает, что его жизнь стала предметом мифотворчества, он это знает и понимает» (с. 290). Общество отреагировало справедливым возмущением и негодованием. Но и эта поддержка общественного мнения сыграла с Чернышевским злую шутку. Автор книги расследует ситуацию с романом, сочиненным в период сидения в Петропавловской крепости, и выносит приговор общественному сознанию: «Власти нарвались на мифологическое сознание общества, сами при этом создав миф о Чернышевском-революционере. Никто не ожидал, что безвинный арест превратит мыслителя в революционера-страдальца, а каждое его слово будет читаться именно в этой программе, предложенной самим правительством» (с. 341).
Деконструируя сложившийся идеологический стереотип, В. Кантор предпринимает попытку снять хрестоматийный глянец с фигуры мыслителя и писателя, привлекая внимание к автору, который перестал быть интересным как для читающих поклонников русской литературы, так и для историков русской мысли. В чем причина забвения Чернышевского, то ли уважительного, то ли пренебрежительного молчания, его окружающего? Читая книгу, можно понять, что главный мотив исследования, предпринятого В. К. Кантором, — снятие негласного табу с наследия Чернышевского.
Можно констатировать, что по поводу автора «Что делать?» после деконструкции коммунистической идеологии сложился молчаливый консенсус о роли и месте писателя в интеллектуальном пространстве России. Как знаковая фигура революционной истории Чернышевский оказался более не нужен. Ведь он был объявлен большевистской властью лидером революционных демократов и почитался в Стране Советов как подвижник и мученик революции, пострадавший от царского режима. Коммунизм утратил свою мифологическую целостность, а его светские святые — идеологические герои победившего социализма — свою сакральность. Главный роман Чернышевского «Что делать?», потеряв ценность как идеологическое произведение, значительно поблек в художественном отношении, переместившись на периферию идейного пространства. Казалось бы, подобная «фигура умолчания» — теперь уже вечный спутник посмертной судьбы писателя, некогда «перепахавшего» вождя русского пролетариата Ленина и крепкой ленинской рукой привлеченного в свой стан для интеллектуальной и моральной легитимации революции в России.
Грядет столетие русского переворота, столь катастрофически сказавшегося на судьбе России. Для большой части российского общества процесс осмысления отечественной истории все еще травматичен, но понимание того, что большевизм как теория и практика социальной революции ни политической, ни духовной реанимации не подлежит, есть базовая посылка. Как бы ни относиться к битве за историю, сведенной к спору о ритуальном жесте в виде выноса тела Ленина из мавзолея, к борьбе за символический капитал коммунизма — его идеологическое наследие в виде «мифа о революции» и ее культурных героях действительно должно быть расколдовано. Исходя из данной логики, интеллектуальную историю необходимо прочитать заново.
В случае с Чернышевским эта задача значительно осложняется. Редактор «Современника» был объявлен «властителем дум» радикально настроенной молодежи и помещен в синодик революционно-освободительного движения, представляя, по определению Ленина, вторую после дворянского этапа эпоху разночинной интеллигенции, подготовившей последний и решающий этап пролетарской революции. Как известно, ставшая канонической интерпретация русской истории, в основе которой — классовый подход к пониманию субъекта истории и ее движущих сил, была изложена вождем русской революции в юбилейной статье 1912 года «Памяти Герцена», написанной к 100-летию со дня рождения выдающегося русского интеллектуала. Знаменитая крылатая фраза Ленина, что «декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной воли“», — все еще памятна всем выпускникам советской школы (Ленин, 1968: 261). Герцен, как и Чернышевский, были присвоены революционными идеологами. Особую ценность для идейных марксистов и радикалов всех мастей в их наследии представляла трагедийно-драматическая история отношений Герцена и Чернышевского с русской монархией — оппозиционно-эмигрантская линия дворянина Герцена и ссыльно-каторжная линия Чернышевского. Последний был осужден за действия, «причиненные мыслью», состав преступления которых был неочевиден до такой степени, что власти пришлось прибегнуть к откровенному навету. В идеологической вивисекции русской истории Герцен и Чернышевский стали воплощением материалистического мировоззрения, что позволяло использовать их авторитет для борьбы с освящавшей сакральный авторитет трона церковью. Но к вопросу о религиозных убеждениях Чернышевского мы еще вернемся — он является одним из краеугольных моментов книги.
Принимая во внимание новую российскую ситуацию с ярко выраженной борьбой политических дискурсов, можно утверждать, что сверхзадача новой книги В. К. Кантора состоит в пересмотре наследия Н. Г. Чернышевского — в первую очередь в ревизии историко-философской идеологической схемы, прочно сколоченной марксистско-ленинской традицией, в которую включена и история общественной мысли России. Причем это не просто идея настройки новой оптики, но и поиск интеллектуальной перспективы для проекта русской мысли, центрированной на историософской проблематике России. Основная авторская идея — идея актуализации классики, и, обращаясь к жизни и творчеству Чернышевского, Кантор последовательно продолжает осуществлять свою программу, сформулированную еще в книге «Русская классика, или Бытие России», о высших «бытийных смыслах» классической культуры (Кантор, 2005: 4). Его книга о Чернышевском отвечает генерализующей задаче диалогического усвоения и переоткрытия бытийных смыслов русской культуры. Собственно, для этого он и включается в борьбу за наследство Чернышевского, проделывая работу по деидеологизации наследия и пересмотру историко-философских клише, подпадающих под идеологическую рамку прошлых интерпретаций.
Возникает устойчивое впечатление, что через реинтерпретацию наследия Чернышевского Кантор пробивается к созданию нового канона истории, о необходимости которого высказывался во многих своих текстах. Эту программу создания нового канона культурной истории и философского его комментирования Кантор в полной мере разворачивает и в книге о Чернышевском. Социальную и духовную историю России, как нам представляется, он хочет написать от лица представителей идейного течения русского европеизма, к которому принадлежат лучшие умы России от Пушкина и Станкевича до Бердяева и Степуна. В ней нет места утопизму и революционаризму, как нет места и косному традиционализму и политической реакционности — в ней есть социальный прогрессизм и культурная работа. Можно ли соотнести Чернышевского с христианско-либеральной традицией русского европеизма? Кантор делает попытку выстроить подобную перспективу, где возникает новый образ Чернышевского как христианского мыслителя, рефор матора-постепеновца, не социалиста и материалиста, зараженного радикализмом, а просветителя и практического культурного деятеля, противостоящего двум типам русских хаосов — «революции и реакции» (Струве). Это горизонт, к которому автор книги стремится, старясь убедить нас в справедливости своего видения Чернышевского. Кантор предъявляет читателю исследование событий его жизни — свидетельства в виде дневников, писем героя и воспоминаний современников о нем, вписывая Чернышевского в контекст русской общественной мысли — в сложившиеся традиции толкования этого значимого персонажа отечественной культуры, отчего работа приобретает синтетические черты жанра философского романа. Историко-философский метод реконструкции, применяемый при создании интеллектуальной биографии Чернышевского, переводит текст из литературно-повествовательного плана в область философской рефлексии и реконструкции социального и духовного контекста эпохи. В авторской селекции фактов и артефактов фигура Чернышевского предстает ключевой для новой версии истории, обозначающей развилку русской мысли, за которой просматривается проблема выбора пути на конкретном историческом этапе развития России.
«Новые люди» или «духи революции»?
Итак, жанр книги — интеллектуальная биография. В истории русской литературы есть знаменитый и необычный по замыслу прецедент написания биографии Чернышевского как вставного произведения внутри художественного текста, связанного с биографической линией творчества героя повествования, писателя Годунова-Чердынцева, в образе которого угадываются черты Владимира Набокова, автора романа «Дар», опубликованного в эмиграции в 1937–1938 годах. О романе Владимир Кантор упоминает только в самом начале для того, чтобы дистанцироваться от ироника и эстета Набокова, который «принизил мученика» в своем романе (с. 7). Но так ли далеко расходится с Набоковым в своем прочтении Чернышевского автор книги? Ведь за опытом самопознания русской истории ГодуноваЧердынцева сквозь призму судьбы Чернышевского прочитывается горький опыт саморефлексии русской эмиграции, ее идейно-политического и духовно-культурного крыла, к которому по рождению и ментально принадлежат автор «Дара» и его герой Годунов-Чердынцев. Именно к авторитету философов-эмигрантов — С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и Ф. А. Степуна — Кантор прибегает, чтобы реабилитировать героя своего философского романа и освободить его образ из революционно-мифологических пелен.
Проведем некоторые параллели между двумя книгами о Чернышевском — Набокова и Кантора. Мотивы написания биографии духовного лидера народнической и революционно-демократической интеллигенции указаны Набоковым в эпатажном ироническом ответе героя, Федора Константиновича, — «упражнение в стрельбе» (Набоков, 1990: 177). В романе Набокова «светлая эпоха шестидесятых» видится как альтернатива сегодняшнему дню, «страшному времени», «когда у нас попрана личность и удушена мысль» (Набоков, 1990: 177). Такую позицию в поддержку идеи написать биографию Н. Г. Чернышевского высказывает Александр Яковлевич Чернышевский. От лица этого персонажа передается важная мысль, отвечающая умонастроению многих русских интеллектуалов, их оценки шестидесятых годов.
В этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее — все это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации, крестьян — от помещиков, гражданина — от государства, женщины — от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения, — жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, — но еще именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли, и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный, — вдумчивый, честный, смелый… Нет, нет, это прекрасно, — непременно напишите!
— восклицает Александр Яковлевич (Набоков, 1990: 178).
Вчитываясь в «доски судьбы» Николая Гавриловича, Годунов-Чердынцев (а за ним и Набоков) открывает для себя идейный субстрат русской интеллектуальной среды, которая духовно и социально породила и народников, и радикалов-террористов, и профессиональных революционеров, приведших Россию и его семью к исторической катастрофе и к нынешнему состоянию вынужденной эмиграции:
Он старался разобраться в мутной мешанине тогдашних философских идей, и ему казалось, что в самой перекличке имен, в их карикатурной созвучности, выражался какой-то грех перед мыслью, какая-то насмешка над ней, какая-то ошибка этой эпохи, когда бредили, кто — Кантом, кто — Контом, кто — Гегелем, кто — Шлегелем. А с другой стороны, он понемножку начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк. (Набоков, 1990: 183)
Заново переоценивая «дидактическую эпоху» 60–80-х, когда «люди льнули к наставнику, вот-вот готовому стать вождем» (Набоков, 1990: 209), Годунов-Чердынцев отдает дань памяти и уважения нравственному подвигу Чернышевского, его роли в освободительном движении, к которому был причастен и отец Набо кова, один из виднейших кадетов, погибший в эмиграции от рук фанатичных монархистов. Признание героя Набокова явно созвучно общей идее книги Кантора: возможно, без наставничества умеренного в своих политических взглядах Чернышевского, отлученного от России в период, когда она имела свой исторический шанс на мирное реформирование и модернизацию социального порядка, общественное сопротивление косности русского абсолютизма все отчетливее приобретало радикально-революционный оттенок. Эта мысль — сожаление о «загубленном древе жизни» (образ, который Кантор намеренно заимствует у В. В. Розанова, встраиваясь в русскую культурфилософскую традицию) как о неиспользованном шансе рефреном звучит у автора книги, вступая в резонанс с выводами ГодуноваЧердынцева:
Он живо чувствовал некий государственный обман в действиях Царя-Освободителя, которому вся эта история с дарованием свобод очень скоро надоела; царская скука и была главным оттенком реакции. После манифеста, стреляли в народ на станции Бездна, — и эпиграмматическую жилку в Федоре Константиновиче щекотал безвкусный соблазн, дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями Бездна и Дно. (Набоков, 1990: 183)
На непосредственное участие Александра II в «гражданском убийстве» Чернышевского, мотивированном и личным страхом, и личной неприязнью монарха по отношению к человеку, имевшему собственное мнение и смелость отстаивать свою невиновность, как если бы самодержец и его подданный были равны в своем праве личного достоинства, со всей значительностью этого эпизода указывает Кантор: «Поразительное дело, но более всего любой автократический режим не приемлет независимость духа и мысли. Кажется, единственный из русских литераторов того времени в письме к русскому царю он подписался не „Ваш верноподданный“, а „Ваш подданный“. Разница громадная» (с. 494).
И все же мыслители и художники слова, пережившие три русских революции, насильно разлученные со своей горячо любимой родиной, сполна испившие чашу исторического гнева и духовной горечи, признавая высоту нравственного облика Чернышевского, весьма критичны к его наследию. Они практически единогласно считают его источником импульса, приведшего к полевению русского общества, к его радикализации и «омарксовлению», видя в нем идейного предтечу разрушения религиозных основ русской жизни и понижения уровня культуры. И здесь есть самый сложный пункт для аргументов в защиту Чернышевского, поскольку такие представители русской общественной и религиозной мысли, как Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, П. Б. Струве, С. Л. Франк, метафизически не опознают в нем носителя свободного и православного духа.
В то же время анархо-коммунизм, возникший в лоне революционного народничества, в лице своего мощного теоретика П. А. Кропоткина напрямую выводит генеалогию «новых людей» — революционных делателей — из публицистики и романа Чернышевского. Сравнивая тургеневского Базарова и «новых людей» Чернышевского, Кропоткин свидетельствует, что тургеневский нигилист Базаров не мог удовлетворить жаждущую конкретного дела молодежь: «Нигилизм с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия был только переходным моментом к появлению „новых людей“, не менее ценивших индивидуальную свободу, но живших вместе с тем для великого дела. В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе „Что делать?“, мы уже видели лучшие портреты самих себя» (Кропоткин, 1991: 407). Кропоткин подчеркивает воспитательное значение публицистики Чернышевского, говоря о том, что «он проповедовал в прикровенной форме, но вполне понятно для читателей — фурьеризм, изображая в привлекательном виде коммунистические ассоциации производителей. Он также изобразил в своей повести типы действительных „нигилистов“, наглядно указав, таким образом, их различие от тургеневского Базарова» (Кропоткин, 1991: 443). Кропоткин подтверждает, что «ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого-либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского. Она сделалась своего род знаменем для русской молодежи, и идеи, проповедуемые в ней, не потеряли значения и влияния вплоть до настоящего времени» (Кропоткин, 1991: 443).
Сложность расколдовывания художественно-философского наследия Чернышевского с точки зрения его культурно-политической и религиозной идентичности связана еще и с тем, что продемонстрированная им в жестоких поворотах судьбы модель поведения имеет сходство с аскетическими формами подвижничества христианских святых. Неслучайно Чернышевский был причислен победившими большевиками к сонму революционных мучеников. Это свойство морального стоицизма и аскетизма Чернышевского было отмечено и либеральными мыслителями. В. К. Кантор отсылает читателя к веховской статье С. Н. Булгакова «Героизм и подвижничество», используя в качестве аргумента защиты и указывая на признание Булгаковым за Чернышевским высокого морального духа (с. 490–491), восходящего «к духовным навыкам, воспитанным Церковью» (Булгаков, 1993: 307). Это так. Но главная мысль Булгакова иная. Пафос статьи заключается в том, что аскетизм и подвижничество русской интеллигенции как внешние формы, своего рода псевдорелигиозность, растождествляются автором с подлинной религиозностью. По мнению Булгакова, Чернышевский как «вождь русской интеллигенции» стоит в начале этого процесса разрыва с христианством, сохраняя еще моральные черты религиозной культуры, что не обнаруживает себя в его «исторических детях и внуках» (Булгаков, 1993: 307). Кантор делает ссылку на Н. А. Бердяева, который говорит о нравственных качествах Чернышевского, называя его одним «из лучших русских людей», «близким к святости» (с. 492). Но здесь же, в «Русской идее», характеризуя революцию как культурную катастрофу, Бердяев напрямую связывает русский революционаризм с идейным наследием Чернышевского. Он заявляет, что «деятели русской революции жили идеями Чернышевско го, Плеханова, материалистической и утилитаристской философией, отсталой тенденциозной литературой, они не интересовались Достоевским, Л. Толстым, В. Соловьевым, не знали новых движений западной культуры. Поэтому революция у нас была кризисом и утеснением духовной культуры» (Зись, 1994: 279). Можно возразить, что Бердяев оценивает не мировоззрение и творчество Чернышевского, а просто констатирует факт, что неверное восприятие идей писателя, их радикализация позволила притянуть его в стан революционеров. Однако свою мысль Бердяев проясняет в других работах. Так, в статье «Русский духовный ренессанс начала ХХ в. и журнал „Путь“» он пишет о трагедии культуры, разрушенной революцией, возводя атеистический пафос революции к идейной программе Чернышевского: «В революции произошел срыв русской культуры, перерыв культурной традиции, которого не произошло, например, во французской революции. Произошло низвержение культурного слоя. Н. Чернышевский победил Вл. Соловьева. Вся сложная религиозная проблематика начала ХХ века исчезла за элементарными реакциями против преследования Церкви и христиан» (Бердяев, 1994: 317). В «Мутных ликах» Бердяев определенно формулирует, что «революция произошла от духа Чернышевского, а не от духа Вл. Соловьева», противополагая их именно метафизически (Бердяев, 1994: 454). И еще раз возвращается к этому важнейшему для него тезису в итоговой книге «Самопознание»: «Трагично для русской судьбы было то, что в революции, готовившейся в течение целого столетия, восторжествовали элементарные идеи русской интеллигенции» (Бердяев, 1991: 165). Отец революционной интеллигенции — Чернышевский. Бердяев резюмирует: «Русская революция идеологически стала под знак нигилистического просвещения, материализма, утилитаризма, атеизма. „Чернышевский“ совсем заслонил „Вл. Соловьева“» (Бердяев, 1991: 165). Очевидно, что автор «Философии свободного духа» не по духовным, не по социальным основаниям не готов признать в Чернышевском христианского мыслителя и мирного постепеновца.
Примечательно, что П. Б. Струве, блестящий аналитик русской общественной мысли, проделавший, как и Бердяев, путь от марксизма к идеализму, в работе «К характеристике нашего философского развития», вошедшей в сборник 1902 года «Проблемы идеализма», причисляет Чернышевского к материалистическому направлению русской мысли, выявляя влияние позитивистских мировоззренческих установок критика и писателя на развитие русского марксизма, отмечая при этом догматичность и элементарность его философских построений.
Главное (и огромное) значение Чернышевского, — подчеркивает Струве, — для его времени коренилось в том, что он был материалист и социалист, выливший свое теоретическое и практическое миросозерцание в столь соблазнительно ясные и решительные формулы, как никто ни до, ни после него… Роль Чернышевского аналогична роли г. Михайловского. Он был философом своего поколения, но не научным деятелем; он написал несколько блестящих публицистических статей, но не был публицистом. Русский социологический субъективизм есть хотя и примыкающая к Конту, но в значительной мере оригинальная попытка удовлетворить метафизическую потребность в пределах позитивизма. В этой попытке ценен философский замысел, или, пожалуй, точнее, плодотворное философское недоумение, в ней сказавшееся. П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский, думается нам, никогда не были такими «властителями дум» своего поколения, как Н. Г. Чернышевский, но в качестве философов и ученых они значительно выше своего более влиятельного предшественника, сила влияния которого определялась тем, что составляло слабость его философствования и научных опытов. Я имею в виду догматический склад ума и элементарность самой точки зрения Чернышевского. (Струве, 1997: 187)
И уже в знаковой статье «Интеллигенция и революция» из сборника «Вехи», говоря о восприятии «русскими передовыми умами западноевропейского атеистического социализма» как духовно-идейного источника, заложившего основы миросозерцания русской интеллигенции, Струве возводит Чернышевского к полевевшим Белинскому и Бакунину, видя в нем продолжателя этой традиции. Он проводит типологическое разграничение, говоря о Чернышевском как о совсем ином типе русского интеллектуала-интеллигента. Но для Струве он не несет в себе черты высокой духовной культуры:
Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое» различие. Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу,
— настаивает Струве (Струве, 1997: 194). Вывод Струве известен. Самоосуждение русской интеллигенции, ее безрелигиозности и антигосударственной идеологии — один из центральных пунктов либерально-консервативной программы автора «Великой России»: «В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции» (Струве, 1997: 194–195).
Собственно, это и была та самая болезнь безрелигиозной веры русской интеллигенции, ищущей Царства Божьего на земле, или, по меткому выражению Струве, «удовлетворения метафизической потребности в пределах позитивизма». Духовный феномен русской революции определяется своеобразной перверсией религиозного сознания, аскетичного и догматичного, что было диагностировано Струве в «Вехах» и охарактеризовано как материалистический дух революции, «дух Чернышевского», Бердяевым в его ключевых историософских работах. Революция стала фактом исповедничества русской интеллигенции, при этом градус болезненного «политицизма» общества, склонного оценивать все явления художественного и духовного порядка с точки зрения их идейной прогрессивности в эсхатологическом горизонте чаемой революции, только нарастал, о чем говорит и С. Л. Франк в «Крушении кумиров»: «Сомнения в величии, умственной силе и духовной правде идей Белинского, Добролюбова, Чернышевского представлялось хулой на духа святого» (Франк, 2000: 152). Желал того Чернышевский или нет, его «новых людей» практически все общественные силы отождествили не с реформаторами и буржуазными предпринимателями, а с вестниками царства социальной свободы — с революционерами. Для власти и революционных демократов Чернышевский был проповедником эры справедливости и свободы с противоположными знаками — отрицательным для самодержавия и положительным для социалистов и марксистов. Для сторонников либерально-христианских взглядов Чернышевский, уже в период осмысления революции 1905 года, стал символом идейно заряженной русской интеллигенции, склонной к социальному радикализму и неверию.
Дух веры в торжество идеалов справедливости и общественного блага, почти религиозный по своей нравственно-психологической природе, легко приобретал черты морального ригоризма и догматизма. Тем более что в качестве идеала бралась все та же религиозная заповедь любви к человеку, воспринятая от христианской традиции и трактованная в духе идеалов высшей социальной справедливости и коммунитарности — новой революционно-эсхатологической общины. Эта очень тонкая подмена в неразличении духов привела к опасной форме превращенного религиозного сознания, к подмене страдания во имя Христа и практики духовной аскезы как пути личного спасения и обожения на страдания во имя светлого будущего, где средств для достижения социальных целей революции уже не выбирали. Об этом перевертыше религиозного сознания высказался в «Истоках и смысле русского коммунизма» Николай Бердяев. Личностно-психологической изнанкой веры в слово и убежденности в своей правоте нередко становилась категоричность суждений и нетерпимость к иному мнению.
Догматичность и безапелляционность в какой-то момент стали поведенческой чертой Чернышевского. Это изменение отметил В. С. Соловьев, приводя воспоминания своего отца, выдающегося историка либеральных взглядов С. М. Соловьева: «Я помнил, — говорил отец, — замечательно умного и толкового собеседника, скромного и любезного, — и вдруг непогрешимый оракул, которого можно только почтительно слушать. Совсем другой человек сделался — узнать было нельзя» (Соловьев, 1991: 377). Искренне настроенный в поддержку Чернышевского, В. С. Соловьев добавлял, что отец пытался понять и до какой-то степени оправдать подобную перемену в писателе: «Впрочем, и слова отца, помню, были сказаны не столько в упрек Чернышевскому, сколько в обличение незрелости, несерьезности и холопского духа в русском обществе» (Соловьев, 1991: 377). Видимо, этот стиль общения, а также невнимание к другой правде в свое время оттолкнули и либе рального Ивана Тургенева, и Льва Толстого, находившего в Чернышевском силь ного критика. Н. О. Лосский в «Истории русской философии» приводит эпитет Тургенева в адрес Чернышевского и его соратника по «Современнику» Добролюбова. Речь шла о нигилизме и нигилистах: «И. С. Тургенев, который придумал это название, сказал однажды Чернышевскому в беседе о его движении: „Вы, Николай Гаврилович, просто змея, а Добролюбов — очковая“» (Лосский, 2011: 80).
Бравировал Чернышевский или иронизировал, когда выговаривал в письме к К. Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888: «Я мягок, деликатен, уступчив, пока мне нравится забавляться этим… Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра: я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех… Герцена (…он вертелся передо мной, как школьник)… Некрасова, который был много покрепче Герцена» (Чернышевский, т. 15: 790). Но факт остается фактом. Толстой, совсем не отличавшийся гибкостью суждений в общении с собеседниками, записывает в дневнике 1910 года от 1 июня: «Читал Чернышевского. Очень поучительна его развязность грубых осуждений людей, думающих не так, как он» (Толстой, 1985: 384). Читал Толстой статью Н. С. Русанова «Чернышевский в Сибири. По неизданным письмам и семейному архиву», опубликованную в четвертом и пятом номерах журнала «Русское богатство» за 1910 год. Интерес и внимание великого писателя к критику, который когда-то обозначил крылатой фразой толстовский психологический реализм, назвав его «диалектикой души», не ослабевал до конца жизни.
Во многом моральный ригоризм и догматическая риторика «новых людей», «детей и внуков» Чернышевского, прикрывавшая антицерковность и атеизм, не позволила русским религиозным философам увидеть в Чернышевском верующего человека и христианского мыслителя. Но можно ли Николая Чернышевского, знавшего текст Евангелия практически наизусть, обвинить в материализме и атеизме? Что вычитывает блестящий выпускник семинарии у Фейербаха, французских социал-утопистов и позитивистов в духе Конта? Владимир Кантор, отвечая на этот вопрос, становится оппонентом русских интеллектуалов — представителей либерального крыла и религиозных философов. В главе «Университетские годы. Perpetuum mobile и размышления о „бесконечном усовершенствовании христианства“» автор книги предлагает читателю аргументы, позволяющие сделать вывод: пройдя интеллектуальный искус Фейербахом, Чернышевский не расстался с религиозными воззрениями, разве что более критично стал относиться к церкви. Находит ли этот тезис подтверждение у русского религиозного мыслителя и православного священника о. Василия Зеньковского?
Для Зеньковского Чернышевский представляет новую генерацию русских людей, которые верят в науку почти религиозно, с романтической страстностью и утопической безоглядностью. Это явление, маскирующееся под материализмом и реализмом, Зеньковский определяет «секулярной религиозностью» (Зеньковский, 1991: 132). Чернышевский неоднократно говорил о себе как о мыслителе, который последовательно держится «научной точки зрения». Теория «разумного эгоизма», разрабатываемая Чернышевским, по словам Зеньковского, это этика утилита ризма, базирующаяся на принципе «научного обоснования морали». Как пишет Зеньковский, в центральной философской работе «Антропологический принцип в философии» Чернышевский «горделиво заявляет, что „метод анализа нравственных понятий в духе естественных наук… дает нравственным понятиям основание самое непоколебимое“» (Зеньковский, 1991: 136–137). Но собственно критического анализа философских начал антропологии историк русской мысли в ней не обнаруживает. Он отмечает, что вся философская проблематика отпадает, а автор демонстрирует скудость материалистического взгляда на природу человека, самоуверенно выдавая «свои построения за бесспорный „итог современной науки“», с характерным для некритического мышления «бесцеремонным отношением к инакомыслящим» (Зеньковский, 1991: 133). Антропологическая проблематика «представляется Чернышевскому как подчинение в познании всего принципам, господствующим в сфере физико-химических процессов» (Зеньковский, 1991: 135). Очевидно, что подобный биологизм и наивный реализм в рассуждениях Чернышевского противоположны христианской антропологии.
Тем не менее связь с христианской этикой присутствует в рассуждениях Чернышевского. И этот факт Зеньковский выделяет как идеальный порыв морального сознания, имеющего смысл и ценность в самом себе, а не в естественных проявлениях человеческого существа, злое и доброе начало в котором зависит, как настаивает Чернышевский, от обстоятельств: «при известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол» (Зеньковский, 1991: 138). Пафос свободы и веру в права личности против всякого социального угнетения Зеньковский называет отличительной и, быть может, самой сильной стороной личности Чернышевского, что позволяет говорить о мировоззренческой принадлежности писателя не только материализму, позитивизму и утилитаризму, но и идеализму. Специфический синтез ценностей и методов науки, социалистических идей и христианской морали в философско-антропологической и этической программе Чернышевского строится, как отмечает Зеньковский, на «замещении религиозного мировоззрения» в рамках секуляризма с попыткой сохранить «все ценности, открывшиеся миру в христианстве» (Зеньковский, 1991: 142). Как можно понять Зеньковского, идейная программа, возникающая при соединении практически несоединимого, ведет к внутренней драме — к самодискредитации философского дарования. «Упрямые», «безапелляционные», «нетерпимые», «докторальные», «пренебрежительные» — так характеризует Зеньковский стиль философской критики Чернышевского, говоря о его высказываниях, ниспровергающих авторитеты, зараженных социальным утопизмом и политическим радикализмом. С сожалением Зеньковский заключает, что взгляды Чернышевского малы для его ума и не соответствуют его дарованию, но по факту становятся основанием русского позитивизма и материализма (Зеньковский, 1991: 142).
Для В. В. Зеньковского Н. Г. Чернышевский идейно остался выразителем «русского радикализма» — лидером нового поколения, его духовным вождем (Зеньковский, 1991: 127). В спорах об оценке наследия Чернышевского стоит отметить и другое мнение, существовавшее среди эмигрантов — историков русской культу ры. Так, духовный источник русской революции Е. В. Аничков возводил к Герцену, противопоставляя его Чернышевскому.
Все главные лозунги русского революционного движения до самой «Народной воли» провозглашены Герценом. Настоящим вдохновителем революционеров еще во времена «нечаевщины» станет его друг Бакунин. Но Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же исходит и «Земля и Воля», и «хождение в народ»… Провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мятутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения…
— писал Аничков в работе «Две струи русской общественной мысли. Герцен и Чернышевский в 1862 г.» (Аничков, 1930: 234–235).
Однако приходится признать, что историко-философская характеристика, данная Зеньковским, была разделяема большинством мыслителей русского Серебряного века, не увидевших в Чернышевском христианского философа.
В диалоге с автором и героем: Чернышевский глазами русского европейца
Мало кому из наших современников могла прийти мысль, что Николай Гаврилович Чернышевский — это «непрочитанный», «неопознанный» персонаж русской интеллектуальной истории. Но Владимир Кантор показывает читателям хрестоматийного автора в совершенно ином ключе — как христианского социалиста и реформатора-преобразователя, ученого и писателя с прогрессистским мировоззрением. Что дает право на подобную интерпретацию? Какую мысль хочет донести до нас Владимир Кантор? Чернышевский — жертва. Вину за загубленную жизнь автор книги возлагает на реакционную бюрократию и напуганного ею Царя-Освободителя. Именно ее пугливыми стараниями, антиправовыми и антиморальными действиями царской власти по злоумышленной дискредитации Чернышевского был создан миф о писателе как о революционере, опасном «карбонарии». Вину за тиражирование и культивирование этого мифа Кантор возлагает на революционных демократов и марксистов во главе с Лениным, создавшим советский канон толкования идейного наследия Чернышевского. Автор пытается показать Чернышевского как христианского мыслителя и здесь избирает линию защиты по нравственным основаниям его дела, солидаризируясь с оценкой трагедии Чернышевского, данной В. С. Соловьевым, В. В. Розановым и Ф. А. Степуном. В то же время внутри этой традиции русского европеизма существует круг не менее авторитетных мнений, высказанных И. С. Тургеневым, Н. А. Бердяевым, В. В. Зеньковским, Н. О. Лосским, П. Б. Струве, С. Л. Франком, касаемых духовно-философских оснований творчества Чернышевского и выявляющих расхождения его установок с религиозной метафизикой и либерально-христианскими ценностями.
Искренен и убедителен автор книги в глубочайшем сочувствии к жизни та лантливого человека, принявшего на свою долю огромные испытания и страдания, мужественно им скрываемые под маской иронии и деятельного активизма мысли. Мысли, не находящей реального применения и часто выглядящей поэтому как утопическое нагромождение научных и литературных планов. Эта главная христианско-апологетическая интенция работы блестяще реализована В. К. Кантором. Перед нами книга, содержащая тревожный вопрос о том, почему люди, рожденные в России с умом, душою и талантом, оказываются ненужными своему Отечеству, почему они не становятся подлинно новыми евангельскими делателями, собирающими мирную жатву труда и творчества. Увы, тяжелая закономерность постоянно воспроизводится в русской истории в судьбе одаренных людей, могущих и желающих быть полезными своими знаниями и делами нации и культуре.
Как ни странно, книга «Срубленное древо жизни», вроде бы противостоящая набоковской версии биографии Чернышевского, в основной посылке исследования близка мысли автора «Дара». Критическая работа по переосмыслению наследия оказалась крайне значимой для Набокова, как и для всей русской эмиграции. Ведь в опусе Годунова-Чердынцева о Чернышевском — этом идейном кумире русской интеллигенции, сокрушенном для интеллектуалов-эмигрантов жестокой правдой революции — он выразил трагический, напряженный вопрос образованного класса о причинах и конкретной ответственности исторических деятелей за произошедшее с русским обществом и государством. Эта задача переосмысления остается важной и для автора новой работы о Чернышевском. С точки зрения предъявляемого В. К. Кантором образа писателя и мыслителя книга остается в зоне риска. Извлечь «нового человека» Чернышевского из-под обломков двух империй — Российской и советской — довольно трудно. Необходимо высоко оценить исследовательскую честность Владимира Кантора, его обращение к самым неудобным вопросам русской истории, что позволяет снять печать молчания с известных, но «вынесенных за скобки» имен русских мыслителей. Можно с уверенностью сказать, что российский философ «перезапускает» чрезвычайно важный и актуальный разговор о судьбах русской мысли и наследии Николая Чернышевского по существу проблемы — духовной и идейной идентичности автора, сформулировавшего полтора века назад основной русский вопрос «что делать?», который адресован теперь уже «новым людям» современной России.
Литература
- Аничков Е. В. (1930). Две струи русской общественной мысли. Герцен и Чернышевский в 1862 г. // Записки русского научного института в Белграде. Вып. I. Белград.
- Бердяев Н. А. (1991). Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Книга.
- Бердяев Н. А. (1994). Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. М.: Ис кусство.
- Булгаков С. Н. (1993). Сочинения. Т. 2. М.: Наука.
- Зеньковский В. В. (1991). История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Ленинград: Эго.
- Зись А. Я. (ред.). (1994). Русская идея в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. Т. 2. М.: Искусство.
- Кантор В. К. (2005). Русская классика, или Бытие России. М.: РОССПЭН, 2005.
- Кантор В. К. (2008). Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России. М.: РОССПЭН.
- Кантор В. К. (2016). «Срубленное древо жизни»: судьба Николая Чернышевского. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив.
- Кропоткин П. А. (1991). Этика: избранные труды. М.: Политиздат.
- Ленин В. И. (1968). Полное собрание сочинений. Т. 21. М.: Издательство политической литературы.
- Лосский Н. О. (2011). История русской философии. М.: Академический проект, Трикста.
- Набоков В. В. (1990). Собрание сочинений. Т. 3. М.: Правда.
- Соловьев В. С. (1991). Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство.
- Струве П. Б. (1997). Patriotica: политика, культура, религия, социализм. М.: Республика.
- Толстой Л. Н. (1985). Собрание сочинений. Т. 22. М.: Художественная литература.
- Франк С. Л. (2000). Сочинения. Мн.: Харвест; М.: АСТ.
- Чернышевский Н. Г. (1953) Полное собрание сочинений. Т. 15. М.: Государственное издательство художественной литературы.
References
- Anichkov E. (1930) Dve strui russkoj obshhestvennoj mysli: Gercen i Chernyshevskij v 1862 g. [Two Jets of Russian Social Thought: Herzen and Chernyshevsky in 1862]. Zapiski russkogo nauchnogo instituta v Belgrade. T. 1 [Proceedings of the Russian Scientific Institute in Belgrade, Vol. 1], Belgrade.
- Berdyaev N. (1991) Samopoznanie (opyt filosofskoj avtobiografii) [Self-Knowledge: An Attempt of Philosophical Autobiography], Moscow: Book.
- Berdyaev N. (1994) Filosofija tvorchestva, kul’tury i iskusstva. T. 2 [A Philosophy of Creativity, Culture, and Art, Vol. 2], Moscow: Iskusstvo.
- Bulgakov S. (1993) Sochinenija. T. 2 [Works, Vol. 2], Moscow: Nauka.
- Chernyshevsky N. (1953) Polnoe sobranie sochinenij. T. 15 [Complete Works, Vol. 15], Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury. T. 15.
- Frank S. (2000) Sochinenija [Works], Minsk: Harvest, Moscow: AST.
- Kantor V. (2005) Russkaja klassika, ili Bytie Rossii [Russian Classics; or, The Being of Russia], Moscow: ROSSPEN.
- Kantor V. (2008) Sankt-Peterburg: Rossijskaja imperija protiv rossijskogo haosa. K probleme imperskogo soznanija v Rossii [Saint Petersburg: Russian Empire against Russian Chaos. Toward the Problem of Imperial Consciousness in Russia], Moscow: ROSSPEN.
- Kantor V. (2016) “Srublennoe drevo zhizni”: sud’ba Nikolaja Chernyshevskogo [“Cut Down the Tree of Life”: The Fate of Nikolai Chernyshevsky], Moscow, Saint Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives.
- Kropotkin P. (1991) Jetika: izbrannye trudy [Ethics: Selected Works], Moscow: Politizdat.
- Lenin V. (1968) Polnoe sobranie sochinenij. T 21 [Complete Works, Vol. 21], Moscow: Gospolitizdat.
- Lossky N. (2011) Istorija russkoj filosofii [History of Russian Philosophy], Moscow: Akademic Project, Triksta.
- Nabokov V. (1990) Sobranie sochinenij. T. 3 [Works, Vol. 3], Moscow: Pravda.
- Soloviev V. (1991) Filosofija iskusstva i literaturnaja kritika [Philosophy of Art and Literary Criticism], Moscow: Iskusstvo.
- Struve P. (1997) Patriotica: politika, kul’tura, religija, socializm [Patriotica: Politics, Culture, Religion, Socialism], Moscow: Respublika.
- Tolstoy L. (1985) Sobranie sochinenij. T. 22 [Works, Vol. 22], Moscow: Khudozhestvennaja literatura.
- Zenkovsky V. (1991) Istorija russkoj filosofii. T. II. Ch. 2 [History of Russian Philosophy, Vol. II, Part 1], Leningrad: Ego.
- Zis A. (ed.) (1994) Russkaja ideja v krugu pisatelej i myslitelej russkogo zarubezh’ja. T. 2 [Russian Idea in the Circle of the Writers and Thinkers of Russian Diaspora, Vol. 2], Moscow: Iskusstvo.
* Исследование финансировалось в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».