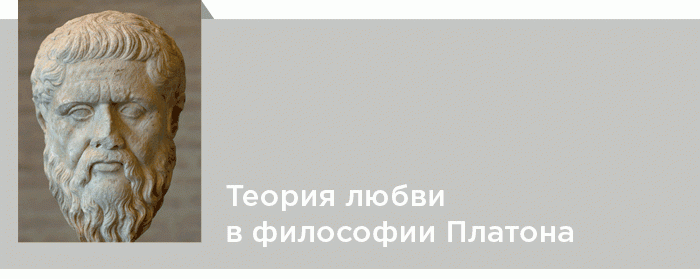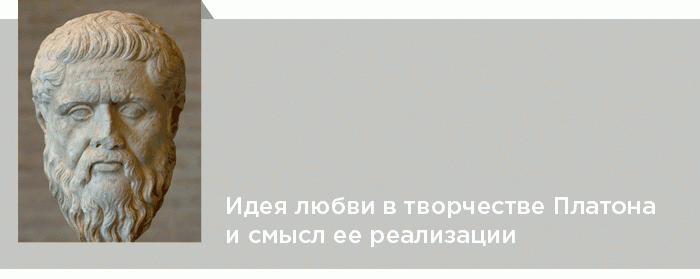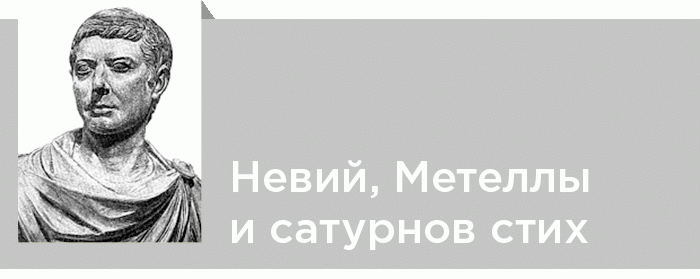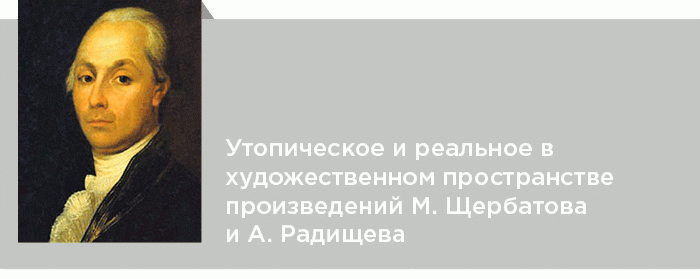«Пуническая война» Гнея Невия
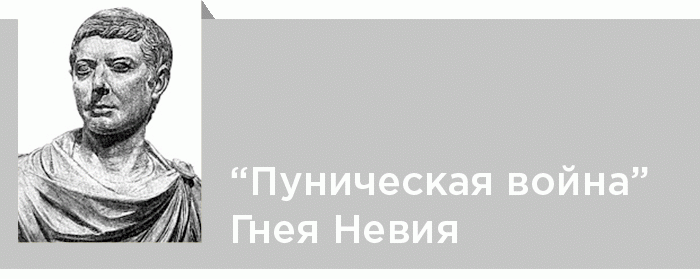
С. А. Ошеров
Третий век до н. э. для Рима был ознаменован выходом на широкую арену средиземноморской политики. Объединивший Италию город вышел победителем из двух грандиозных столкновений с восточным и западным эллинистическим миром — с царем Пирром и с Карфагеном. Результатом было не только усиление политической мощи Рима, но и более тесный контакт с миром греческой культуры, которая уже давно влияла на латинян через этрусков и италийских греков. Теперь это влияние усилилось. По мере того как Рим становился мировой державой, в нем росло стремление утвердиться среди культурных эллинизированных народов не только силой оружия, но и духовно. Однако всякая высокая духовная культура мыслилась в ту эпоху возможной лишь в тех формах, которые она приняла у греков. Так возникло в Риме своеобразное творческое соревнование с греками, особенно проявившееся в области литературы: римские писатели усваивали греческие формы и вместе с тем наполняли их новым, римским содержанием. Одним из основных вопросов этого творческого соревнования стал вопрос о создании национального эпоса Рима, который римляне могли бы поставить наряду с поэмами Гомера, продолжавшими считаться вершинами греческой культуры; знание этих поэм служило как бы отличием эллина от варвара.
Римляне, хотя и не обладали богатой мифологией, как греки, тем не менее имели достаточный материал для создания своего эпоса. «Арсеналом» этого материала была история периода царей и первых веков республики, которая состояла из подлинных исторических воспоминаний и сказаний, возникших, согласно известной гипотезе Нибура, из «пиршественных песен», исполнявшихся в честь предков. Эти песни, скорее всего, были не общенародными, а родовыми, служившими для прославления родоначальников. Многие из них проникали в народ и там теряли свой хвалебно-лирический характер и вместе с ним стихотворную форму (вероятно, сатурновский размер), смешивались с другими сказаниями и становились частью общенародной исторической традиции. Однако воспоминания о песнях жили еще в Риме; именно поэтому эпическим размером, который Ливий Андроник взял для перевода «Одиссеи» на латинский язык, был сатурний. Эта же память о первоначальной связи эпоса и истории служила психологической предпосылкой того, что первые римские эпики обратились за материалом прежде всего к отечественной истории (другой предпосылкой было убеждение, что гомеровский эпос также содержит описание подлинных исторических событий).
Таким образом, для создания эпопеи в Риме оказались все условия, необходим был только внешний толчок. Этим толчком явился патриотический подъем, вызванный второй Пунической войной. Несмотря на ее империалистический характер для обеих сторон, вторжение Ганнибала в Италию дало римлянам возможность представить ее как войну оборонительную, справедливую. Среди плебса, настроенного демократически, патриотический порыв особенно возрос, когда после целого ряда неудач и поражений, вызванных во многом засильем бездарных и непопулярных аристократов на командных постах в армии, Сципион, победитель пунийцев в Испании, опираясь на народ, вопреки воле сената, добился перенесения военных действий на территорию противника. Возможность близкой победы и мира после разорительной четырнадцатилетней войны воодушевила римский народ. Это общее воодушевление и толкнуло поэта римской демократии Гнея Невия, уже престарелого, написать произведение о победоносной для римлян первой Пунической войне. Так возникла первая в Риме историческая эпопея, явившаяся в то же время завершением дела жизни «кипучего» плебейского поэта.
Все творчество Невия было неразрывно связано с борьбой римского плебса против нобилитета, обострившейся в III в. до н. э., в период между двумя Пуническими войнами. Поэт выступил с первой своей пьесой в 235 г. В отличие от вольноотпущенника Ливия Андроника, Невий был римским гражданином. Весьма возможно, что он принадлежал к малоизвестному плебейскому роду Невиев, по имени родоначальника которых были названы ворота и роща на Авентине. Вероятно, демократические убеждения и ненависть к нобилям были в этой семье наследственными: в 284 г. народный трибун Невий принимает участие в привлечении к суду Сципиона Африканского. Но даже если Невий и происходил из Кампании, как предполагает большинство ученых на основании известного высказывания Геллия о «кампанской гордости» поэта, это ничуть не мешало ему полностью жить политическими интересами римского плебса. Тот же Геллий свидетельствует, что многие представители нобилитета подверглись насмешкам плебейского комедиографа. Эти антиаристократические настроения не затихли у Невия в старости, когда он уже задумал, а может быть и начал писать свою эпопею. Это ясно показывает знаменитая ссора с Метеллами. Дело касалось не личных антипатий автора: консул 206 г. Квинт Цецилий Метелл был достаточно непопулярен в народе хотя бы потому, что стоял за несколько лет до того во главе аристократической молодежи, собиравшейся бежать из Италии после Канн. Таким образом, Невий явился выразителем настроений всего плебса, и не случайно консул не мог применить к нему во всей строгости закон XII таблиц о диффамации, требовавший смертной казни; ведь для осуждения на смерть римского гражданина нужна была санкция всего народа, а плебеи не хотели выдавать своего поэта. Более того, вскоре народные трибуны освобождают Невия из тюрьмы, вероятно также под воздействием народа, сочувствие которого было подогрето известным намеком Плавта в «Хвастливом воине». Далее, отъезд Невия в Африку был скорее всего не столько изгнанием, сколько бегством поэта от «неюридической» мести нобилей. Мы считаем, что обеспечил ему этот отъезд сам Сципион, хотя обычно говорят, что Невий был враждебен испанскому герою. Но вспомним, что время, когда разыгрался конфликт Невия с Метеллами, было как раз периодом наибольшей (популярности Сципиона, которого народ из-за его столкновения с сенатом по поводу перенесения войны в Африку считал «своим». Так, по-видимому, относился к нему и Невий. Вот стихи Невия, на которых основывают вывод о враждебности поэта к Сципиону:
Etiam qui res magnas manu saepe gessit gloriose,
Cuj'us facta viva vigent, qui apud gentes solus praestat,
Eum suus pater cum pallio uno ab amica abduxit.
«Даже того, кто часто своей рукой славно совершал великие дела, чьи подвиги живы, кто один выше всех среди народов, — его отец в одном плаще увел от подружки».
При рассмотрении этих стихов бросается в глаза, что насмешка, содержащаяся в них, совершенно лишена политического характера, более того — она чрезвычайно похожа на обычные для Рима издевки «триумфальных песен». А упоминание подвигов имело как раз огромное значение в тот момент, когда молодой еще полководец, опираясь на народ, требовал у сената войск для того, чтобы совершить еще более великие дела. Таким образом, стихи Невия не только не оскорбляли Сципиона, но и способствовали увеличению его популярности в народе, чему немало содействовал и мнимооткровенный грубоватый характер этой хвалы — насмешки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Сципион взял с собой в Африку опального любимца плебеев (год «изгнания» Невия совпадает с годом африканской экспедиции Сципиона). Следовательно, и тут позиция Невия полностью совпадала с настроением римских демократических масс.
Вполне понятно, что Невий разделял и тот патриотизм, которым был в то время охвачен весь плебс. К сожалению, отрывки из «Ромула» и «Кластидия» настолько незначительны, что мы с трудом можем судить об их содержании. Но характерен сам выбор материала: основание города его первым героем, так сказать, самые истоки величия Рима послужили сюжетом для первой драмы; сюжет второй — взятие римлянами под предводительством Марка Марцелла галльского города Кластидия в 222 г. Последний сюжет особенно знаменателен: ведь причиной столкновения с галлами был вывод на их землю римских колонистов, осуществленный вождем демократии Гаем Фламинием, и война велась, таким образом, в интересах плебса. Очевидно, Невия привлекла возможность показать, на какие подвиги способен народ, когда борьба идет за близкое ему дело, а также прославить популярного Марцелла, сыгравшего большую положительную роль в войне с Ганнибалом после каннской катастрофы.
Поэтому естественно, что в момент патриотического подъема, усиленного решительным переломом войны с пунийцами в пользу римлян, когда нужны были последние героические усилия, чтобы окончательно одолеть врага, в течение двенадцати лет опустошавшего Италию, когда встал вопрос о перенесении военных действий на вражескую территорию, — в этот момент Невия привлекла самая злободневная тема — тема борьбы с Карфагеном. И так же естественно, что мысль его обратилась к более счастливой для Рима первой Пунической войне, уже овеянной духом легенды и более знакомой поэту, который был ее участником.
Уже в драме материалом для поэтической обработки Невию послужили сказания, составившие легендарную предысторию римского народа, и героические события недавнего прошлого.
Но повествование о длительной войне Невий не мог включить в полном объеме в короткое произведение, предназначенное для театра. Вместе с тем поэт, очевидно, не хотел сужать тему, изобразив какой-либо отдельный эпизод грандиозной борьбы. Нужно было найти новый жанр, соответствующий материалу. Таким жанром могла быть только героическая эпопея.
В тех кругах, представителем которых являлся Невий, эллинское влияние было не настолько сильно, чтобы эпопея мыслилась возможной лишь в гомеровских формах. Наоборот, перед поэтом возникала задача поставить рядом с эпопеей эллинов эпопею Рима, национальную не только по материалу, но и по форме. Хотя в эпоху Невия «пиршественные песни» уже не существовали, но воспоминание о них было живо, а создание эпических песен сатурновским стихом продолжалось, как показывают сочиненные на греческий сюжет «Песня о Нелее» и «Песня о Приаме». Более того, сатурновский стих как италийский эпический размер был закреплен переводом «Одиссеи», сделанным Ливием Андроником. Таким образом, создать гексаметрическую поэму Невий даже не стремился; римский эпос был связан для него не только с римским содержанием, но и с традиционно римской формой. А идея включения исторического материала в эпопею была в достаточной мере определена как всем развитием долитературното. эпоса у римлян, так и условиями эпохи.
От эпопеи Невия сохранилось меньше пятидесяти отрывков, из которых ни один не содержит больше четырех стихов, а некоторые — только одно слово. Поэтому преобладающая часть литературы о Невии посвящена реконструкции его поэмы или отдельных ее частей.
При прочтении отрывков становится ясно, что эпопея распадалась на две части, различные не только по содержанию, но и по стилю. Первая часть содержала легендарный материал (по делению грамматика Октавия Лампадиона — две первые книги), вторая (остальные пять книг) была посвящена описанию самой войны. Мы начинаем анализ со второй части, так как именно в ней особенно четко проявился оригинальный стиль Невия.
Прежде всего привлекает внимание сообщение Авла Геллия о том, что Невий в поэме сам говорит о своем участии в войне с Карфагеном.
Поэтому ясно, что Невий не пытался даже имитировать «безличность» гомеровского эпоса. Наоборот, певец прекрасносознает свое значение не только как поэта (об этом нам говорит его эпитафия), но и как солдата. Тем не менее нет основания предполагать, как это делает аббат Леже, что вся историческая часть поэмы — произведение глубоко личное, рассказ солдата о войне, пережитой им. Ни один из отрывков не дает основания считать, что Невий сам был главным героем своего произведения. Больше того, эпоха, в которую писал Невий, еще не была временем мемуаров и автобиографий. Даже в среде аристократии еще не был настолько развит интерес к отдельной личности, способный породить такого рода произведения или содействовать их успеху, что же касается, плебса, то в суровых битвах с пунийцами чувство полисного коллектива, коллективной гордости у него не только не ослабело, но и закалилось, окрепло. И Невий, говоря о себе как об участнике великой войны, не выделяет свою личность, а лишь с гордостью подчеркивает, что и он был членом коллектива, победившего сильного врага. И тут Невий остается верным представителем своего класса.
Не о своих делах в войне, а о делах римского войска пишет свою поэму Невий:
Transit Meilitam
Exercitus Romanus, insulam integram
Urit populatur vastat, rem hostium concinnai.
«Римское войско переправляется на Мальту, сжигает нетронутый остров, разоряет, опустошает, вражье дело совершает».
Римское войско — не только подлежащее этого лапидарного описания: оно было и героем всей эпопеи.
Немецкий исследователь Клуссман предполагает, что в центре внимания Невия стоят отдельные полководцы римского войска, в частности Атилий Калатин. Это предположение основано на том, что Калатин принадлежал к плебейскому роду. Вполне возможно, что яркий героический эпизод в Сицилии, когда теснимый неприятелем консул ускользнул лишь благодаря тому, что 400 легионеров во главе с военным трибуном долгое время удерживали в узком ущелье всю армию карфагенян, привлек поэта и послужил сюжетом части поэмы, к которой относятся два превосходных отрывка:
Seseque i perire mavolunt ibidem
Quam eum stupro redire ad suos populares.
«Они предпочли погибнуть на том же месте, чем с позором отступать к своим согражданам»
Sin illos deserant fortissimos viros,
Magnum stuprum populo fieri per gentes.
«A если бы оставили, они тех храбрейших мужей, великий позор был бы народу [римскому] между [другими] народами».
Даже эти незначительные отрывки показывают, что не консул был героем рассказа. Войско, солдаты, легионеры — вот кто является главным действующим лицом.
К ним относится определение fortissimi viri. Именно у них, подчеркивает автор, чувство чести развито настолько, что смерть они предпочитаю позору. А обрести позор — это значит потерять достойное место в полисном коллективе. Вспомним хотя бы судьбу каннских беглецов, осужденных нести позорную безвозмездную службу до конца войны. Боязнь stupri — лишения чести — черта в высшей степени характерная для староримского крестьянского войска, каким оно было в то время; эта боязнь придавала войску тот высокий моральный дух, выразителем которого стал Невий.
Но еще в большей степени симптоматичным является тот патриотизм, то высокое чувство ответственности за доброе имя своего народа, которое нашло отражение во втором отрывке. Неблагородный поступок какой-то части войска может навлечь stuprum на весь римский народ в глазах иных племен.
Это противопоставление римлян иноплеменникам ясно подчеркнуто противопоставлением слов populus (совершенно очевидно подразумевается Romanus) и gentes. Таким образом, каждая когорта, каждый легион чувствуют себя у Невия представителем всего римского народа, обязанным оберегать его честь, его репутацию среди других народов и его традиционные доблести.
Легко понять, что это было не только отражением действительных настроений римских демократических масс во время второй Пунической войны. Это была самая действенная пропаганда, которая должна была поддержать дух утомленного войной плебса, побудить его напрячь силы для окончательного разгрома неприятеля. А вся поэма о победоносной войне с пунийцами должна была показать, что победа вполне возможна. Недаром о том же напоминал в речи перед битвой при Тицине своим солдатам Публий Сципион-отец. А в обстановке борьбы плебса с сенатом за более активное ведение войны такая пропаганда, естественно, помогала тем, кто стремился к решительным действиям, т. е. с одной стороны — римской демократии, с другой — Сципиону.
Тот факт, что главным героем поэмы Невия было войско, т. е. организованный вооруженный римский народ, вовсе не означает, что поэт совершенно не коснулся полководцев этой армии:
Marcus Valerius consul
Partem exerciti in expeditionem dueit.
«Консул Марк Валерий ведет часть войска в поход» — так начинает он рассказ о первой крупной победе римских легионов, одержанной под командованием Марка Валерия Максима, прозванного после этой победы «Мессанским» (Messalla). Но сохранившиеся отрывки дают мало материала для выяснения приемов характеристики исторических деятелей у Невия. Очевидно, Невию был симпатичен Лутаций Катул, решительным ударом окончивший войну, которую в течение семи лет тянул сенат, и давший римлянам мир: в период написания поэмы вопрос о быстром окончании войны был в Риме предметом жарких споров между сенатом и Сципионом, которого поддерживал плебс. Деятельность Катула по заключению мира Невий описал так:
…quoque paciscunt, moenia ut sint quae Lutatium Reconcilient, captivos plurimos idèm Sicilienses paciscit, obsides ut reddant.
«Они договорились также, что обязательства их будут таковы, чтобы удовлетворить Лутация; он же договорился, чтобы сицилийцы вернули заложников, которых во множестве держали в плену».
В этом отрывке нет попытки дать характеристику полководца или оценку его деятельности (это, правда, не значит, что автор не сделал этого в другом месте, до нас не дошедшем).
Что касается внутреннего мира героев, их мыслей и настроений, то они почти не находят отражения в военной части поэмы. Невий иногда приводит мнение того или иного полководца, касающееся стратегии:
Censet ео venturum obviam Poenum.
«Он думает, что туда навстречу придут пунийцы».
Но эти мнения интересуют поэта лишь постольку, поскольку они влияли на ход военных действий, и ни в какой мере не служат средством характеристики персонажа.
Когда Невий упоминает о полководцах, в нем говорит не только преданность солдата своему командиру, но и ненависть плебея и демократа к нобилю. Он прямо пишет об аристократическом чванстве кого-то из высоких начальников:
Superbiter contemtim ranterìt legiones.
«Гордо и презрительно он ни во что не ставит легионы».
Таким образом, поэт римской демократии остается верен себе: даже повествуя о славных для римлян делах, не может он забыть о гражданских распрях, о том, что простым гражданам — легионерам — противостоят порой их соотечественники, полные сословной спеси нобили. Мы совершенно не можем судить, к чему относится стих: Plerique omnes subiguntur sub unum indicium. «Большинство покоряется одному суждению». Но, возможно, и тут речь идет о разногласии войска с полководцем (поскольку слово subiguntur, в котором силен оттенок подчинения, послушания против воли, вряд ли может быть отнесено к большинству сената или какого-либо другого совета).
Аббат Леже писал, что Невий первым нашел подлинного героя римской эпопеи и что таким героем явился сам Рим. Но понятие Рима, как некоего единства, было лишь одной из фикций аристократической идеологии. Невий отлично видел классовую рознь среди свободных граждан, не стиравшуюся даже в дни войны ни в Риме, ни в войсках, действующих против врага. Поэтому героем его становится не абстрактный Рим и не его военачальники, а римское войско, т. е., в конечном счете, тот же плебс. Именно его представляет Невий носителем высоких идеалов Рима и его лучших черт: храбрости, патриотизма, воинской чести. Невий до конца жизни остался поэтом плебеев: их превозносит и одновременно воспитывает его эпопея.
Поставив в центре внимания такого коллективного героя, Невий должен был отступить от большинства традиционных приемов описания войны в эпосе и, прежде всего, отказаться от изображения битвы как суммы единоборств отдельных героев. Сохранившиеся отрывки показывают, что Невия интересуют главным образом действия всего войска; но о них он только упоминает, перечисляет их, не пытаясь даже нарисовать наглядную картину боя, как это делал Гомер. По имеющимся стихам мы не можем судить, как и насколько подробно описывал Невий отдельные сражения. Такие описания, безусловно, были у него: на это указывает, например, сильно испорченный отрывок, где речь идет о каком-то морском бое. Вряд ли общий размер поэмы позволял автору очень подробно останавливаться на многих битвах: скорее всего и тут он лишь более подробно перечислял положение и действия войск. Вот как начинал он рассказ о гибели в бурю римского транспортного флота, шедшего к Лилибею и блокированного карфагенским флотоводцем Карфалоном:
Honerariae honustae stabant in flustris.
«Нагруженные грузовые суда стояли на зыби».
Насколько мы можем судить по сохранившимся фрагментам, лишь один вид подробностей останавливает внимание Невия. Из 24-х отрывков, относящихся к событиям войны, 3 посвящены старинным римским обрядам. Фециалы, отправляясь в Карфаген для объявления войны, scopas atque verbenas sagmina sumpserunt.
(«взяли пучки лозы и священной зелени», которые срывал для них консул на Капитолии).
Перед битвой полководец совершает ауспиции:
Virum 17 praetor advenit, auspicai auspicium
Prosperum.
«Подходит начальник мужей, совершает благоприятное гадание».
И рядом:
Simul atrocia prosicarent exta Ministratores.
«Тут же свежие внутренности жертвы отрезали помощники».
И в легендарной части поэмы есть аналогичные фрагменты, например птицегадание и жертвоприношение Анхиза и Энея пенатам.
Такая любовь к изображению обрядов ясно говорит о том, что традиционная pietas еще жила в сердце Невия, не затронутая новыми, рационалистическими тенденциями, коснувшимися в его время лишь верхушки нобилитета. Но и в самой ткани поэмы подобные места имели огромное значение: в них содержались специфически римские детали, отличные от сцен битв или советов, разработанных уже в греческом эпосе. Именно они и привлекали Невия, так как придавали его произведению еще более римский колорит, приближали его к читателю.
Из-за отсутствия подробностей в описании боев не оставалось места ни для эпических гипербол, по большей части связанных с подвигами того или другого героя, ни для вмешательства богов в битвы смертных. Тем более, что битвы эти были делом недавнего прошлого, а сам поэт — даже их участником. Поэтому в глазах трезвых и практических римлян внесение подобного рода фантастического элемента в описание событии, еще свежих в их памяти, было просто нелепостью. К тому же литературная условность, делавшая этот элемент обязательным для эпоса, еще не выработалась; точно так же еще не стала обязательной для римской поэзии ориентация на Гомера. Таким образом, сухой и лаконичный «стиль хроники» избавил Невия от решения вопроса, еще в эпоху Лукана волновавшего римских эпиков, которые брали для сюжета близкие по времени события, — вопроса о введении в действие богов и об эпической гиперболизации «деяний» исторического лица.
Стиль Невия всегда определяется как лапидарный, прозаичный; иногда говорят о его «сухости» (Патэн), иногда отмечают его «энергичность» (Ростаньи). Очень часто (и справедливо) сравнивают стиль «Пунической войны» со стилем хроники (Биньоне) или официального документа (Риббек) на том основании, что Невий лишь сообщает о событиях, не живописуя их. Но в полной мере все это можно отнести лишь к «военной» части поемы. Наиболее обычное объяснение сухости стиля приводит Патэн: материал у Невия был настолько огромен, что у него просто не хватало места для достаточно подробного описания событий. Но Невий мог (а вероятно, так и сделал) дать яркое и подробное описание отдельных моментов войны, бегло пересказав остальное. Тем не менее даже в тех отрывках, которые можно отнести к подробным описаниям, удельный вес «украшающих» слов, образность языка не возрастают. Об этом ярче всего свидетельствует лексический состав отрывков III-VII книг: число существительных и глаголов (т. е. действия, носители действий и объекты действий) намного превосходит число прилагательных и наречий (т. е. слов, характеризующих действие и предмет). Вот их соотношение: на 56 существительных (считая повторяющиеся) и 36 глаголов приходится 13 качественных прилагательных и 15 наречий, из которых лишь 3 — образа действия (остальные по большей части — места). При этом из всех прилагательных эпитетами в собственном смысле можно назвать лишь два: liquidum mare, acer fames (да и то слово liquidum — конъектура). Эта «фактографичность» лексики уже сама по себе ведет к сухости, неукрашенности стиля. Таким образом, дело тут не только в тесноте расположения материала.
Отвергнув гомеровские приемы изображения войны, Невий отказался и от его пространной манеры, изобилующей живописующими словами, чтобы не создалось несоответствие строго реального материала и приличествующего легенде стиля. Но средств для оживления фактически достоверного повествования ему неоткуда было взять. Из поэтических обработок исторического материала в его время сохранились лишь элогии (надгробные надписи с сухим перечнем магистратур и подвигов покойного) и триумфальные таблицы с сообщением о победе, за которую назначен триумф, а от них сама специфика надписи требовала предельной краткости. Потому в таблицах и выработался тот же оголенный, «лишенный украшений стиль». Еще меньше могла дать поэту историческая проза на латинском языке, поскольку она была представлена в то время лишь «Великими Анналами», известными своей сухостью.
Таким образом, Невий не имел за собой прочной стилистической традиции ни в литературе, отечественной или иностранной, ни в фольклоре. А создать на пустом месте комплекс трапов, эпитетов, синтаксических фигур — всю систему изобразительных языковых средств — было не под силу даже самому гениальному поэту. Поэтому он и пришел к суховатому, лишенному образности языку, действительно близкому к языку надписи или документа. И не об отсутствии поэтического таланта говорит этот стиль; наоборот, отказ от гомеровских средств в «военной» части эпопеи открывает огромное поэтическое чутье ее создателя, почувствовавшего несоответствие содержания и формы. Такого чутья не проявил даже Энний в последних книгах «Анналов», ни тем более Цицерон в своем поэтическом творчестве, ни кто-либо другой из эпигонов римского исторического эпоса. А о том, что Невий сознательно отказался от «гомеризма» во второй половине поэмы, можно заключить из анализа стиля ее «легендарной» части.
Избегая стиля, традиционного для греческого эпоса, Невий отказался и от «эпического многословия», еще более неуместного при общей слабой детализации повествования. И благодаря такой сдержанности поэт получил новое могучее средство выразительности, наиболее соответствовавшее его стилистическим устремлениям: этим средством явился лаконизм. Превосходные образцы совершенно афористической точности лаконического выражения дают нам уже цитированные стихи 59-60 и 39 или выражение vicissatim volvi victoriam «поочередно (то на ту, то на другую сторону) поворачивается победа» и т. п. Но секрет энергичности невиева лаконизма не только в немногословии: ему помогает на редкость четкая синтаксическая структура текста, заключающаяся, прежде всего, в тесном единстве синтаксических групп. Действительно, при анализе любого отрывка мы видим, что слова группы подлежащего и группы сказуемого никогда не смешиваются, что определение всегда стоит рядом с определяемым, обстоятельство и прямое дополнение — со сказуемым и т. д. Например:
Honerariae honustae // stabant in flustris.
«Напруженные грузовые суда стояли на зыби».
Для читателя, привыкшего к изящной и непринужденной инверсированности латинского стихотворного текста классической поры, особенно гексаметрического, такая стойкость синтаксических единств производит впечатление окаменелости стиля. Но, принимая во внимание его ясность и лаконизм, нельзя не признать, что окаменелость эта монументальна.
С легкостью большого мастера решает Невий вопрос о распределении синтаксических групп по ритмическим единствам: стихам и полустишьям. Короткий сатурновский стих, имевший еще чрезвычайно сильную цезуру посредине, представлял в этом смысле огромные трудности. Но у Невия и эти трудности способствуют четкости синтаксиса. Крайне редко ритмическая пауза разрывает синтаксическое единство: обычно она еще яснее выделяет его, создает из него устойчивый ритмико-синтаксический колон. Даже в пределах одной строчки цезура ясно определяет группы подлежащего и сказуемого, однородные подлежащие и сказуемые с их группами, обращения и т. п.
Большее ритмическое единство — стих — заключает большие синтаксические группы: значительную по числу слов группу сказуемого (как в ст. 27) или подлежащего:
Bicorpores Gigantes // rnagnique Atlantes Runcus atque Porporeus, // filii terras.
«Двутелые Гиганты и огромные Атланты Рунк и Порпорей, сыновья земли», а также ряд однородных членов:
Dein pollens sagittis // inclutus arquitenens...
«Затем мощный стрелами славный лукодержец...» или целое независимое предложение:
Summe deum regnator, // quianam genus ursisti?
«Великий царь богов, зачем ты гонишь род?».
Иногда в двух стихах распределяются придаточное и главное предложения.
Нечего и говорить, насколько все это облегчало восприятие поэмы самым неподготовленным читателем и, следовательно, расширяло круг ее воздействия. Поэма была доступна для самых широких масс, к патриотизму которых и обращался Невий. Эпопея его демократична не только по заложенным в ней идеям, но и по форме, предельно доступной и ясной. Даже по незначительным отрывкам, дошедшим до нас, мы можем судить, что поэма «Пуническая война» Невия была классическим произведением благодаря строгому единству формы (пусть еще предельно простой) и высоко патриотическому содержанию. И недаром хорошо знавший ее Цицерон говорил: «Но «Пуническая война» того, кого Энний причисляет к «пророкам и фавнам», доставляет удовольствие, как произведение Мирона». Именно Мирона — скульптора архаичного, не знавшего еще психологической индивидуализации лиц, но чрезвычайно сильного в общей выразительности.
Такова была первая латинская военная эпопея. Но в ее состав вошел разросшийся эпизод из легендарной «истории» городов, занявший первые две книги. В определении его содержания мнения ученых расходятся. Ясно, что центральное место занимал рассказ о бегстве Энея из Трои в Италию и история любви Энея и Дидоны. Но какие другие сказания из баснословных времен Рима включил в свое повествование поэт? Как были объединены легендарная и военная части?
Для того чтобы ответить на вопрос о содержании и композиции поэмы, необходимо понять причину введения легенды в историческое повествование. Обычно говорят, что «повесть о любви Дидоны и Энея» была введена поэтом для того, чтобы дать объяснение вражды двух городов согласно традиционному «эпическому прагматизму», т. е. свести ее к первоначальной ненависти двух лиц. Тем более соблазнительным было для поэта объяснить причины войны любовным эпизодом, подобно тому, как причиной Троянской войны считалась любовь Елены и Париса. Это объяснение верное, но не единственное.
Вспомним о том, что создание латинского эпоса было «вопросом чести» для римлян в их творческом соревновании с греками. Но эллины обладали двумя величайшими эпическими творениями, различными по содержанию: «Илиадой» и «Одиссеей». История Пунической войны (acerrimura bellum, по выражению Цицерона) давала Невию превосходный материал для создания военной эпопеи, своего рода римской «Илиады». По-видимому, дерзкий поэт захотел в одной поэме соединить римскую «Илиаду» с римской «Одиссеей», как затем сделал это Вергилий.
Превосходный материал для поэмы странствий давала судьба Энея, рассказ о котором давно вошел в римский историко-легендарный цикл и был признан официально. Включение рассказа об Энее давало поэту сразу же целый ряд преимуществ: во-первых, он получал возможность еще раз, уже в литературе, утвердить эллинское происхождение римлян; во-вторых, благодаря Энею римская эпопея вплеталась в основной эпический цикл греческих сказаний, связанных с Троянской войной; в-третьих, поскольку Эней странствовал именно в тех местах, где позже происходила Пуническая война, поэт мог коснуться мифического прошлого этих стран.
Именно последнее обстоятельство, очевидно, и натолкнуло Невия на мысль связать странствования Энея с Карфагеном и его легендарной основательницей Дидоной. О том, что Дидона упоминалась у Невия, говорит Сервий в комментарии к «Энеиде».
Ранний вариант рассказа о Дидоне и об основании Карфагена сообщил Тимей из Тавромения. Юстин, очевидно, также передает более древнюю версию. Оба они не упоминают об Энее в связи с Дидоной; не упоминает о нем и знакомый с Тимеем Энний. Однако в дальнейшем образ Дидоны, покинутой троянским героем, входит в римскую литературу еще до создания «Энеиды»: грамматик Атей Филолог, живший в Риме до 29 г. до н. э., написал сочинение «Аn amavit Didun Aeneas» («Любил ли Дидону Эней»), а Варрон защищал версию, что вовсе не Дидона, а упоминавшаяся у Невия сестра ее Анна любила Энея и покончила с собой. Таким образом, вполне вероятным кажется мнение, что Невий явился первым создателем этой «романтической» ситуации; оно тем более правдоподобно, что, как мы знаем, в описании странствий Энея в I кн. «Энеиды» Вергилий очень близко следовал Невию, и потому есть все основания предполагать, что и в дальнейшем он позаимствовал у своего древнего предшественника столь выигрышный эпизод.
Действие рассказа об Энее развивалось, скорее всего, следующим образом: после совершенного Анхизом жертвоприношения пенатам Эней вместе с отцом ночью (неизвестно, в ту ли ночь, когда пала Троя, или раньше) выходят из города в сопровождении жен и многочисленных спутников, нагруженных сокровищами. Отплыв на корабле, построенном Меркурием, Эней после странствий попадал в жестокую бурю, которую укрощал Нептун, вняв мольбе Анхиза. В это время Венера молила Юпитера не гнать ее сына, и Эней успокаивал ее пророчеством о великом будущем Рима. Прибитый к берегу, вероятно карфагенскому, он, ободрив спутников, попадал к Дидоне; спутники приносили ей дары, она расспрашивала Энея о его отъезде из Трои. Дальше события развивались, по-видимому, как у Вергилия. Покинув Дидону, Эней обращался к Киммерийской Сивилле, а затем, прибыв в Италию, вступал в сношения с местными царями. В это время Дидона проклинала Энея и его потомков и завещала пунийцам вечную вражду к ним. Чтобы решить судьбы двух государств, собирался совет богов; от него очень легок был переход к исполнению этих судеб, т. е. к самой войне между Римом и Карфагеном.
По нашему мнению, в поэме не было изложено ни основание, ни дальнейшая история Рима. От рассказов о событиях и людях, бывших после Ромула, в дошедшем до нас тексте не сохранилось и следа. На сказание о Ромуле указывает лишь упоминание о царе Амулии и сообщение Сервия о том, что Невий и Энний считали Ромула внуком Энея, сыном его дочери. Но оба эти места вовсе не говорят о том, что в поэме обязательно должны были пересказываться жизнь и подвиги Ромула. Так, комментарий Сервия относится к упоминанию о Ромуле в пророчестве Юпитера Венере (I кн. «Энеиды»); точно такое же пророчество содержалось и в эпопее Невия; сам собой напрашивается вывод, что и у Невия о Ромуле говорил Юпитер, открывая Венере судьбы ее рода в Италии. Точно так же и упоминание об Амулии: согласно традиции, Ромул принадлежит к третьему поколению по отношению к Амулию, а по Невию, — к третьему поколению и по отношению к Энею. В поэме Амулий и Эней являлись современниками, и Амулий мог упоминаться как один из царей, правивших в Лации в момент прибытия туда троянского беглеца. Кроме того, за то, что Невий не касался в своей поэме истории Ромула, говорят еще два косвенных соображения. Во-первых, Невий уже использовал этот сюжет в драме и вряд ли стал бы возвращаться к нему в эпосе. Во-вторых, Энний, который не любил повторять того, о чем писал Невий, и кратко изложил не только события первой Пунической войны, но и сказание об Энее, рассказывает о жизни Ромула подробнейшим образом. Поэтому смело можно утверждать, что Невий с присущим ему чувством меры взял из римской легендарной истории лишь то, что было необходимо и достаточно для выполнения его цели — создания римской «Одиссеи». При этом он проявил еще одну сторону своего таланта: блестящее мастерство поэтической выдумки, позволившей ему создать оригинальную драматическую ситуацию, подхваченную дальнейшим римским эпосом. Эта ситуация органично вошла в поэму и сыграла в ней огромную композиционную роль, соединив легендарную и военную части поэмы. Таким образом, несмотря на разницу материала обеих частей, поэма оставалась монолитным произведением.
Но при изложении легенды совершенно изменилась и целенаправленность автора. Прежде всего, в этой части нет еще коллективного героя, и все внимание поэт обращает па отдельных персонажей. Резко возрастает их число: кроме Энея, здесь и Анхиз, и Дидона со своей сестрой Анной, и Амулий, и родственница Энея Прохита. Причем Невий стремится показать не только их действия, но и их характеры, их чувства. Из сохранившихся фрагментов лучше всего видим мы Анхиза; это — герой-жрец, совершающий жертвоприношение, senex fretus pietati — «старец, полагающийся на благочестие», являющееся его основной чертой. Он как бы посредник между спутниками Энея и богами: «Анхиз имеет нечто от авгура и благодаря этому — нечто божественное», — пишет о герое Невия Проб. Сами спутники характеризуются как strenui viri «деятельные», «решительные» или «храбрые мужи». Некоторое внимание Невий обращает и на душевное состояние своих героев:
Iamque eius mentem fortuna fecerat quietem
«И вот уже судьба сделала его душу спокойной», — пишет он о чувствах Энея после предсказаний Сивиллы. Очень часто Невий, как опытный драматический писатель, старается показать переживания героя через их внешнее проявление:
Isque susum ad caelum sustulit suas rex
[Manus laetus] Amullus, gratulabat divis
«Поднял «верх к «ебу свои [руки радостный] царь Амулий благодарит богов».
Стремление показать обуревающие человека чувства в его внешнем облике особенно хорошо заметно в описании бегущих из Трои жен Энея и Анхиза:
Amborum uxores Noctu Troiad exibant capitibus opertis Flentes ambae, abeuntes laerimis cum multis
«Жены обоих ночью выходили из Трои, обе покрыв головы, плача, уходя с обильными слезами».
В отличие от военной части поэмы, здесь поэт стремится не только сообщить о факте, но и изобразить, живописать его путем введения многих деталей. Часто такими деталями являются подробно перечисленные действия, как в описании жертвоприношения Анхиза:
Postquam avem aspexit in tempio Anchisa,
Sacra in mensa pematium ordine ponuntur,
Immolabat auream victimam pukhram.
«После того, как увидел Анхиз в храме птицу, раскладываются на столе пенатов по порядку святыни, и он приносит золотую прекрасную жертву».
Таким образом, оставаясь в области сказания, Невий отказывается от сухой фактографичности — и сразу же оказывается подверженным влиянию Гомера. Вернее, сам поэт понимает, что, излагая легенды, он может уже не избегать гомеровских приемов, столь прочно сросшихся с легендой и неотделимых от мифологического эпоса. Гомеровской чертой является само перенесение центра внимания на героев и стремление не только сообщить, но и живописать события. Уступкой гомеровской традиции, данью «творческому соревнованию» с греческим певцом было введение в действие богов. Мы говорили выше и о. Венере, жалующейся Юпитеру, и о пророчестве (последнего. К изображению совета богов, решающего судьбы Рима и Карфагена, относятся, вероятно, следующие стихи:
Prima inoedit Cereris Proserpina puer
«Первой выступает Прозерпина, дочь Цереры»
Deinde pollens sagittis inclutus arquitenens
Sanctus Jove prognatus Pythius Apollo.
«Потом мощный стрелами, славный лукодержец, святой отпрыск Юпитера, пифийский Аполлон».
Чисто гомеровским является обязательное наличие одного или нескольких определений перед именами богов. Особенно характерно то, что некоторые из них были постоянными: так, например, в двух отрывках Юпитер назван summum deum гех (или regnator), что, очевидно, совпадает с гомеровским ύπατος κρειόντων.
Гомеровское влияние чувствуется и в характере деталей легендарной части поэмы (мы уже отмечали большую детализацию описания). Особенно любопытной «гомеровской» деталью является попытка дать описание изображения, ввести в поэму нечто вроде «щита Ахилла»:
Inerant signa expressa, quo modo Titanes
Bieoporpores Gigantes magnique Atlantes
Runcus atque Porporeus filii Terras
«Были на [нем] изваянные изображения, как Титаны, двутелые Гиганты и огромные Атланты Рунк и Порпорей, сыновья Земли».
Мы не знаем, где находились статуи (или, скорее, рельеф): в карфагенском или сицилийском храме, на носу корабля или на щите. Но сам интерес к описанию произведения пластического искусства у поэта, который прежде выставил в комедии «Tunicularia» на осмеяние публики какого-то увлекавшегося живописью Феодота, ясно показывает влияние Гомера.
Более «эпическим» становится сам стиль повествования; прежде всего бросается в глаза резкое увеличение количества определений и эпитетов. В I — II книгах на 63 существительных приходится 32 прилагательных, одно равное прилагательному определение «ex auro vestis» и лишь 22 глагола. Из этих прилагательных очень многие являются уже в собственном смысле украшающими эпитетами. И как всякие эпитеты в эпосе, они обнаруживают тенденцию стать постоянными: например, дважды на протяжении поэмы встречается эпитет liquidum по отношению к водным пространствам: mare, amnis.
В одной I книге трижды встречается сочетание эпитетов aurea-pulehra vestis, craterae-lepistae, причем одно место ясно показывает, что данное сочетание совсем окаменело и слово aurea в нем уже потеряло свое буквальное значение: aurea vidima pulchra «золотая прекрасная жертва». Есть и еще один след гомеровского влияния: удержавшийся в латинском языке сложный эпитет arquitenens, являющийся удачной калькой греческого прилагательного τοζόφορος.
Интересно, что и в этой, с первого взгляда чуждой ему сфере эпического стиля, Невий проявляет подлинный поэтический талант. Правда, мы не находим в наших отрывках ни блестяще развернутых картин «гомеровского сравнения», ни плавно льющегося красноречия героев «Илиады». Римский поэт и в этой части остается варен своим основным принципам — ритмико-синтаксической четкости и лаконизму. Но как он умеет подчинить принципу лаконизма такое «гомеровское» выразительное средство, как эпитет! Одним словом он может дать характеристику человека (вспомним strenui viri) — о спутниках Энея, senex fretus pietati — об Анхизе) или настолько яркий признак предмета, что тот сразу предстает перед глазами: vestis citrosa — «лимонно-желтое платье». А порой в один эпитет вложено так много содержания, что можно лишь поражаться огромному дару первого римского поэта.
Novem Iovis ooncordes filiae sorores
«Девять согласных сестер, дочерей Юпитера», — обращается он к Музам. Что может быть лучше, чем это conoordes, стройный хоровод Муз, их согласное гармоническое пение — все заключено в нем!
Может быть, и не греческих Муз, а латинских Камен призывал поэт в своем, опять-таки совершенно гомеровском, запеве. Но эти Камены уже приняли многие черты своих эллинских сестер. То же можно сказать и о первом произведении римского исторического эпоса. Создавая его, Невий опирался прежде всего на традиции римской долитературнои эпики. Из нее взял он форму «сплошной песни» (continuum carmen, т. е. без разделения на книги), а также стихотворный размер. Эпика дала ему и легендарный материал, и возможность включить в эпопею события недавнего прошлого. Наконец, она же дала ему стиль, суховатый, фактографичный и крайне лапидарный для изображения этих событий: благодаря такому стилю не возникало (несоответствия между фактическим материалом и манерой изложения, присущей только сказанию. Именно поэтому перед нами — остатки наиболее римского произведения римской эпической поэзии.
Но вместе с тем поэт хотел не только поднять патриотический дух своих сограждан: он хотел дать своему народу национальный эпос, достойный стать в один ряд с эпопеями эллинского мира, и даже пытался объединить в одном произведении римские «Илиаду» и «Одиссею». Уже обилие материала и его характер выделяли поэму Невия из ряда латинских героических песен, не выходивших из состояния отдельных changons de gestes, и приближали ее к настоящей эпопее, к гомеровскому жанру. Больше того, при изложении мифологического материала Невий уже использует многие черты гомеровского стиля, подчиняя их, однако, конструктивному принципу своей поэмы: ритмико-синтаксической четкости и лаконизму. Именно благодаря единству конструктивного принципа обе части поэмы, несмотря на разницу материала и многих приемов стиля, создают единое целое.
Не вина Невия, если на следующем этапе, увлекшись зачастую внешним подражанием Гомеру, римская эпика потеряла вместе с национальной традиционной формой также и ощущение стиля, необходимого для изображения в поэзии событий, близких по времени. Исторический эпос Невия, хотя и уступает другим эпическим произведениям республиканской эпохи в совершенстве, все же значительно превосходит их своей органичностью. Именно эта органичность, в сочетании с высоким патриотическим накалом и глубоким уважением к народу, делает эпос Невия ценным для нас и заставляет бесконечно сожалеть о гибели этого замечательного памятника демократической литературы Рима.
Л-ра: Вестник МГУ. Серия историко-филологическая. – 1958. – № 1. – С. 131-146.
Критика