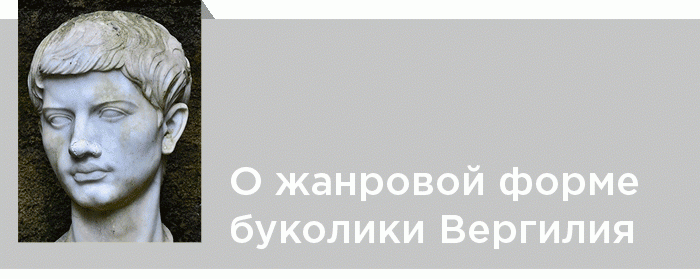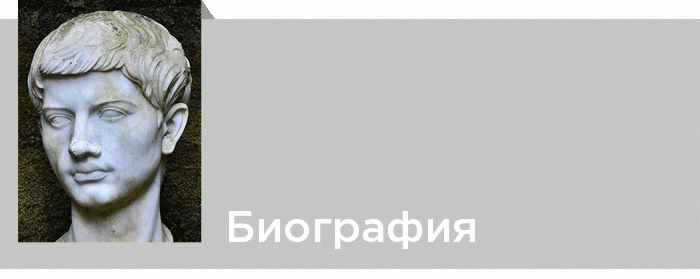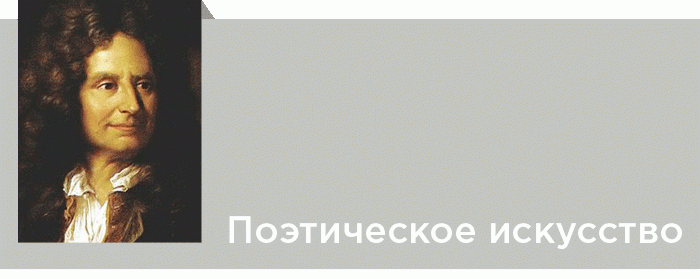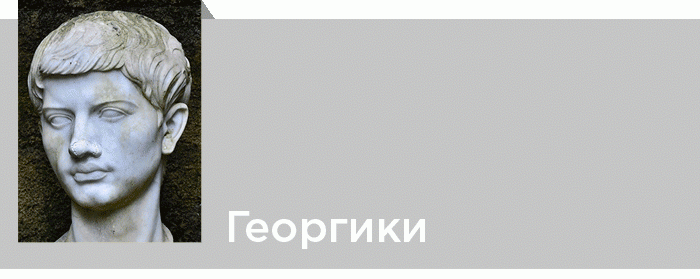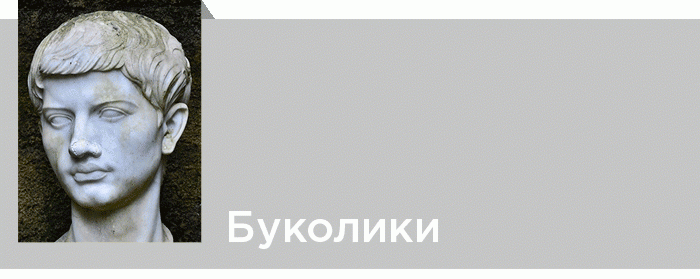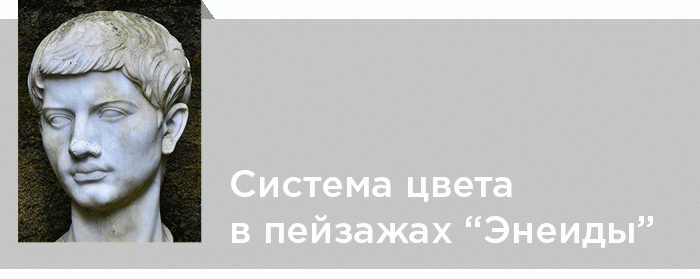Вопрос о традиции и новаторстве в творчестве Вергилия
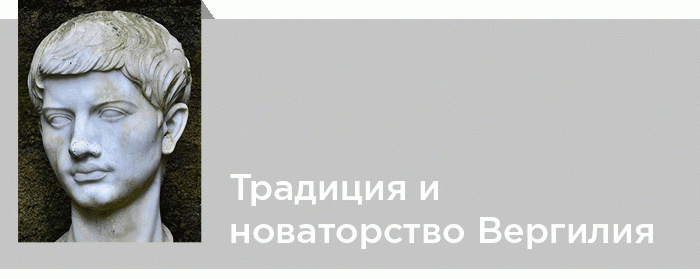
Г. Забулис
Литература конца римской республики, несмотря на то, что она дала мировой литературе блестящего оратора Цицерона, вдумчивого философа Лукреция и основоположника лирической поэзии Катулла, на самом деле была на распутьи. Традиция Энния, традиция поэзии, осознающей высокие цели служения республике, к этому времени исчерпала себя. Традиционные жанры — исторический эпос и трагедия «перешли к дилетантам, подчинившим свое поэтическое творчество задачам самопрославления или возвеличения тех влиятельных лиц, с которыми автор хотел установить хорошие отношения».
Наоборот, творческая молодежь всячески превозносила новое литературное направление, получившее распространение при жизни Катулла и в его лице нашедшее наиболее яркого представителя. Поэты нового направления — неотерики открыто ориентировались на использование форм эллинистической поэзии, всячески высмеивая бездарность и эпигонство представителей старой литературной традиции. Содержание новой поэзии никаких притязаний на обновление идеалов республики не имело, ограничиваясь только передачей личных страстей современника, его чисто человеческих переживаний.
Немного особняком в литературе того времени стоял Лукреций. Его философская поэма «О природе вещей» по своей форме продолжала традицию Энния, так как Лукреций сознательно ориентировался на стиль и поэтические приемы основоположника римского эпоса. Наоборот, по своему содержанию она приближалась к поэзии нового направления, потому что в ней представлено миросозерцание человека вообще, индивидуума, а не римского гражданина специально.
Конечно, круг личных интересов, представленный Катуллом, значительно отличается от круга интересов Лукреция, так же как они оба составляют противоположность идеалам эпохи Пунических войн. Это говорит о том, что в Риме рождалась новая литература в очень ярких талантах, но пока еще без единого русла в своем течении.
К тому следует сказать, что и Лукреций, и Катулл в основном были римскими эллинистами. Эллинизм — характерная черта литературы того времени. Дело в том, что сама жизнь в Риме, столице цивилизованного мира, всё больше и больше приобретала греческий облик. В Рим всё больше прибывало людей из греческих стран: рабов и свободных, торговцев и дипломатов, поэтов и философов. Греческий язык культурному римлянину давно уже стал первой необходимостью и поэтому занял значительное место среди учебных дисциплин в школах. Это безусловно должно было получить отражение и в литературе. Правда, эстетические принципы александрийцев на римской почве значительно изменились. Катулл, по правильному обобщению английского ученого Найта, отталкиваясь от александринизма, шел не только вперед, к своему времени за содержанием своей новой лирики, но также назад, к ранней греческой поэзии за силой ее и свободой и, в какой-то мере, за ее формой. В свою очередь, эллинизм Лукреция был своеобразным, так как он сознательно отвергал излишнюю грекоманию своих современников, не знавших меры в подражании грекам даже в разговорном языке:
Nigra melichrus est, immunda et fetida acosmos,
caesia Palladium, nervosa et lignea dorcas,
parvula, pumilio, chariton mia, tota merum sai,
magna atque immanis cataplexis plenaque honoris
balba loqui non quit, traulizi, muta pudens est;
at flagrane, odiosa, loquacula, Lampadium fit.
ischnon eromenion tum fit, cum vivere non quit
prae macie; rhadine verost iam mortua tussi.
at tumida et mammosa Ceres est ipsa ab Iaccho,
simula Silena ac saturast, labeosa philema. (IV, 1160-69.)
В качестве примера мы привели место, где Лукреций высмеивал обиходные в Риме любовные выражения, понятные почти исключительно только при помощи греческого словаря. Одновременно мы можем, вспомнить, как старательно он избегал греческих терминов, хотя постоянно жаловался на бедность родного языка. И все-таки, несмотря на такой пуризм Лукреция в отношении языка, само содержание его поэмы по существу было греческим: дух времени сделал свое дело.
Кстати, этот процесс эллинизации римской литературы в целом сыграл положительную роль в том смысле, что он открыл путь поискам нового содержания и новых поэтических форм, повысил требования к мастерству формы, ускорил отмирание бездарного эпигонства. Однако сам по себе этот процесс не создавал новой самобытной литературы в Риме. Поэтому эллинизм, породивший новое литературное направление, явился одной из важных причин того, что после смерти Катулла этого направление скоро исчерпало свои возможности.
Достоверных данных о ранних литературных занятиях Вергилия не имеется, но ставить его в исключительное положение в отношении тенденций времени нет никакого основания. Как можно судить по сохранившимся биографиям и некоторым косвенным материалам, молодой Вергилий, прибыв в Рим, попал в среду жизнерадостных поэтов, страстных поборников эстетических принципов александринизма. Многие представители этого литературного мира происходили из северной Италии, а Варий Руф, Квинтилий Вар, Альфен Вар и Фурий Бибакул были уроженцами Кремоны, где Вергилий получил первое свое образование. Естественно, что в таком окружении Вергилий сам занялся сочинением стихов. К литературным занятиям его могло привести и то обстоятельство, что влечения к ораторской деятельности, к которой готовился, он не имел.
О характере литературных начинаний молодого Вергилия можно судить по произведениям, дошедшим до нас в сборнике Appendix Vergiliana. Большинство из них по времени написания с большей или меньшей достоверностью можно отнести к периоду от смерти Катулла и Лукреция до появления «Буколик» Вергилия. Не вдаваясь в подробности бесплодных споров по этому вопросу, мы напомним лишь о том, что большинство стихотворений из «Каталептона» многие ученые склонны приписывать Вергилию, а эпиллии и другие более крупные поэмы — скорее его друзьям. Бесспорно одно, что до издания эклог Вергилий прошел неплохую поэтическую школу, ибо эклоги уже показывают его зрелость, как поэта и человека.
В том, что первым опубликованным произведением Вергилия оказались «Буколики», имеется определенная закономерность. Имеются предположения о том, что время от времени писал буколики близкий друг Вергилия, основоположник элегической поэзии в Риме Корнелий Галл. На греческом языке буколики писал влиятельный римский аристократ Мессалла, известный позднее как покровитель одного из литературных кружков. Склонность к буколике проявляет и ряд произведений из сборника Appendix Vergiliana: Culex, Dirae, Lydia, Moretum.
Можно также говорить о любви Вергилия к деревенской жизни, но при этом нельзя забывать о том, что наиболее ранние эклоги Вергилия чрезвычайно близки к своему греческому образцу и вряд ли могут рассматриваться как непосредственное проявление его личных чувств. М. Е. Грабарь-Пассек даже допускает, что на первых порах Вергилий ставил себе задачу перевести «Идиллии» Феокрита на латинский язык.
Наконец, Вергилий сам сказал, что он начал писать буколики по совету Гая Асиния Поллиона. Поллион, личный друг Катулла, принимая, как и многие другие литераторы того времени, активное участие в государственной деятельности, не прекращал своих литературных связей и своим авторитетом в значительной мере влиял на молодых поэтов, ищущих новых путей в поэзии.
Эти обстоятельства говорят о том, что «Буколики» явились продолжением нового направления в римской литературе. Однако в них скоро появилась нехарактерная для неотериков гражданственность. Когда бурная агония умирающей республики коснулась личной судьбы Вергилия, его буколики, обобщая личные переживания поэта, подняли вопрос о судьбах всей Италии. В свою очередь, именно тогда Вергилий ясно почувствовал недостаточность своей поэзии и прямо сказал об этом словами Мериса:
...carmina tantum nostra valent, Lycida, tela inter Martia, quantum Chaonias dicunt aquila veniente columbas. (Bue. IX, 11-13.)
Эта слабость буколической поэзии особенно чувствовалась в условиях гражданской войны. Немного смешными казались на фоне стона изгоняемого крестьянства безликие пастушеские схемы, их слащавые песни. Поэтому не удивительно, что в IV эклоге, где Вергилий отказался от традиционного содержания буколики и заговорил новым голосом о новом, современном, была полностью сломана и традиционная буколическая форма.
Не случайно у Вергилия именно в IV буколике появляется восторженная мысль — воспеть свою родную страну. Обращаясь к таинственному потомку богов, как мы полагаем — к ожидаемому сыну Октавиана, он дает обещание поэта:
О mihi tam longae maneat pars ultima vitae, spiritus et quantum sat erit tua dicere facta: non me carminibus vincat nec Thracius Orpheus, nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit,
Orphei Caliopea, Lino formosus Apollo.
Pan etiam, Arcadia mecum si iudice certet,
Pan etiam Arcadia dicat se iudice victum. (Bue. IV, 53-59.)
Какая огромная разница между этой восторженной гордостью поэта, впервые почувствовавшего свою поэтическую силу, и той оценкой своей поэзии, которую он давал в цитированных выше стихах из IX эклоги! Более того. Вергилий здесь совершенно ясно противопоставляет себя аркадским поэтам обещанием одержать над ними победу. Это говорит о том, что Вергилий по существу уже закончил буколический этап на своем поэтическом пути. Правда, отдельные эклоги еще появлялись и после четвертой, но в них каждый раз подчеркивалось желание кончать с буколикой 10.
Следовало ожидать, что в новом произведении Вергилий сразу продолжит те основные идеи, которые созревали в последних эклогах, главным образом — в четвертой, наиболее новаторской. Однако в «Георгиках» мы чувствуем временное отступление поэта. «Георгики» Вергилий начал писать по указанию Мецената. Несмотря на то, что поручение Мецената преследовало цель государственного значения — помочь Октавиану в проведении новой аграрной политики, выбор жанра нового произведения Вергилия сам по себе еще не представлял никакого поворота в литературных течениях времени. Поэма о земледелии своими истоками уводила к основоположнику дидактической поэзии Гесиоду, а Гесиод, как известно, был одним из тех авторов, которые оказали значительное влияние на александрийскую поэзию. В частности, известно, что Гесиоду поклонялся Эвфорион, среди произведений которого была поэма под названием «Гесиод». Эвфорион, в свою очередь, пользовался большим авторитетом у римских александрийцев. В частности, древние комментатору отмечают влияние Эвфориона на поэта Корнелия Галла, близкого друга Вергилия. Имеются предположения и у современных исследователей о том, что многие мифологические сюжеты Гесиода через Эвфориона или непосредственно перешли в поэзию Корнелия Галла. Следовательно, обращение Вергилия к Гесиоду с формальной точки зрения не могло показаться неожиданным.
С другой стороны, дидактическая поэма, как новый литературный жанр, также не противоречила александринизму предыдущего творчества Вергилия. Наоборот, она скорее явилась дальнейшим расширением эстетических принципов неотериков, так как дидактика открывала широкую дорогу александрийской учености. В «Георгиках» Вергилий на самом деле проявил большую начитанность. Исследователи насчитывают десятки греческих и латинских авторов, служивших источниками поэмы Вергилия. Книжная работа Вергилия особенно заметна в начале поэмы, где неоднократно встречается чуть ли не перевод Гесиода, Арата, Эратосфена20 и других авторов. В изложении дидактических советов, особенно в первой половине поэмы, чувствуется сухость, иногда извлеченная прямо из александрийских первоисточников. Нередки сложные перифразы, то и дело встречаются беглые аллюзии на мифологию. Всё это напоминает александрийские традиции ученой поэзии.
Несмотря на александрийский характер замысла, работа над «Георгиками» дала Вергилию возможность шире развить и то новое, что появилось в последних его буколиках. Сухой, хотя и старательно украшенный, рассказ в «Георгиках» всё чаще прерывается эпизодами совершенно иного характера — то философски задумчивыми, то лирически восторженными. Особую силу в этих эпизодах получает тема Италии, которая развивается главным образом в плане дальнейшего решения крестьянского вопроса, поставленного еще в буколиках.
Вместе с тем в «Георгиках» заметно усиливается влияние крупнейшего в римской литературе дидактического поэта Лукреция. Вергилий на протяжении первых двух книг всё смелее проникает в поэтическую сокровищницу Лукреция, всё больше черпая оттуда поэтического богатства, как в смысле формы, так и в смысле идейного содержания. Более того. Поэтическое слово Вергилия нередко достигает большой взволнованности, восторженности и вместе с тем внушительности именно в тех местах, где влияние Лукреция особенно сильно. Есть основание утверждать, что влияние Лукреция наряду с повышением идейности и гражданской взволнованности у самого Вергилия явилось одним из факторов, способствовавших преодолению слабых сторон александринизма в его поэзии.
Тема Италии наиболее яркое поэтическое воплощение получила во II книге «Георгик». Все ее дигрессии посвящены Италии. Поэтому она приобретает звучание огромного гимна в честь родины поэта. Характерно то, что именно во второй книге «Георгик», в ведущей по идейному смыслу дигрессии — laudes Italiae, мы находим новое заявление Вергилия по вопросу своей поэзии. Обращаясь к своей священной родине, Вергилий говорит:
Tibi res antiquae laudis et artem ingredior sanctos ausus reeludere fontis,
Ascraeumque сапо Romana per oppida carmen. (Il, 174-176.)
В этом заявлении можно прочитать два интересных момента. Прежде всего мы видим, что Вергилий сильно подчеркивает римский характер своей поэзии. Он гордится Италией и тем, что он начинает петь о делах ее древней славы. Такой патриотизм Вергилия в известной мере возрождал патриотизм поэтов начала второго столетия до н. э. Таким образом, после долгого перерыва в римской литературе прозвучал голос поэта-патриота в стиле близком к староримской литературной традиции. Патриотизм Вергилия по сути дела явился главным условием того, что он, даже в тех местах, где его предшественник Лукреций наиболее ясно дает знать о себе, выступает не как простой подражатель, а как вполне самостоятельный поэт с собственной поэтической индивидуальностью.
Второй момент, который выделяется в приведенном выше заявлении Вергилия, это обращение к древности. Хочется еще раз вспомнить заявление Вергилия из IV эклоги, где он дал обещание воспеть славное будущее, страстно желая быть его современником, а теперь мы слышим о его начинаниях, направленных в славное прошлое. Такое изменение ориентации можно объяснять тем, что в этих строках Вергилий имеет в виду земледелие, процветавшее в прошлом, можно указывать на поворот политического курса Октавиана, но такие объяснения, по нашему мнению, будут односторонними, даже если в них и была бы доля правды. Главное заключается, видимо, в том, что к тому времени у Вергилия назревал новый поворот в творческом пути, поворот, ведущий к прошлому Рима. А такой поворот, между прочим, обозначал окончательное отклонение от александринизма.
Таким образом, это небольшое заявление Вергилия открывает принципиально новые стороны его творческих интересов. С формальной точки зрения чрезвычайно интересно и то, что это заявление мы находим не в начале «Георгик», а во второй книге. Эта книга, между прочим, заканчивается довольно символическими словами:
Sed nos immensum spatiis confecimus aequor,
et iam tempus equom fumantia solvere colla. (II, 541-542.)
Аналогичного заключения не имеет ни одна книга в «Георгиках», за исключением эпилога в IV книге. Кроме того, это закругление по всей вероятности имеет в виду всю первую половину поэмы. Ведь в конце первой книги Вергилий по примеру одного из образов Лукреция и Энния дал следующую характеристику своего времени:
Saevit toto Mars impius orbe: ut cum carceribus sese effudere quadrigae, addunt in spatia, et frustra retinacula tendens fertur equis auriga, neque audit currus habenas. (I, 511-514.)
Вряд ли можно отрицать очевидность композиционной связи образов, заканчивающих I и II книги. Заключительные строки II книги как бы замыкают открытую неопределенность заключительного сравнения I книги и тем самым завершают первую половину поэмы. Поэтому неудивительно, что уже древние толкователи искали объяснения этому эпилогообразному двустишию. Сервий, например, считал, что этим заключением Вергилий отделял книги о земледелии от животноводческих. В наше время также раздавались мнения о том, что Вергилий сначала задумал «Георгики» из двух книг.
Конечно, вряд ли было бы верно утверждать, что Вергилий вообще намеревался описывать только полеводство и садоводство, ибо его первоисточники — в частности Варрон Реатинский, от которого наш поэт во многом зависит в смысле содержания,— как правило, дают разделы и о животноводстве. Кроме того, надо учитывать и самого Вергилия, который в начале поэмы перечисляет четыре отрасли сельского хозяйства: полеводство, виноградарство, животноводство и пчеловодство. Однако нам представляется вполне возможным предположение, что между первыми двумя и остальными книгами «Георгик» прошел определенный промежуток времени, в течение которого у Вергилия сложились новые поэтические качества. Это, во-первых, потому, что «Георгики» он писал довольно продолжительное время, а, во-вторых, потому, что вторая половина поэмы значительно отличается от первой.
Необходимо обратить внимание на заметное изменение содержания поэмы во второй половине. В первой половине в основу идейного содержания была положена утопическая теория о Сатурновой земле. Во второй половине идейная основа значительно расширилась. С одной стороны, в прекрасных картинах сельской идилии продолжалось восхваление италийской деревни, правда, теперь без подчеркнутого внушения и агитации. Идиллия, красота природы сама по себе должна была увлечь читателя, убедить его в преимуществах деревни и тем самым способствовать укреплению в Италии прославленного образа жизни Сатурнова века. С другой стороны, во второй половине «Георгик» широкое развитие получает идея о необходимости моральной стойкости в народе, идея, которая выразилась в первой половине поэмы в следующей характеристике деревни:
Illic saltus ас lustra ferarum, et patìens operum exiguoque adsueta iuventus, sacra deum sanctique patres: extrema per illos Iustitia excedens terris vestigia fecit! (II, 471-474.)
Видимо, можно не сомневаться в том, что первый такое требование римскому народу поставил Энний, который в молодом поколении Рима желал видеть высокую нравственность:
Optima cum pulchris animis Romana iuventus. (Vahlen, 550.)
Следовательно, Вергилий в постановке этой идеи стал продолжателем традиций той литературы Рима, которая ставила своей целью служение республике, нравственное воспитание народа.
Во второй половине «Георгик» в образах жизни пчел Вергилий нашел возможность нарисовать картину внутригосударственного согласия, основанного на высокой нравственности народа. Г. Дальманн привел интересное сравнение между описанием пчелиного государства в IV книге и описанием счастливой жизни крестьян во II книге «Георгик». Пчелы, так же как и крестьяне, не знают discordia arma (II, 459), их не преследует infidos agitans discordia fratres (II, 496), ибо они единомышлены: mens omnibus una est (IV, 212). Молодежь в деревне patrens operum parvoque adsueta (II, 472), a пчелы также непрерывно работают: venturae hiemis memores aestate laborem experiuntur (IV, 156), fervei opus (IV, 169). Крестьянская жизнь отмечена знаком справедливости (II, 474), и пчелы также соблюдают законы: magnis agitans sub legibus aevom (IV, 154). У крестьянина сильна привязанность к родному очагу — patriam parvosque penates sustinet (II, 514/515), но это характерно также и пчелам: patriam solae et certos novere penatis (IV, 155). Крестьяне и пчелы рады своим молодым поколением: dulces pendent circuiti oscula nati (II, 523), nescio qua dulcedine laetae progeniem nidosque fovent (IV, 55/56). Эти сопоставления могут нас убедить в том, что в описании пчелиного государства Вергилий продолжил свои идеи, изложенные в эпизоде о счастливой крестьянской жизни.
Однако нетрудно заметить и большую разницу между заключительной дигрессией II книги и описанием государства пчел. Во II книге Вергилий ограничился лишь противопоставлением города и деревни, взывая прежде всего к уму и сердцу своего соотечественника, приглашая его лично искать душевного спокойствия в деревне. Такая постановка вопроса не выходила за рамки эпикурейской атараксии. В IV книге, наоборот, Вергилий показывает, что жизнь идеальной деревни, изображенной во II книге, может послужить примером для целого государства. Правда, в этом государстве живут пчелы, но они настолько очеловечены, что в сознании читателя легко воспринимаются как пример для людей. Более того. Описание борьбы двух роев пчел с указанием на необходимость уничтожить одного из вождей, который хуже (deterior qui visus, eum, ne prodigus obsit, dede neci IV, 89/90), близко напоминало историю борьбы Октавиана с Антонием. Поэтому римский читатель мог сравнивать государство пчел прямо с государством Рима. Иначе говоря, мы в IV книге находим уже не теорию об атараксии индивидуума, а целое учение о нравственных основах государства, нечто в роде concordia ordinum Цицерона. Если мы при этом учтем, что эпикуреизм в своем учении «был несовместим с римским пониманием социальной роли человека», будет вполне понятно, почему он в государстве, основанном на высокой общественной сознательности, полностью потерял свое значение. На месте эпикуреизма, явно заметного еще в III книге «Георгик», вступает учение Стой. Индифферентность Вергилия по отношению к стоицизму заметна и в этой книге, но тем не менее тот же Г. Дальманн доказал его наличие здесь. Следовательно, по своей идейной основе государство пчел в IV книге в целом стоит ближе к царству Латина в «Энеиде» чем к эпизоду об италийской деревне во II книге «Георгик», хотя по сути дела царство пчел составляет лишь ступень в переходе от счастливой деревни в «Георгиках» до мирного царства Латина в «Энеиде».
Второй момент, резко отличающий первую половину «Георгик» от второй, заключается в развитии сюжетности содержания. В первых двух книгах поэмы преобладающим было дидактико-лирическое восприятие объекта изображения, ведущее к непосредственному проявлению личных настроений поэта. Во второй половине «Георгик» природа словно сама ожила и начала жить самостоятельную жизнь, которую поэт лишь описывает. Мы вместе с ним следим за ростом бычка от его рождения до отчаянной борьбы двух быков в страсти любви, изучаем нравы коней на лоне природы и в бегах, жарким летом наблюдаем за отарой овец и коз. Пастушескую идиллию сменяет страшная чума, картина которой нарисована в ярких эпических красках. В IV книге мы видим человекообразных пчел, и, наконец, в заключительном эпизоде поэмы появляется сам человек, как неотъемлемая часть живой и действующей природы, как объект эпического изображения. Был человек и в «Буколиках», но там он представлял собой лишь воплощение лирического чувства, а здесь он действует, создает свою собственную драму. Следовательно, и в этом отношении вторая половина «Георгик» представляет собой переходную ступень от лирики и дидактики в раннем творчестве Вергилия к эпосу, представленному в «Энеиде», ступень, которая в эпическом смысле стоит, пожалуй, ближе к «Энеиде» чем в дидактическом — к первой половине «Георгик».
Эти стороны содержания второй половины «Георгик» говорят вообще о заметном изменении литературных интересов Вергилия. Поэтому трудно поверить, что в его творческом пути не было соответствующей подготовки к этому. Нам кажется, что у самого Вергилия имеется достаточно указаний о его интересе к эпосу, который то усиливался, то оставался менее заметным. Постараемся с этой точки зрения еще раз внимательно прочитать Вергилия.
Прежде всего, еще в «Буколиках» Вергилий упоминал о своей работе над героическим произведением, от которого он был вынужден отказаться:
Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem
vellit et admonuit: pastorelli, Tityre, pinguis
pascere oportet ovis, deductum dicere carmen. (VI, 3-5.)
Донат нам сообщает более точно, что это была поэма из истории Рима, которую Вергилий начал и бросил «неудовлетворенный материалом». Сервий сформулировал причину отказа, указав на «шероховатость имен». Возможно, что Вергилий в нежелательной для кого-нибудь форме упоминал имена, ставшие за годы гражданской войны одиозными. Мы знаем, например, что Поллион, под влиянием которого Вергилий писал «Буколики», сам позднее писал историческое произведение в рискованной форме. Гораций образно сказал о работе Поллиона:
Motum ex Metello consulé civicum bellique causas et vitia et modos ludumque fortunae gravesque principium amicitias et arma nondum expiatis uncta cruoribus, periculosae plenum opus aleae, tractas et incedis per ignes suppositos cineri doloso. (Carm. Il, I, 1-8.)
Поллион писал в такое время, когда личные страсти «принцепсов» уже утихли. Вергилий, видимо, пожелал выступить рановато. Поэтому кто-то из близких ему людей, знавших его работу, как сказал сам поэт, отодрал его за ухо.
Однако позже, во время работы над «Георгинами», Вергилий, видимо, получил специальный заказ на произведение, в котором прославлялись бы деяния Октавиана. Ведь в начале III книги «Георгик» содержится обещание скоро начать «воспевать горячие битвы Цезаря». Судя по тому, с каким интересом относился Август к созданию «Энеиды», можно предполагать, что он действительно ожидал поэмы о себе. Поэтому не исключена возможность, что Вергилий на самом деле прилагал определенные усилия для выполнения своего обещания. В смысле литературной формы эти его намерения перекликались с VI эклогой, где наш поэт говорил о панегирике Альфену Вару: super tibi erunt qui dicere laudes, Vare, tuas cupiant et tristia condere bella (6-7). Такой личный панегирик в целом соответствовал поэтике александринизма.
Кроме того, мы не должны забывать о том, что исследователи «Энеиды» ее V книгу иногда считают написанной или немножко раньше или немножко позже других, так как она в некоторой степени выпадает из общего композиционного плана поэмы. На самом деле, вступление в III книгу «Георгик» дает обещание Цезарю построить храм и провести спортивные состязания на берегу Минция. Это дает основание предполагать, что идея о троянских играх созревала у Вергилия немного обособленно от других его поэтических замыслов. В частности, поскольку традиция проведения троянских игр берет начало от Юлия Цезаря, а в дальнейшем поддерживалась усилиями Октавиана, вполне возможно, что мысль написать αίτιον о возникновении троянских игр в Риме могла возникнуть у Вергилия из его процезарианской политической ориентации.
Наконец, наше внимание привлекает тот факт, что в целях оправдания выбора темы III книги «Георгик» Вергилий перечисляет ряд мифологических сюжетов, обработанных главным образом поэтами эпического направления:
Quis aut Eurysthea durum aut inlaudati nescit Busiridis aras?
Cui non dictus Hylas puer et Latonia Delos Hippodameque humeroque Pelops insignis eburno, acer equis? (Ili, 4-7.)
Из этого перечисления выясняется, что Вергилия прежде всего интересуют сравнительно небольшие эпизоды. Только миф об Эврисфее мог служить материалом для большой поэмы, как это было в «Гераклеиде» Паниасида Галикарнасского. Однако и он легко поддавался делению на многие похождения Геракла, которые могли идти в качестве самостоятельных эпиллиев. Видимо, в приведенных строках Вергилия мы имеем проявление его интереса к александрийскому эпиллию. Конкретным результатом этого интереса является эпизод об Аристее в последней книге «Георгик». Кроме того, рассказ Протея об Орфее и Эвридике также отличается самостоятельностью эпиллия. По разным причинам он иногда исследователями «Георгик» выносится за рамки эпизода об Аристее, как более раннее произведение Вергилия. Следовательно, он также подтверждает мысль о том, что во время работы над «Георгиками» или в другое время Вергилий испытывал свое перо в создании александрийских эпиллиев.
Таким образом, перед нами три литературных жанра, которыми в какой-то мере интересовался Вергилий во время работы на «Георгиками»: историческая поэма, посвященная прославлению определенной личности, александрийские айтии и эпиллии. Если судить по тем изменениям, которые замечаются во второй половине «Георгик», как в смысле формы, так и в смысле содержания, то можно будет полагать, что свои новые планы Вергилий изложил в начале III книги совсем не случайно. Видимо, где-то в этот период в какой-то мере он и конкретно был занят их осуществлением.
Однако в данном случае нас главным образом интересует не это. Главное заключается в том, что все три указанных жанра — историческая поэма, айтии и эпиллии — представляют собой эпос, как его могли понимать неотерики в соответствии с эстетическими принципами александринизма. Поэтому вполне понятен и тот факт, что появившиеся во второй половине «Георгик» новые черты содержания и формы непосредственно связаны с эпосом. Это показывает основное направление творческого развития Вергилия. Стало быть, будет совершенно правильно искать истоков «Энеиды» уже в этом периоде творчества Вергилия. К самой мысли о создании эпического произведения он полностью созрел и идейно себя подготовил еще в первой половине «Георгик» в глубоко прочувствованных дигрессиях об Италии, а поэтический арсенал накопил в основном во второй половине этой поэмы.
Однако, очень важно иметь в виду то, что первоначальное понимание эпоса у Вергилия связано с александрийской поэтикой. Правда, все указанные александрийские формы эпоса ведут к более древним формам эпической поэзии, основанной в римской литературе на историческом материале, а в греческой — на мифологическом, иначе говоря, ведут к основоположникам римской и греческой эпической поэзии — Эннию и Гомеру. В условиях римской литературной практики эта сторона эпической поэзии имела сама по себе довольно большое значение, ибо римские эллинисты, как уже было сказано, ориентировались на более старые формы поэзии. Тем не менее остается бесспорным факт, что эпос в первоначальном замысле и понимании Вергилия был александрийским.
Основная закономерность творческого развития Вергилия состоит в его неустанном стремлении преодолеть поверхностную безыдейность неотериков при одновременном сохранении и развитии тех литературных форм, которые появились в римской литературе благодаря им. «Буколики» по содержанию и по форме были александрийскими, но в последних эклогах прозвучал голос поэта-гражданина. В «Георгиках» гражданская настроенность становится преобладающей чертой поэзии «Вергилия, а в «Энеиде» такая идейная направленность уже основа основ. В каждом случае Вергилий начинал с александрийских форм и создавал на их базе нечто новое. В этом заключается и убедительная его оригинальность.
Л-ра: Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. Литература 8. – Вильнюс, 1965. – С. 180-192.
Критика