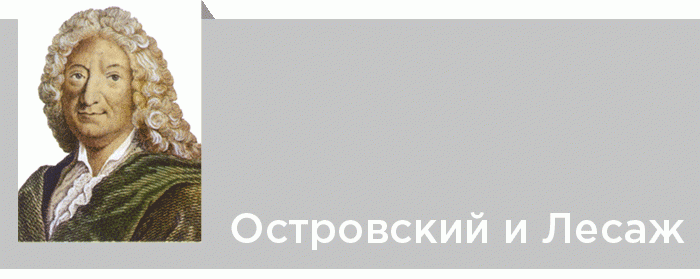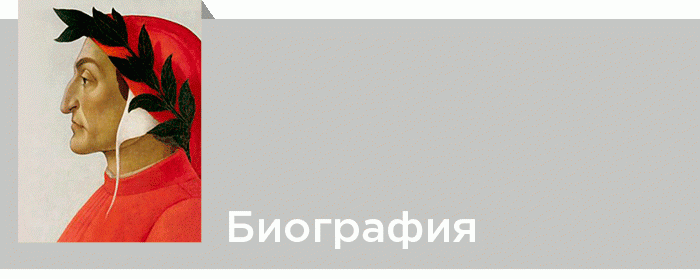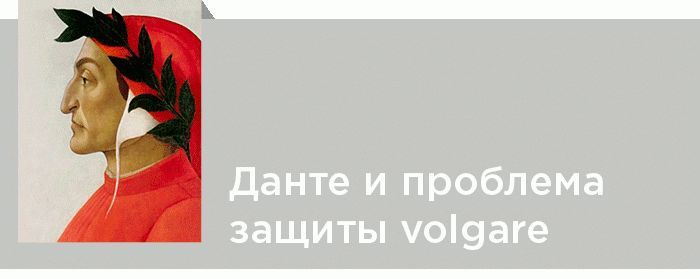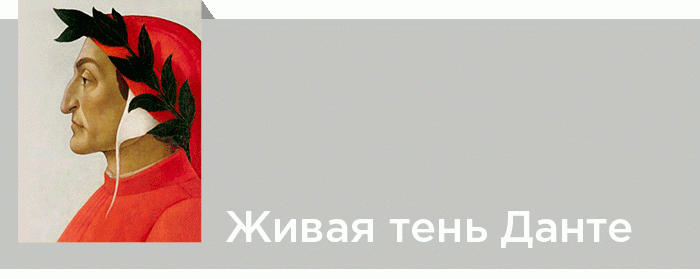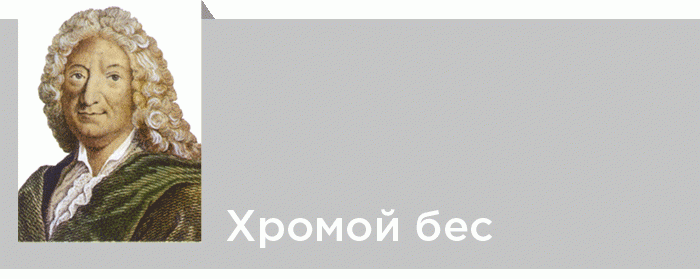Данте Алигьери. Пир. Трактаты
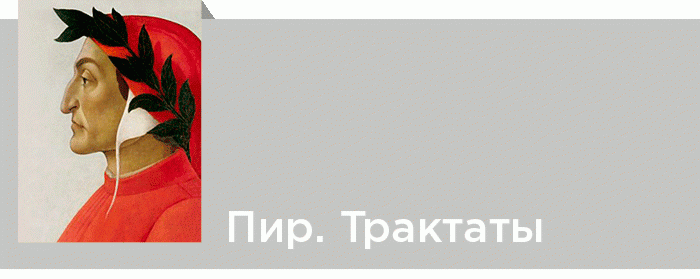
(Отрывок)
ТРАКТАТ ПЕРВЫЙ
I. Как говорит Философ в начале Первой Философии, все люди от природы стремятся к познанию. Причина этому та, что каждое творение, движимое предначертанием своей первоначальной природы, имеет склонность к собственному совершенству; и так как познание есть высшее совершенство нашей души и в нем заключено наше высшее блаженство, все мы от природы стремимся к нему. Тем не менее многие лишены благороднейшей способности совершенствоваться по разным причинам, которые, как внутри человека, так и вне его, отвращают его от научного призвания. Внутри человека могут быть изъяны и помехи двоякого рода: одни - со стороны тела, другие - со стороны души. Со стороны тела - когда его части не обладают должным предрасположением, почему оно и не может ничего воспринять, как это бывает у глухих, немых и им подобных. Со стороны души - когда в ней преобладает зло, почему она и становится приспешницей порочных наслаждений, которые настолько ее обманывают, что она из-за них презирает все на свете. Равным образом и вне человека можно обнаружить две причины, одна из которых приводит к вынужденному уходу от источников знаний, а другая - к небрежению ими. Первая - это семейные и гражданские заботы, приковывающие к себе, как и полагается, большую часть людей, которые поэтому и не могут пользоваться досугом для размышлений. Другая - это непригодность к занятиям в том месте, в котором человек родился и вырос, ибо в нем иной раз не только никакой Высшей школы не существует, но и никого из ученых людей даже издали не увидишь.
Две из этих причин, а именно первая внутренняя и первая внешняя, не подлежат осуждению, но достойны извинения и прощения; остальные же две, хотя одна из них и в большей степени, чем другая, достойны порицания и вызывают отвращение. Таким образом, для всякого внимательного наблюдателя очевидно, что мало таких людей, которые способны были бы достигнуть всеми желаемого призвания, и что едва ли можно исчислить тех неудачников, которые всю свою жизнь жаждут этой пищи. О, сколь блаженны восседающие за той трапезой, где вкушают ангельский хлеб! И сколь несчастны те, кто питается той же пищей, что и скотина! Однако поскольку каждый человек каждому другому человеку от природы - друг, а каждый друг скорбит о недостатках любимого, постольку вкушающие пищу за столь высокой трапезой не лишены сострадания к тем, кто у них на глазах бродит по скотскому пастбищу, питаясь травой и желудями. А так как сочувствие - мать благодеяний, то и познавшие всегда щедро делятся своими добрыми богатствами с истинными бедняками, являя собой как бы живой источник, чья вода утоляет ту природную жажду, о которой говорилось выше. Я же не восседаю за благодатной трапезой, но, бежав от корма, уготованного черни, собираю у ног сидящих толику того, что они роняют. Я знаю о жалком существовании тех, кого я оставил за собою; вкусив сладость собранного долгими моими трудами, я проникся состраданием к этим несчастным и, памятуя об оставленных, приберег для них некогда обнаруженное их взорами и возбудившее в их душах большое желание. Посему, стремясь ныне им услужить, я намереваюсь задать всеобщее пиршество из того хлеба, который необходим для такой снеди и без которого они не смогли бы ее отведать. А это и есть пир, достойный этого хлеба и состоящий из такой снеди, которая, как я надеюсь, будет подана не напрасно. И потому пусть не садится за это пиршество тот, у кого органы к тому не приспособлены, ибо нет у него ни зубов, ни языка, ни неба, а также и ни один из приспешников порока, ибо желудок его полон ядовитых соков, вредных настолько, что никаких яств он никогда не мог бы принять. Но пусть придет сюда всякий, кого семейные и гражданские заботы не лишили человеческого голода, и сядет за одну трапезу вместе с другими, подобными ему неудачниками; и пусть у ног их расположатся все те, кто по нерадивости сделались недостойными более высоких мест; и пусть и те и другие примут мое угощение вместе с тем хлебом, который позволит им и отведать его и переварить. Угощение же на этом пиру будет распределено на четырнадцать канцон, посвященных как любви, так и добродетели, которые без предлагаемого ныне хлеба остались бы темны и непонятны, и многим их красота могла бы понравиться больше, чем содержащееся в них добро. Однако хлеб этот, то есть истолкование, будет тем светом, который обнаружит каждый оттенок их смысла.
Если в настоящем сочинении, которое называется "Пиром" - и пусть оно так называется,- изложение окажется более зрелым, чем в "Новой Жизни", я этим ни в коей мере не собирался умалить первоначальное мое творение, но лишь как можно больше помочь ему, видя, насколько разумно то, что "Новой Жизни" подобает быть пламенной и исполненной страстей, а "Пиру" - умеренным и мужественным. В самом деле, одно надлежит говорить и делать в одном возрасте, а другое - в другом. Поведение уместное и похвальное в одном возрасте бывает постыдным и предосудительным в другом, что и будет обосновано ниже, в четвертом трактате этой книги. В прежнем моем произведении я повествовал, будучи на рубеже молодости, а в этом - уже миновав его. И так как истинное мое намерение отличалось от кажущегося при поверхностном ознакомлении с упомянутыми канцонами, я ныне собираюсь раскрыть их аллегорический смысл после уже поведанного буквального смысла. Таким образом, и то и другое истолкование придется по вкусу тем, кто приглашен на ужин. Всех же я прошу - если пир этот окажется не столь роскошным, как это было объявлено,- приписывать каждый недостаток не моему намерению, но моим способностям; все же я стремлюсь к совершенной и любвеобильной щедрости, которая должна осуществиться.
II. В начале каждого хорошо устроенного пира слуги обычно берут поданный на стол хлеб и очищают его от всякого пятнышка. Поэтому и я, исполняющий в настоящем трактате их обязанности, от двух пятен собираюсь очистить это рассуждение, которое и почитается хлебом в моем угощений. Одно из них - говорить о самом себе никому не дозволено, другое - неразумно говорить, вдаваясь в слишком глубокие рассуждения. Пусть же, таким образом, нож моего суждения отделит недозволенное и неразумное. У риторов не принято, чтобы кто-нибудь говорил о себе без достаточных на то причин, и человек от этого воздерживается потому, что говорить о ком-либо невозможно без того, чтобы говорящий не хвалил или не порицал того, о ком он говорит; и то и другое - признаки грубости в каждом человеке, говорящем о самом себе. И дабы рассеять сомнение, которое возникает, скажу, что порицать хуже, чем хвалить, хотя и того и другого делать не следует. Любая вещь, по самой своей сущности заслуживающая порицания, отвратительнее той, которая порицается лишь изредка. Поносить самого себя достойно порицания, ибо со своим другом человек должен говорить о его недостатках наедине и никто не бывает большим другом для человека, чем он сам; поэтому он лишь в укромной келье своих помыслов должен корить себя и оплакивать свои недостатки, а отнюдь не на людях. Далее, человека по большей части порицают не за то, что он не может или не умеет хорошо себя вести, но всегда за то, что он этого не желает, ибо по нашему желанию или нежеланию и судят о наших злых или добрых намерениях; потому тот, кто порицает самого себя, свидетельствует этим, что он, зная о своем недостатке, признает себя нехорошим; поэтому и следует воздерживаться от того, чтобы порицать самого себя на словах. Хвалы, воздаваемой самому себе, следует избегать как всякого относительного зла, поскольку невозможно хвалить без того, чтобы хвала не оказалась в еще большей степени хулой. Хвала звучит на поверхности слов, но, если порыться в их глубине, она оборачивается хулой. Слова созданы для того, чтобы обнаружить неведомое, поэтому тот, кто хвалит самого себя, показывает, что он не верит хорошему о себе мнению; а это не случается без злостного лицемерия, которое человек обнаруживает, хваля самого себя и тем самым себя порицая.
И далее, по тем же причинам следует избегать самовосхваления и самопорицания как лжесвидетельства; ибо нет человека, который бы правдиво и справедливо оценивал самого себя, столь обманчиво наше самолюбие. Каждый в своем суждении пользуется мерой хитрого купца, покупающего по одной мере и продающего по другой; и каждый ищет крупную меру для своих дурных поступков и мелкую для хороших, так что размер, количество и вес добра кажутся ему большими, чем если бы оно было измерено верной мерой, а вес зла - меньшим. Поэтому, хваля или порицая себя, он произносит ложь или о том, о чем он говорит, или о своем собственном суждении, но лживо и то и другое. И коль скоро согласие есть уже некое признание, низко поступает тот, кто кого-нибудь хвалит или порицает в лицо, ибо получающий оценку не может ни согласиться с ней, ни отрицать ее без самовосхваления или самопорицания, если не вступит на путь осуждения той ошибки, исправление которой имеется в виду, или если не вступит на путь должного почитания и возвеличивания, по которому невозможно пройти, не упомянув о добродетельных деяниях или о почестях, заслуженных добродетелью.
Однако, возвращаясь к главной моей задаче, скажу, как я уже упомянул, что в случае необходимости допустимо говорить и о самом себе; наиболее очевидны следующие два случая. Первый: когда, не говоря о самом себе, невозможно избежать великого позора или опасности; это допустимо на том основании, что выбрать из двух тропинок менее скверную почти то же, что выбрать хорошую. Такая необходимость и заставила Боэция говорить о самом себе, дабы под предлогом утешения он мог оправдать постоянный стыд своего изгнания, доказав его несправедливость, так как никто другой в его защиту не поднимался. Второй случай: когда разговор о самом себе приносит как наставление величайшую пользу другим; этот довод и заставил Августина говорить о самом себе в своей "Исповеди"; так как образцовое и поучительное превращение его жизни из нехорошей в хорошую, из хорошей в лучшую, а из лучшей в наилучшую не могло послужить более истинным тому свидетельством. Поэтому если и тот и другой довод меня извиняют, то хлеб из моего зерна уже очищен от первого пятна. Я побужден страхом бесчестия и движим желанием преподать урок, которого, однако, никто другой преподать не может. Я страшусь бесчестия, причиненного мне той непомерной страстью, которая надо мной господствовала и которую может усмотреть каждый, кто прочтет вышеназванные канцоны, но бесчестие это полностью упраздняется настоящим моим разговором о самом себе, доказывающим, что движущей их причиной была не страсть, а добродетель. Я намереваюсь также показать истинный смысл этих канцон, который иной может и не заметить, если я его не перескажу, поскольку он скрыт под фигурой иносказания. И это не только доставит отменное удовольствие слуху, но и послужит отличным руководством и для верного суждения в речах, и для правильного восприятия сочинений других.
III. Достойна всяческого порицания та вещь, которая, будучи предназначена для устранения какого-нибудь недостатка, сама же его вызывает, подобно человеку, которого послали бы разнять драку и который, прежде чем ее разнять, затеял бы другую. Поскольку же хлеб мой очищен с одной стороны, мне надлежит очистить его и с другой во избежание укора в том, что написанный мною своего рода комментарий, имеющий целью устранить главный недостаток вышеназванных канцон, уже сам по себе кое в чем, пожалуй, трудноват. Трудность же эта здесь намеренная, но не от невежества, а чтобы избежать более крупного недостатка. О, если бы по соизволению Устроителя Вселенной извиняющая меня причина никогда и не возникла! В таком случае и никто другой против меня не согрешил бы, и я сам не претерпел бы незаслуженной кары, кары, говорю, и изгнания, и нужды. После того как гражданам Флоренции, прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, угодно было извергнуть меня из своего сладостного лона, где я был рожден и вскормлен вплоть до вершины моего жизненного пути и в котором я от всего сердца мечтаю, по-хорошему с ней примирившись, успокоить усталый дух и завершить дарованный мне срок,- я как чужестранец, почти что нищий, исходил все пределы, куда только проникает родная речь, показывая против воли рану, нанесенную мне судьбой и столь часто несправедливо вменяемую самому раненому. Поистине я был ладьей без руля и без ветрил; сухой ветер, вздымаемый горькой нуждой, заносил ее в разные гавани, устья и прибрежные края; и я представал перед взорами многих людей, которые, прислушавшись, быть может, к той или иной обо мне молве, воображали меня в ином обличье. В глазах их не только унизилась моя личность, но и обесценивалось каждое мое творение, как уже созданное, так и будущее. Причины этого, поражающей не только меня, но и других, я и хочу здесь вкратце коснуться. Так случается, во-первых, потому, что молва растет, переходя за пределы истины; а во-вторых, потому, что присутствие ограничивает ее пределами истины. Доброжелательная молва возникает главным образом от доброжелательного отношения друга, и в душе его она первоначально рождается; одновременно душа недруга хотя и приемлет то же семя, но от него не зачинает. Душа, которая первая порождает благожелательную молву, как для того, чтобы приукрасить свой дар, так и ради любви к другу, не придерживается границ истины, но их преступает. И когда она преступает их для украшения своей речи, она говорит против своей совести; когда же она их нарушает, обманутая любовью, она не говорит против своей совести. Вторичное состояние души, воспринимающей молву, не только радуется расширению, допущенному первой, но и старается украсить полученное, как если бы оно было его собственным созданием, причем так, что благодаря этому превращению и благодаря обману, ею испытанному от возникшей в ней любви, второе душевное состояние делает молву еще более широкой, чем воспринятую в согласии или в противоречии со своей совестью. И так же поступают и третья и четвертая воспринимающие разумные души, и молва все ширится до бесконечности. Таким образом, обращая вышеназванные причины в их противоположности, можно усмотреть и становление позора, разрастающегося такими же путями. Недаром Вергилий говорит в четвертой книге "Энеиды", что молва живет собственной подвижностью и увеличивается на ходу. Итак, всякий может с очевидностью убедиться в том, что образ, порожденный молвой, всегда обширнее - каков бы он ни был,- чем образ, воспринимаемый в истинном своем состоянии.
IV. Была указана выше причина, в силу которой молва раздувает как доброе, так и злое, превосходя их истинные размеры. В настоящей главе следует показать обратное: почему личное присутствие умаляет и то и другое; тогда легко будет дойти до главного, то есть до помянутого выше моего оправдания.
Итак, я утверждаю, что присутствие умаляет действительную ценность человека по трем причинам: одна из них - это детскость, я не говорю возраста, но духовного начала; вторая - это зависть, и обе они заключены в том, кто судит; третья - человеческая небезупречность, и она заключена в том, о ком судят. Первая может быть коротко описана следующим образом. Большая часть людей живет наподобие детей, следуя чувству, а не разуму; и такие люди познают вещи не иначе как только снаружи и их качества, предрасположенные к должной цели, они не видят, так как глаза разума, способные усмотреть эту цель, у них закрыты. Поэтому они сразу видят все, что могут увидеть, и судят согласно своему видению. Так как они иной раз составляют себе мнение о чужой славе понаслышке, а мнение это расходится с тем несовершенным суждением, которое судит только на основании чувства, а не разума, то они начинают считать чуть ли не ложью то, что слышали раньше, и перестают ценить того человека, которого раньше ценили. Поэтому в глазах большинства личное присутствие сужает и то и другое свойство. Такие люди сразу увлекаются и сразу же пресыщаются, часто радуются и часто огорчаются мимолетными удовольствиями и непристойностями, сразу становятся друзьями и сразу же недругами; они все делают как дети, не пользуясь разумом. Вторую половину можно обнаружить, принимая во внимание следующее: у людей порочных равенство вызывает зависть, а зависть - дурное суждение, не позволяющее разуму судить в пользу того, кому завидуют. Способность суждения подобна в таком случае судье, выслушивающему только одну из сторон. Поэтому, когда такие люди видят человека прославленного, они тут же становятся завистниками, заметив такие же, как и у них, телесные задатки и возможности, и боятся, что их будут меньше ценить из-за выдающихся достоинств этого человека. И они, охваченные этой страстью, не только судят дурно, но, клевеща, заставляют и других дурно судить, ибо для таких людей личное присутствие ограничивает в любом человеке и хорошее и дурное, перед ними предстающее; я говорю "и дурное", потому что многие, получая удовольствие от дурных поступков, завидуют даже тем, кто поступает дурно. Третья причина -это человеческая небезупречность, усматриваемая при некоторой близости и знакомстве в том, о ком судят. Чтобы с очевидностью в этом убедиться, надо помнить, что человек во многом грешен и что, как говорит Августин, "нет никого, кто не был бы незапятнан". Иной раз человек запятнан какой-нибудь страстью, которой он часто не в силах противиться, иной раз он запятнан каким-нибудь уродством, а иной раз - позором родителей или кого-нибудь из близких. Все это обнаруживается не молвой, а личным присутствием и общением. И пятна эти бросают некоторую тень на саму доброту, заставляя ее казаться менее ясной, и умаляют ее. Поэтому каждый пророк менее почитается в своем отечестве. Вот почему добрый человек должен допускать до общения с собой лишь немногих, а до своей близости - еще меньших, тогда имя его будет всеми приемлемо, а не презираемо. Вышесказанное может относиться как к дурному, так и к хорошему, если обратить в одну или другую сторону каждый из приведенных доводов. Отсюда следует, что благодаря небезупречности, свойственной каждому человеку, личное присутствие ограничивает хорошее и дурное в каждом явлении, нарушая границы истины.
Так как я, о чем уже говорилось выше, лично представал почти перед всеми итальянцами, я поистине унизил себя этим, быть может более, чем необходимо, и не только в глазах тех, до которых молва обо мне уже докатилась, был я унижен, но также и многих других, так что из-за этого произведения мои обесценились. Мне надлежит поэтому придать настоящему моему сочинению большую строгость и писать возвышенным стилем, чтобы сообщить ему больший авторитет. Это извинение оправдывает трудность моего комментария.
V. После того как хлеб этот очищен от случайных пятен, остается просить извинения за одно существенное пятно, а именно за то, что он написан на языке народном, а не на латинском; пользуясь же сравнением, можно сказать, что это хлеб простой, а не пшеничный. И в оправдание этого приведем вкратце три довода, которые и заставили меня избрать первый язык, а не второй. Один из них вызван опасением неподходящего выбора; второй - желанием быть щедрым; третий - природной любовью к родному наречию. И, приводя для каждого из них достаточные основания и возражая против высказанного обвинения, я намереваюсь все обсудить по порядку.
Более всего украшает человеческую деятельность и более всего для нее похвально, а также лучше всего направляет ее к доброй цели способность овладеть теми свойствами, которые необходимы для достижения желаемого, подобно тому как рыцарю для достижения его цели необходимы смелость духа и выносливость тела. Равным образом человек, предназначенный служить другому, должен обладать качествами, которые соответствуют этой цели, как-то умением подчиняться, пониманием и послушанием, без которых никто не пригоден к хорошей службе; в самом деле, если он при любых обстоятельствах не умеет подчиняться, он всегда выполняет свою службу с трудом и неохотно и редко когда остается в услужении; и если он [не понимает потребностей своего хозяина и ему не повинуется], он никогда не будет служить иначе как своевольно и так, как ему вздумается, что будет скорее услугой друга, чем слуги. Итак, во избежание беспорядка нужен комментарий, который в качестве слуги нижеследующих канцон должен им подчиняться в любых обстоятельствах, понимая потребности своего хозяина. Всех этих качеств он был бы лишен, будь он написан по-латыни, а не на народном языке, так как канцоны сложены на языке народном. Он был бы также не подчиненным, а господствовал бы благодаря своему благородству, достоинству и красоте. Благодаря благородству - поскольку латинский язык неизменен и не подвержен порче, народный же - неустойчив и подвержен порче. Поэтому мы и видим в комедиях и трагедиях, написанных в древности и неизменных, тот же латинский язык, каким мы владеем и ныне; не так с языком народным, который, следуя прихоти, а также искусству им пользующихся, изменяется. Если хорошо приглядеться, мы придем к заключению, что в городах Италии за последние пятьдесят лет многие слова исчезли, возникли и изменились; поэтому если короткий срок вызывает такие превращения, то более долгий порождает их в еще большем количестве. Таким образом, я утверждаю, что если бы те, кто покинули эту жизнь тысячу лет тому назад, вернулись в свои города, они подумали бы из-за различия в языке, что город их занят чужеземцами. Об этом будет сказано в другом месте более подробно, а именно в небольшой книге, которую я, если позволит Бог, намереваюсь сочинить о народном красноречии.
Кроме того, замечу, что латинский язык, если бы я избрал его, был бы не подчиненным, а главенствующим по своему достоинству. Каждая вещь добродетельна по своей природе, когда она делает то, для чего она предназначена; и чем лучше она это делает, тем более она достойна. Поэтому мы именуем добропорядочным того человека, который живет жизнью созерцательной или деятельной, ежели к таковой он склонен от природы; мы называем отменным того коня, который обладает ходом сильным и продолжительным,- такова цель его создания; мы считаем добрым тот меч, который хорошо рассекает твердые предметы,- в этом его назначение. Так и речь, которой надлежит раскрывать человеческую мысль, достойна тогда, когда она это осуществляет, и более достойна та речь, которая это делает лучше; и, так как латинский язык открывает многие мысли, которые народный выразить не способен, как это знают те, кто владеет и той и другой речью, он обладает большим достоинством, чем язык народный.
Кроме того, он не был бы подчиненным, но главенствующим благодаря своей красоте. Человек называет ту вещь красивой, части которой должным образом друг другу соответствуют; и мы называем красивым то пение, когда голоса, следуя правилам искусства, друг другу отвечают. Таким образом, красивее та речь, в которой слова в большей степени обладают должным соответствием друг другу, а обладают они таким соответствием в латинском языке в большей степени, чем в народном, ибо народный следует обычаю, а латинский -искусству, почему он и признается более красивым, более достойным и более благородным. Из этого и вытекает основное положение, а именно что латинский язык оказался бы не подчиненным канцонам, но над ними главенствующим.
VI. После того как было разъяснено, что настоящий комментарий, будь он латинским, не был бы подчинен канцонам, написанным на языке народном, остается показать, что он в таком случае канцон не понимал бы и не был бы им послушен; после чего придем к заключению, что во избежание досадных расхождений необходимо выражаться на языке народном. Что латинский язык не был бы понятливым слугой для народного сеньора, я утверждаю на следующем основании: понятливость слуги требуется для совершенного разумения главным образом двух вещей. Одна из них - это характер господина: ведь бывают же господа нрава настолько ослиного, что приказывают как раз обратное тому, чего они хотят; другие, которые хотят быть понятыми, ничего не говоря, и, наконец, такие, которые не хотят, чтобы слуга двигался с места для выполнения необходимого, если они этого не приказали. А так как эти свойства присущи некоторым людям, я не намереваюсь в настоящее время их разъяснять, ибо это слишком затянуло бы настоящее отступление; скажу лишь, что такие люди вроде скотов, которым разум мало чем служит на пользу. Поэтому, если слуга не понимает природы своего хозяина, он, очевидно, не может служить ему так, как следует. Также следует заметить, что слуга должен понимать друзей своего хозяина, иначе он не смог бы ни почтить их, ни исполнить их желаний, а тем самым он не служил бы в надлежащей степени и своему хозяину; ведь друзья как бы части единого целого, поскольку это целое есть либо единое желание, либо единое нежелание.
Латинский комментарий не обладал бы пониманием необходимых вещей, которым обладает народный язык. А что латинскому не свойственно понимание народного языка, доказывается следующим образом. Тот, кто знает лишь род какой-либо вещи, в совершенстве ее не знает; так, например, различая какое-нибудь животное издали, человек не разбирается как следует и не знает - собака ли это, волк или козел. Латинский знает народный язык вообще, но не в отдельных проявлениях, ибо если бы он различал его надлежащим образом, то познал бы все народные языки - ведь нет оснований, чтобы он один язык понимал лучше другого; таким образом, если бы какой-нибудь человек полностью и в совершенстве овладел латынью, то он, как может показаться, приобрел бы способность охватить и познать все народные языки. Но этого не бывает; человек, владеющий латынью, если он из Италии, не отличает [английского] народного языка от немецкого, ни немец, знающий латынь, не различает итальянский народный язык от провансальского. Отсюда явствует, что латынь не понимает народного языка. К тому же она не понимает и его друзей, ибо невозможно понимать друзей, не понимая главного среди них; поэтому, если латынь не понимает народного языка, как это было доказано выше, для нее невозможно понимать и его друзей. Далее, без общения и близости невозможно понимать людей; латинский же ни в одном народе не имеет общения со столькими людьми, со сколькими общается язык народный, у которого так много друзей; а следовательно, латинский и не может понимать друзей языка народного. И этому не противоречит утверждение, что латинский все же общается с некоторыми друзьями народного: ведь он близок не со всеми, а потому и не обладает совершенным пониманием друзей; ибо понимание требует совершенного, а не недостаточного.
VII. После того как доказано, что латинский комментарий был бы слугой непонятливым, я скажу, почему он не был бы и послушным. Покорен тот, кто обладает добрым расположением, именуемым послушанием. Истинное послушание должно обладать тремя свойствами, без которых оно существовать не может: оно должно быть любезным, а не горьким; полностью подчиненным приказанию, не своевольным, а непринужденным; умеренным, но не безмерным. Нельзя предположить, чтобы латинский комментарий обладал этими тремя свойствами, а потому он и не мог бы быть послушным. И как уже было сказано, невозможность латинского комментария обнаруживается из следующих соображений. Все порожденное извращенным порядком явлений досадно и, следовательно, горько и не обладает приятностью, как-то: спать днем и бодрствовать ночью, пятиться назад, а не ступать вперед. Если подчиненный приказывает командиру, то это проявление извращенного порядка вещей - ведь правильный порядок требует, чтобы начальник приказывал подчиненному, и поэтому подобное смешение надлежащего горько, а отнюдь не сладостно. А так как горькому приказанию невозможно подчиняться как угодному, то и невозможно, чтобы старший охотно подчинился в тех случаях, когда приказывает подчиненный. Итак, если латинский главенствует над народным, как это было показано выше многими доводами, и если канцоны, выступающие или главенствующие, написаны на языке народном, то невозможно, чтобы латинский подчинялся охотно.
Отсюда следует, что послушание тогда вполне соответствует приказанию и не является ни в какой степени своевольным, когда подчиняющийся ничего не делает по своему почину - ни полностью, ни частично. И потому, если бы мне было приказано носить два плаща, а я один из них носил бы без всякого приказа, я утверждаю, что в таком случае послушание мое соответствует приказу не полностью, но частично. И таковым было бы послушание латинского комментария, и, следовательно, оно не было бы полным послушанием. А что оно было бы именно таково, явствует из следующего: латинский истолковал бы и без приказания своего господина смысл во многих частях, к тому же и объяснил бы его, в чем можно убедиться, если внимательно исследовать сочинения, написанные по-латыни, а этого народный язык не делает никогда.
Далее, послушание умеренно, а не безмерно, когда оно соблюдает границы приказания и не преступает их, подобно тому как природа в единичных своих проявлениях послушна природе в целом, когда она наделяет человека тридцатью двумя зубами, и не больше и не меньше того, и когда она наделяет его руку пятью пальцами, и не больше того и не меньше; равным образом и человек послушен правосудию, [когда делает то, что правосудие приказывает согрешившему], а не больше и не меньше. Латынь же этого не сделала бы, но согрешила бы не только недостатком и не только излишком, но и тем и другим; таким образом, ее послушание было бы не умеренным, а безмерным; следовательно, латынь не была бы послушной. Легко показать, что латынь не была бы исполнительницей приказания своего хозяина, а превысила бы его требования. Эти канцоны, то есть эти хозяева, которым комментарий в качестве слуги и предназначен, повелевают ему и хотят быть разъясненными всем тем людям, до которых может дойти их смысл, чтобы ясной стала их речь; и никто не сомневается, что, если бы они приказывали человеческим голосом, таково и было бы их повеление. Латинский же комментарий толковал бы их только для ученых, ибо другие его не поняли бы. И так как людей неученых гораздо больше, чем ученых, желающих понять канцоны, латинский комментарий не выполнил бы приказания в той степени, в какой способен его исполнить язык народный, который понятен как ученым, так и неученым. К тому же латинский комментарий толковал бы канцоны для людей чужого языка, как-то немцев, англичан и других, и этим превысил бы приказание канцон, так как - я говорю в широком смысле - содержание их вопреки их воле толковалось бы там, куда они не смогли бы проникнуть, невзирая на их красоту. И потому пусть каждый знает, что ни одно произведение, мусикийски связанное и подчиненное законам ритма, не может быть переложено со своего языка на другой без нарушения всей его сладости и гармонии. В этом причина, почему Гомер не переводился с греческого на латинский, подобно другим сочинениям, дошедшим до нас от греков. И такова причина, почему стихи Псалтыри лишены сладости музыки и гармонии; ибо они были переведены с еврейского на греческий, а с греческого на латинский и уже в первом переводе вся сладость гармонии исчезла. Таков вывод, который был обещан в начале главы, непосредственно предшествующей настоящей.
VIII. После того как на основании достаточных доводов было показано, что во избежание досадных расхождений и для раскрытия и объяснения упомянутых канцон подошел бы комментарий на языке народном, а не на латинском, я замечу, что такая добропоспешающая щедрость заставила меня избрать первый и отказаться от второго. Добропоспешающая щедрость может быть обнаружена в трех свойствах народного языка, которых не находим в латинском. Первое - это даровать многим; второе - даровать полезное; третье - делать подарок до того, как о нем просят. Ведь даровать что-либо одному и приносить ему пользу есть благо, но даровать что-либо многим и многим приносить пользу есть не заставляющее себя ждать благо, которое уподобляется благодеяниям Бога, Всеобщего Благодетеля. И далее, даровать многим невозможно не даруя кому-нибудь одному, с тем чтобы один был включен в число многих; но даровать одному вполне возможно не даруя многим. Поэтому приносящий пользу многим совершает и то и другое благо; приносящий же пользу кому-нибудь одному совершает только одно благое дело; поэтому мы видим, что законодатели, сочиняя законы, прежде всего устремляют свои взоры на общую пользу. Далее, дарить вещи, бесполезные для того, кто их получает, конечно, благо, поскольку дарующий по крайней мере обнаруживает, что он ему друг, но это благо несовершенное и не может быть названо добропоспешающим, как, например, если бы рыцарь подарил врачу щит или врач подарил рыцарю список "Афоризмов" Гиппократа или "Искусства" Галена. Недаром мудрецы говорят, что дар должен быть похож на того, кто получает, иначе говоря, чтобы он ему соответствовал и был ему полезен, а в этом и заключается добропоспешающая щедрость того, кто, даруя, умеет делать выбор. Но так как моральные рассуждения обычно вызывают желание вникнуть в их происхождение, я намереваюсь в этой главе вкратце показать четыре основания, исходя из которых всякий дар, в котором проявляется добропоспешающая щедрость, будет полезен тому, кто его принимает.
Эта добродетель должна в каждом своем проявлении быть радостной, а не печальной, так как, если даяние не радостно для дающего и для получающего, в нем нет совершенной добродетели и оно не является истинной щедростью. Радость же эта ничего другого не может принести, кроме пользы дающему и получающему. Таким образом, дарователь должен учитывать, что, даруя, он приносит себе пользу от достойного и честного поступка, который сам по себе превыше всякой пользы, а польза от употребления даруемой вещи переходит к получающему; и, таким образом, и один и другой будут радостными, а следовательно, осуществится добропоспешающая щедрость. Во-вторых, замечу, что добродетель неизменно должна направлять все к лучшему. Ведь подобно тому, как было бы поступком предосудительным превращать красивый меч в мотыгу или мастерить красивую чашу из красивой цитры, точно так же предосудительно переносить вещь из того места, где она приносит пользу, туда, где она менее полезна. А так как предосудительно действовать понапрасну, то и предосудительно помещать вещь не только туда, где она менее полезна, но и туда, где она принесет ту же пользу. Поэтому, чтобы перемещение вещей было похвальным, перемещение это всегда должно быть к лучшему, так как оно должно быть как можно более похвальным; а этого не может произойти с даром, если дар из-за своего перемещения не становится более ценным, а более ценным он не может стать, если он в употреблении не сделается более полезным для получающего, чем для дающего. Из чего можно заключить, что дару надлежит быть полезным тому, кто его получает, чтобы в нем была добропоспешающая щедрость. В-третьих, действие этой добродетели должно быть направлено на приобретение друзей, так как наша жизнь в этом нуждается, а цель каждой добродетели в том, чтобы сделать нашу жизнь радостной. Поэтому, чтобы дар превратил получающего в друга, ему подобает быть для него полезным, ибо польза запечатлевает в памяти образ дара, образ же этот - питание дружбы, тем более сытное, чем дружба крепче. Поэтому некто обычно и говорит: "Никогда из души моей не изгладится дар, который сделал мне тот, о ком я говорю". Следовательно, чтобы дар обладал свойственным ему достоинством, каковое и есть щедрость, и чтобы щедрость была добропоспешающей, дару подобает быть полезным для получающего. Наконец, дар должен быть добровольным, а не вынужденным. Когда человек добровольно следует в определенном направлении, лицо его обращено в ту сторону, куда он идет; если же человек идет против воли, он не смотрит туда, куда идет. Дар обращен к одаряемому лишь в том случае, когда он направлен на нужды последнего. А так как, не будучи полезным, он не может быть направлен на удовлетворение этих нужд, то необходимо, чтобы дар был полезен тому, кому он предназначается, то есть его получателю; тогда и добродетель не будет вынужденной; необходимо также, чтобы польза для его получателя была заключена в самом даре, из которого тем самым и проистекала бы добропоспешающая щедрость.
Третье, в чем может проявиться добропоспешающая щедрость,- это даяние без просьбы, ибо выпрошенный дар для одной из сторон - не добродетель, а торг, так как получатель покупает то, что даятель не продает. Недаром Сенека и говорит, что "ничто так дорого не покупается, как то, на что тратятся просьбы". Поэтому для того, чтобы в даре была добропоспешающая щедрость и ее можно было в нем заметить и чтобы в нем не было ни тени торговой сделки, необходимо также, чтобы он не был выпрошен. А почему так дорого стоит то, что выпрашивается, я не намереваюсь здесь обсуждать, поскольку это будет достаточно ясно показано в последнем трактате этой книги.
IX. От всех трех отмеченных выше условий, которые в своей совокупности содействуют тому, чтобы в каждом благодеянии присутствовала и добропоспешающая щедрость, латинский комментарий был бы далек, народный же им отвечал бы, как это с очевидностью может быть показано следующим образом. Латинский не служил бы многим так, как им служил бы народный: в самом деле, если мы освежим в памяти то, что обсуждалось выше, грамотные люди, не владеющие итальянским языком, не смогли бы воспользоваться этой услугой, а из тех, кто им владеет,- если толком приглядеться, кто они,- мы увидим, что даже один из тысячи не сумел бы должным образом им воспользоваться, так как эти люди его и не восприняли бы, настолько они склонны к скаредности, лишающей их всякого духовного благородства, которое особенно стремится к такого рода пище. И, к посрамлению их, я утверждаю, что они и не должны именоваться грамотными, ибо грамотность они приобретают не для того, чтобы ею пользоваться, а лишь постольку, поскольку они посредством нее зарабатывают деньги или должности; подобно тому как не следует называть музыкантом того, кто держит цитру у себя дома не для того, чтобы на ней играть, а для того, чтобы отдавать ее напрокат за деньги. Итак, возвращаясь к нашей главной задаче, я утверждаю, что ничего не стоит удостовериться в том, что латинский комментарий был бы благодеянием лишь для немногих, народный же окажет услугу поистине многим. Ведь благорасположение души, на которое надеется моя услуга в этом пире, свойственно людям, предоставившим из-за пагубного небрежения словесность тем, кто превратил ее из госпожи в блудницу; здесь говорится о многочисленнейших князьях, баронах, рыцарях и многих других знатных особах, не только о мужчинах, но и о женщинах, говорящих на языке народном и не знающих латыни.
Далее, латинский не был бы подателем дара полезного, каковым будет народный. Ибо вещь полезна лишь постольку, поскольку ею пользуются, и качество ее, остающееся только возможностью, не обладает совершенным бытием, подобно золоту, жемчугам и другим сокровищам, находящимся под землей..., ибо вещи, которые находятся в руках скупого, находятся в месте еще более низком, чем та земля, в которой сокрыто сокровище. Поистине дар этого комментария - смысл тех канцон, для которых он написан, смысл, главная задача которого - направить людей к познанию и к добродетели, как это будет видно в прологе второго трактата. Этот смысл не может не принести пользу тем, кому свойственно истинное благородство, как это будет сказано в четвертом трактате; а люди эти почти все выражаются на языке народном, подобно тем знатным особам, которые перечислены выше в настоящей главе. И этому не будет противоречить, если среди них попадется и латинист, ибо, как говорит мой наставник Аристотель в первой книге "Этики", "одна ласточка еще не делает весны". Таким образом, очевидно, что народный комментарий принесет некоторую пользу, латинский же пользы не принес бы.
Далее, народный язык предложит дар не выпрошенный, которого латинский не дал бы, так как народный язык в качестве комментария даст самого себя, чего никто еще никогда от комментария не требовал, а этого нельзя сказать о латинском, так как язык этот часто призывали для комментариев и примечаний ко многим писаниям, что ясно видно из введений во многих сочинениях. Таким образом, очевидно, что добропоспешающая щедрость подсказала мне народный язык предпочесть латинскому.
X. Велико должно быть оправдание в том случае, когда на пир со столь изысканными угощениями и со столь почетными гостями подается хлеб из ячменя, а не из пшеницы; требуется также очевидное основание, которое заставило бы человека отказаться от того, что издавна соблюдалось другими, а именно от комментирования на латинском языке. Основание это должно быть очевидным потому, что не может быть уверенности в конечном исходе всяких новшеств; в самом деле, не бывало еще никогда такого опыта, на основании которого можно было установить общую меру для развития и конечной цели даже в действиях для всех привычных и всеми соблюдаемых. Поэтому римское право, повелевая человеку вступать на новый путь не иначе как тщательно все взвесив, гласит: "Очевидным основанием для установления новшества должно служить то, что заставляет отступить от древнего обычая". Итак, никто не должен удивляться, если мое оправдание выльется в пространное отступление, но должен терпеливо перенести его пространность как необходимую. Продолжая это отступление, я утверждаю, после того как стало очевидным, почему я, во избежание неподобающего беспорядка и ради добропоспешающей щедрости, обратился к народному комментарию и отказался от латинского,- я утверждаю, что сам порядок всего моего оправдания требует, чтобы я показал, что меня на это толкала природная любовь к родной речи; а это и есть третье и последнее основание, которым я руководствовался. Я утверждаю, что природная любовь побуждает любящего: во-первых, возвеличивать любимое, во-вторых, его ревновать и, в-третьих, его защищать; и нет человека, который не видел бы, что постоянно так и случается. Все эти три побуждения и заставили меня выбрать наш народный язык, который я по причинам, свойственным мне от природы, а также привходящим люблю и всегда любил. Прежде всего любовь побудила меня его возвеличивать. Можно возвеличивать или превозносить многие стороны вещей, но ничто так не возносит, как величие собственной добродетели, которая есть мать и блюстительница других величий. Поэтому не может человек обладать большим величием, чем величие, проистекающее из собственных его деяний, основанных на доброй его сущности. Эта добрая сущность преображает и сохраняет величие истинных почестей и знаний, воздает истинную честь. От нее зависят подлинная власть и подлинное богатство. Она приводит истинных друзей, она стяжает нелживую и светлую славу. Такое именно величие я дарую этому другу - народному языку. Добрую сущность его, которой он обладал потенциально и втайне, я привожу в действие и делаю всем явной в его собственных проявлениях, обнаруживая способность народного языка выражать замыслы.
Кроме того, любовь заставила меня ревновать. Ревность к другу внушает человеку постоянную о нем заботу. Предполагая, что желание понять эти канцоны заставило бы какого-нибудь некнижного человека перевести латинский комментарий на язык народный, и опасаясь, что народный язык будет кем-нибудь изуродован, как это сделал Таддео Гиппократист, который перевел с латинского "Этику", я предусмотрительно применил народный, полагаясь больше на самого себя, чем на кого-либо другого. Любовь заставила меня также защищать его от многих обвинителей, которые его презирают и восхваляют другие народные языки, в особенности язык "ок", говоря, что он красивее и лучше, и тем самым отклоняются от истины. Великие достоинства народного языка "си" обнаружатся благодаря настоящему комментарию, где выявится его способность раскрывать почти как в латинском смысл самых высоких и самых необычных понятий подобающим, достаточным и изящным образом; эта его способность не могла должным образом проявиться в произведениях рифмованных вследствие связанных с ними случайных украшений, как-то рифма, ритм и упорядоченный размер, подобно тому как невозможно должным образом показать красоту женщины, когда красота убранства и нарядов вызывает большее восхищение, чем она сама. Всякий, кто хочет должным образом судить о женщине, пусть смотрит на нее тогда, когда она находится наедине со своей природной красотой, расставшись со всякими случайными украшениями; таков будет и настоящий комментарий, в котором обнаружится плавность слога, свойства построений и сладостные речи, из которых он слагается; и все это будет для внимательного наблюдателя исполнено сладчайшей и самой неотразимой красоты. И так как намерение показать недостатки и злокозненность обвинителей в высшей степени похвально, я для посрамления тех, кто обвиняет италийское наречие, скажу о том, что побуждает их поступать таким образом, дабы бесчестие их стало более явным.
Произведения
Критика