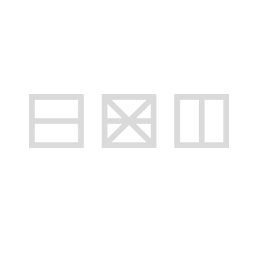Харуки Мураками как мастер межкультурной коммуникации

Боева С.А.
Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток
Настоящая статья посвящена рассмотрению творчества современного японского писателя Харуки Мураками с точки зрения межкультурной коммуникации. В статье дан анализ интертекстуальности, выявленной в его произведениях конца XX века. Прослеживается ведущая стилевая парадигма писателя, способствующая вхождению современной японской литературы в мировой культурный контекст.
Переводить Мураками - удовольствие особое:
переводя с японского, словно общаешься
со всем белым светом одновременно.
О Японии, но и не замыкаясь в ней...
Д. Коваленин [7]
Межкультурная коммуникация является одной из актуальных тем современной культурологии. Изначально интерес к этой теме возник в США в середине XX века. Он был вызван межэтническими конфликтами и проблемами, возникающими при взаимодействии с представителями разных культур. Впервые понятие «межкультурная коммуникация» было сформулировано американскими исследователями Г. Трейгером и Э. Холлом [14]. В Европе интерес к вопросам межкультурной коммуникации возник позже - в конце 70-х годов XX в. в связи с формированием Европейского сообщества, которое открыло границы многих государств для перемещения людей, капиталов и товаров. На западе направления развития межкультурной коммуникации изучали К. Гирц [5], Д. Мартин [18], Л. Самовар, Р. Портер [19] и другие. Сегодня в России проблемам взаимодействия и взаимоотношения культур уделяется большое внимание, они стали предметом исследования таких специалистов, как С.А. Арутюнов [2], С.Г. Тер-Минасова [15], А.П. Садохин [14], И.Э. Клюканов [6] и другие. В настоящее время тема «межкультурная коммуникация» начинает утверждаться в отечественной науке как самостоятельная дисциплина [14].
В установлении межкультурных контактов важная роль отводится художественной литературе. С точки зрения культурологического знания художественные произведения могут быть рассмотрены как посредники межкультурного диалога, тексты культуры, источники культурной информации. Одним из способов выражения межкультурной коммуникации в литературном произведении является интертекстуальность. Термин интертекстуальность был введен французским теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой в 1967 г. Термин подразумевает, что «любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста» [9, с. 428-429]. В развитие своей теории Ю. Кристева ссылалась на концепции «чужого слова» и «диалогичности» М.М. Бахтина, согласно которым вся мировая культура представляется как непрерывный диалог, в который включаются новые голоса. Диалог - это основа преемственности культуры, взаимопонимания и духовного единения людей. М.М. Бахтин вводит понятие «полифонизм текста», обозначающее соприсутствие в тексте нескольких голосов [4]. Тексты обладают свойством межтекстовых связей, с помощью которых разные тексты ссылаются друг на друга. По мысли французского семиотика Р. Барта, интертекстуальность (межтекстовые отношения) является единственным и необходимым условием для существования любого текста. Каждый текст представляет собой интертекст, где тексты прошлой и настоящей культур присутствуют с различной степенью узнаваемости [3].
По определению российского исследователя И.В. Арнольд, интертекстуальность «отражает непрерывный процесс взаимодействия текстов и мировоззрений в общей цепи мировой культуры. Она реализуется как включение в текст либо целых других текстов другим субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, аллюзий, реминисценций, либо даже лексических или других языковых вкраплений, контрастирующих по стилю с принимающим текстом» [1, с. 392-393]. Авторский текст, содержащий включения из других текстов, - это текст-реципиент (принимающий текст). Другие тексты, на которые ссылается текст-реципиент, являются по отношению к нему претекстами (текстами-донорами) [1].
Творчество современного японского писателя Харуки Мураками является показательным для исследования проблемы межкультурной коммуникации Японии. Этому способствуют: мировая популярность писателя, его биография и творческий путь, личная установка писателя на необходимость модернизации японской литературы, стремление сделать японскую литературу мировой. По признанию самого Х. Мураками, на его творчество оказали влияние как японские, так и западные писатели (Кобо Абэ, Ф.С. Фицджеральд, Р.Т. Чандлер) [8]. Открытость Х. Мураками другим культурам делает его представителем и посредником межкультурного диалога «Восток - Запад». Тексты писателя являются ярким выражением этого диалога. Актуальность исследования творчества Х. Мураками обусловлена и географическим положением Японии: Япония - страна АТР, соседняя с Приморским краем Дальнего Востока России. Таким образом, изучение художественных произведений этого писателя будет способствовать сближению и взаимопониманию культур Востока и Запада.
Цель данной статьи - рассмотреть творчество Х. Мураками с точки зрения межкультурной коммуникации посредством анализа интертекстуальности его текстов. Предметом статьи являются направления диалога между претекстами неяпонского происхождения и текстами Х. Мураками. Цель определила следующие задачи: выявить претексты неяпонского происхождения в тексте-реципиенте Х. Мураками; дать тематическую систематизацию данным претекстам; определить преобладающие направления межкультурной коммуникации в различных областях культуры. Материалом для исследования послужили следующие повести и романы Х. Мураками: «Слушай песню ветра» (1979) [13], «Пинбол 1973» (1980) [13], «Охота на овец» (1982) [12], «Дэне, дэнс, дэнс...» (1988) [10], [11]. Первые три произведения являются ранними трудами писателя, они составляют «Трилогию Крысы», продолжением которой стал роман «Дэнс, дэнс, дэнс.».
Выявленные в тексте-реципиенте X. Мураками претексты были распределены по следующим тематическим группам, которые приводятся в порядке частотности употребления ссылок: 1) музыка, 2) литература и философия, 3) драматургия, кино и мультипликация, 4) бытовая культура, 5) история, политика и наука, 6) изобразительное искусство и архитектура. Далее приведем анализ некоторых примеров.
Претексты музыкального характера. Переводчик произведений X. Мураками Д. Ко- валенин отмечает, что одним из приемов писателя является «музыкализация текстового потока». Этот прием роднит тексты X. Мураками с испаноязычной литературой (Х.Л. Борхес, X. Кортасар) [8]. Прием подразумевает частые ссылки писателя на музыкальные группы, певцов, композиторов, музыкальные произведения и песни. Например, в повести «Пинбол 1973» главный герой ссылается на Рики Нельсона и его песню «Хеллоу, Мэри Лу» для более образного обозначения того времени, когда его университетская подруга Наоко приехала жить в «мирную зеленую долину»: «Наоко приехала в это место, когда ей было двенадцать. В 1961 году, если по западному календарю. В год, когда Рики Нельсон спел «Хеллоу, Мэри Лу» [13, с. 138]. Ссылка на Бобби Ви и его песню «Резиновый мячик» использована, чтобы ярче обозначить год смерти архитектора дома, в котором жила семья Наоко: «Архитектором дома и первым его жильцом был пожилой художник, работавший в западной манере. Зимой перед приездом Наоко он умер от легочного осложнения. Значит, дело быгло в 1960 году - когда Бобби Ви спел Резиновый мячик» [13, с. 139].
Действительно, в проанализированных работах X. Мураками претексты музыкального характера составляют самую многочисленную группу. Часто встречаются отсылки на такие музыкальные стили Америки и Англии XX в., как поп («Бич Бойз», «Дюран Дюран», Майкл Джексон, Элвис Пресли), рок («Роллинг Стоунз», «Битлз»). Следует отметить также многократные ссылки на классических композиторов Германии, Италии, Австрии, России, Польши, Франции XVШ-XIX веков: венская классическая школа (И. Гайдн, Л. Бетховен, В.А. Моцарт), барокко-классицизм (И.С. Бах), романтизм (Ф. Шуберт, Ф. Шопен), жанр сольного инструментального концерта и кончерто гроссо (А. Вивальди), музыкальный импрессионизм и экспрессионизм (А.Н. Скрябин). Очевидно, X. Мураками хорошо чувствует инструментальную и вокальную мировую классику и современные эстрадные жанры, не обращаясь к оперной или балетной музыке. Его тексты вращаются в русле развития массовых вокально-инструментальных жанров и их истоков. Это выдает в писателе хорошего музыканта. Музыкальность X. Мураками во многом обеспечивает гибкость диалога в его текстах. Не случайно Д. Коваленин называет жанр, в котором пишет X. Мураками, эпитетом «джазовый дзен» [8]. Это название справедливо также потому, что говорит о присутствии в произведениях писателя синтеза и коммуникации двух разных культур и двух культурных сфер: западной музыки (джаз) и восточной религии (дзен-буддизм).
Претексты литературы и философии. В своих произведениях X. Мураками упоминает выдающихся писателей, философов и их работы, проявляя недюжинный кругозор. Писатель ссылается на следующие литературные жанры и направления: детектив (М. Спиллейн, А. Кристи, А. К. Дойл, Э. Макбейн), фантастика (Р. Д. Брэдбери, Ф. Дик, Г. Д. Уэллс); литературное движение «битников» в США сер. 1950-х - нач. 60-х гг. (А. Гинзберг, Дж. Керуак); «потерянное поколение» (Э.М. Хемингуэй, Ф.С. Фицджеральд, У. Фолкнер); реализм (Дж. Лондон, Д. Дефо, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, О. Бальзак, Г. Флобер); романтизм (Г. Мелвилл, Ж. Мишле); модернизм (Ф. Кафка). Следует также выделить часто упоминаемые писателем немецкие философские течения и учения: критицизм и немецкая классическая философия (И. Кант), марксизм (К. Маркс), философия жизни (Ф. Ницше). Частое обращение главного героя к книге Иммануила Канта «Критика чистого разума» в повести «Пинбол 1973», положительная оценка, которую дает герой этому произведению, цитирование слов философа говорят о том, что главный герой (как, возможно, и сам автор) испытывает уважение к личности философа, разделяет его философские взгляды: «Яразделся, взял «Критику чистого разума», пачку сигарет - и нырнул с ними в постель. От одеяла исходил слабый запах солнца, Кант был прекрасен, как и всегда - но сигарета имела такой вкус, будто отсыревшую газету свернули в трубочку и жгут на газовой горелке» [13, с. 192].
Претексты драматургии, кино и мультипликации представлены в произведениях X. Мураками посредством ссылок на личности режиссеров (У. Дисней, А.А. Тарковский, Ф. Феллини, А. Xичкок), актеров (К. Иствуд, Д. Фостер, Л. Оливье), кинофильмы («Утиный суп», «Касабланка»), персонажей фильмов и мультфильмов (Снупи, Микки-Маус, Багс- Банни, Лэсси) XX века.
В следующих отрывках из романа «Дэнс, дэнс, дэнс...» видно, как при помощи интертекста X. Мураками дает описание отелю «Дельфин» и раскрывает ощущения главного героя. Вместо старого отеля герой видит новое здание в двадцать шесть этажей, выстроенное в соответствии с требованиями современной архитектуры и техники. Образ настоящего отеля «Дельфин» вызывает в его памяти сцены и образы из кинофильма «Звездные войны»: «Отеля «Дельфин» больше нет. Чего бы я ни ожидал от него - все впустую: отель «Дельфин» сгинул с лица земли. Его просто не существует. Взамен осталась только эта технократическая уродина, напоминающая сверхсекретную космическую базу из «Звездных войн»... [11, с. 66]. Сидя в баре отеля, расположенного на двадцать шестом этаже, герой опять мысленно ссылается на данный кинофильм: «Одна стена в баре была полностью стеклянной - окно от пола до потолка. Я потягивал водку с содовой и озирал распростертый внизу ночной Саппоро. Обстановка вокруг напоминала космический мегаполис из «Звездных войн» [11, с. 66]. Разглядывая посетителей бара, герой замечает двух мужчин, поведение которых заставляет его снова вспомнить о кинофильме «Звездные войны» и об одном из его персонажей: «Двое мужчин средних лет в самом укромном углу пили виски и бубнили о чем-то заговорщическими голосами. Уж не знаю, что именно они так таинственно обсуждали - но, похоже, нечто судьбоносное для всего человечества. Скажем, разрабатывали секретный план покушения на Дарта Бэйдера. Кто их знает» [11, с. 68]. Данные отрывки содержат интертекст, реализованный отсылкой на американский кинофильм «Звездные войны» и на отрицательного героя Дарта Вэйдера - предводителя темных сил и воплощение Зла. Таким образом, кинофильм «Звездные войны» является текстом-источником (претекстом), введенным автором в текст произведения «Дэнс, дэнс, дэнс...» (текст-реципиент) посредством троекратной ссылки на кинофильм. Благодаря диалогическим отношениям между японским текстом и текстом американского кинофильма описание отеля приобретает дополнительную образность.
Следующий отрывок - это пример интертекстуальности, реализованной отсылкой на кинофильм «Моби Дик» и на американского писателя-романтика Германа Мелвилла (1819-1891). В беседе с постояльцами (главный герой и его подруга по имени Кики) консьерж (он же владелец отеля) сравнивает работу главного героя с охотой на Белого Кита:
«- Ищу одного... наследника.
- Наследника?
- У земельного участка был хозяин, да помер. Остался наследник, а координаты неизвестны.
- Понятно! - с уважением протянул консьерж. - Интересная, должно быть, у вас работа.
- Да нет! ничего особенного, - сказал я.
- Ну, все равно. Прямо как охота на Белого Кита» [12, с. 209].
Сначала такое сравнение приводит главного героя и Кики в недоумение. Позже выясняется, что оно было не случайным: кинофильм «Моби Дик» произвел впечатление на консьержа и подсказал ему название отеля - «Дельфин»:
- Ну да. Всегда интересно куда-то ехать, на что-то охотиться.
- На мамонта, например?- вставила подруга.
- Можно и на мамонта, - согласился консьерж. - Тут уже все равно. Я ведь почему отель так назвал? Смотрел однажды кино - «Моби Дик», по Мелвиллу; а там во время охоты на кита показывали дельфинов. Бот я и решил: назову свой отель «Дельфин» [12, с. 209].
Далее в разговоре звучит положительная оценка сюжета кинофильма, который вызывает в памяти консьержа события его собственной жизни:
«-Значит, вам нравится история про Моби Дика? - спросил я консьержа.
- О, да. Я вообще с детства мечтал стать моряком.
- А теперь сидите за конторкой в отеле? - спросила подруга.
- Это уже после того, как пальцы потерял, - пояснил консьерж. - Я ведь и служил моряком на сухогрузе, пока однажды при разгрузке пальцы лебедкой не прищемило.» [12, с. 210].
Проанализируем данный пример интертекста с точки зрения выполняемых им функций, соответствующих классической модели функций языка Р. Якобсона [17]. Апеллятивная функция этого интертекста проявляется в том, что консьерж, упомянув в своей речи Белого Кита, вероятно, ожидал, что постояльцы, вспомнив историю кинофильма «Моби Дик», поймут его намек. Однако консьерж не встретил понимания: главный герой переспрашивает, его подруга с целью поддержать беседу приводит в пример мамонта. Таким образом, в связи с возможным отсутствием общности семиотической и культурной памяти между собеседниками постояльцы не распознали интертекстуальную ссылку консьержа и не поняли стоящую за ней интенцию. Значит, опознавательная функция (функция, сочетающая в себе апеллятивную и фатическую функции) на определенном этапе беседы установила отношения между собеседниками как отношения между «чужими». Не получив ожидаемой реакции на сделанное сравнение, консьерж разъяснил постояльцам название своего отеля «Дельфин», которое имеет отношение к кинофильму «Моби Дик». Для полной ясности консьерж упомянул не только название фильма, но и имя автора романа «Моби Дик» Германа Мелвилла. Референтивная функция данного интертекста реализуется тем, что он влечет активизацию информации, которая содержится в претексте - кинофильме «Моби Дик». Этот исходный текст выступает по отношению ко всему этому фрагменту в метатекстовой функции, фиксировавшей связь фрагмента с текстом-источником. Экспрессивная функция интертекста осуществляется тем, что он служит элементом самовыражения консьержа, выражением его культурно-семиотических ориентиров. Это видно из разъяснения названия отеля и из дальнейшего рассказа консьержа о своей жизни и о своих мечтах.
Группа претекстов бытового характера включает ссылки писателя на известные немецкие, итальянские и американские марки автомобилей (БМВ, Мазерати, Мерседес, Порше, Сааб, Ламборгини, Феррари, Ягуар, Фольксваген, Сэйбер, Фиат), на итальянских дизайнеров одежды (Д. Армани, Н. Труссар- ди), а также на названия блюд и напитков (алкогольные коктейли «Блади Мэри», «Солти Дог», виски «Катти Сарк», пиво «Левенбрау» и «Xайнекен», салат «Юлий Цезарь»). Органичное сочетание зарубежных направлений моды с традиционным бытом Японии в произведениях X. Мураками демонстрирует адаптацию бытовой культурной среды Японии к мировым реалиям в текстах автора.
Претексты историко-политической и научной направленности. Авторский текст вступает в диалогические отношения с историко-политическими и научными текстами посредством ссылок на исторические события, на личности ученых, политические фигуры и их достижения (Э. Дженнер, Д. Ф. Кеннеди, Г. Роршах, И.В. Сталин, А. Белл, Р.М. Никсон, Чингисхан, К.Ф. Браун, К.Г. Юнг). Часто X. Мураками отсылает читателя к личности Адольфа Гитлера: «Но именно этот человек в 1934 году извлек из золотых облаков технологии и поставил на нашу грешную землю самый первый автомат для игры в пинбол. Это исторический факт, относящийся к тому же году, когда Адольф Гитлер поделил гигантскую лужу под названием «Атлантический океан» и положил руку на первую перекладину Веймарской лестницы» [13, с. 146]. В данном отрывке главный герой обозначает год «рождения пинбола», ссылаясь на вождя фашистской Германии и связанный с ним исторический факт. Сарказм и ирония героя позволяют рассматривать это включение как «урок истории», который писатель постоянно повторяет в своих произведениях.
Претексты изобразительного искусства и архитектуры составляют самую немногочисленную группу. Они отсылают читателя к творчеству таких деятелей искусства, как Ш.Э. Корбюзье (рационализм, функционализм), П. Пикассо (кубизм, неоклассицизм, сюрреализм), Э. Уорхол (поп-арт), П.П. Рубенс (барокко). Интересно, что X. Мураками ссылается на деятелей изобразительного искусства и архитектуры, прославившихся как авторы-нетрадиционалисты, в определенной степени зачинатели направлений, новаторы. Поскольку чаще эти отсылки идут от лица главного героя, напрашивается предположение: а не олицетворяет ли себя с этими новаторами сам писатель?
Следующий отрывок из повести «Пинбол 1973» дает описание атмосферы, в которой находятся главный герой и его университетская подруга, Наоко: «Мы сидели друг напротив друга, разделенные столом из красного пластика, на котором стоял бумажный стаканчик, полный окурков. Солнце, бившее в высокое окно, как на картине Рубенса, прочерчивало на столе четкую границу между светом и тенью. Моя правая рука была освещена, левая лежала в тени» [13, е. 132]. Атмосфера напомнила герою картину П.П. Рубенса. Через ощущения главного героя X. Мураками отсылает читателя к творчеству фламандского живописца барокко. Так, текст-реципиент писателя взаимодействует с претекстом живописи, осуществляя тем самым межкультурную коммуникацию в области искусства.
Анализ интертекстуальности в произведенях X. Мураками позволил выявить 6 тематических групп претекстов. Данные группы претекстов показали, что интертекстуальность текстов X. Мураками реализуется многократными включениями из текстов-источников неяпонского происхождения, относящихся к разным сферам культур Америки и Европы XVШ-XX столетий. Анализ претекстов позволил выделить основные направления межкультурной коммуникации в области литературы, философии, изобразительного искусства и музыки. В художественных произведениях X. Мураками слышны голоса многих известных во всем мире людей, принадлежащих к культурам разных стран и разных эпох. Все эти великие люди и их творения соединились в произведениях X. Мураками в один многогранный и яркий мир. Таким образом, пользуясь термином «полифонизм» М.М. Бахтина, можно утверждать, что «полифонизм» является одной из характерных черт текстов X. Мураками, а интертекстуальность, выявленная в его произведениях, в силу своей иностранной принадлежности, - способом выражения межкультурной коммуникации текстов писателя с текстами иных культур. Велика роль самого писателя Xаруки Мураками как мастера и посредника межкультурной коммуникации, как просветителя. Своей интертекстуальностью он просвещает тех, для кого пишет свои произведения, приобщает японского читателя к культурам других стран. Творчество этого писателя способствует сближению народов, помогает им понять особенности разных культур так, как это понимает он - Xаруки Мураками, представитель японской культуры ХХ-ХХ1 столетий.
Список использованной литературы:
- Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 444 с.
- Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. 247 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
- Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОСС ПЭН, 2004. 557 с.
- Клюканов И.Э. Динамика межкультурного общения: Системно-семиотическое исследование. М.: Тверь, 1998. 217 с.
- Коваленин Д. Лучший способ потратить деньги, или Что делать в период острой джазовой недостаточности // Мураками X. Охота на овец. СПб.: Амфора, 2003. С. 367-369.
- Коваленин Д. «JAZZEN»: стиль жизни или форма литературы? // Мураками X. Охота на овец. СПб.: Амфора, 2003. С. 371-372.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман (1967) // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 420-435
- Мураками X. Дэнс, дэнс, дэнс...: Роман. Ч. 1. СПб.: Амфора, 2002. 361 с.
- Мураками X. Дэнс, дэнс, дэнс.: Роман. Ч. 2. СПб.: Амфора, 2003. 359 с.
- Мураками X. Охота на овец: Роман. СПб.: Амфора, 2003. 381 с.
- Мураками X. Слушай песню ветра. Пинбол 1973: Романы. СПб.: Эксмо, 2003. 304 с.
- Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М.: Высш. шк., 2005. 310 с.
- Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 624 с.
- Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000. 280 с.
- Р. Якобсон. Лингвистика и поэтика. Структурализм: «за» и «против» // Общее языкознание: Xрестоматия для филол. фак. вузов / Сост. Б.И. Косовский, Н.А. Павленко; Под ред. А.Е. Супруна. - 2-е изд., перераб. и доп. Мн.: Высш. шк., 1987. С. 78-88
- Martin J.N., Nakayama T.K. Intercultural Communication in Contexts. London, Toronto, 2000. 350 p.
- Samovar L.A., Porter R.E. Communication between Cultures. Belmont, 1991. 535 p.
Статья рекомендована к публикации 20.03.08