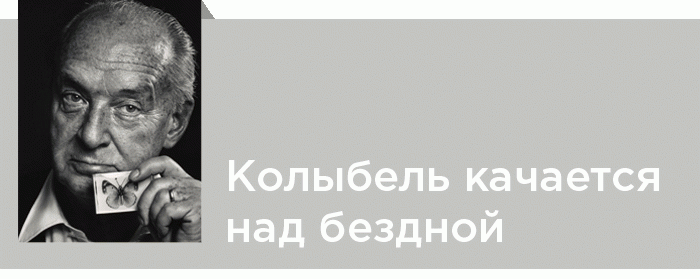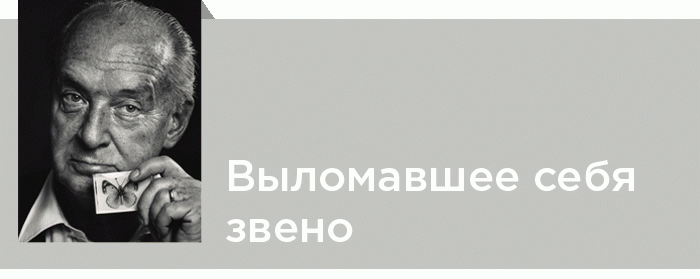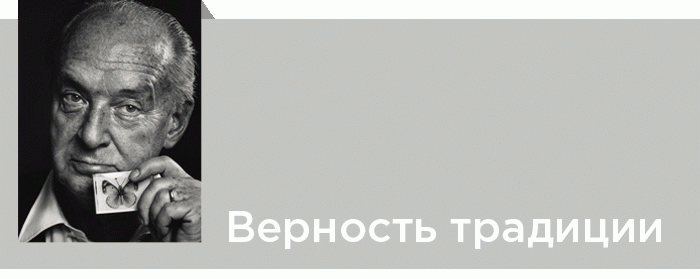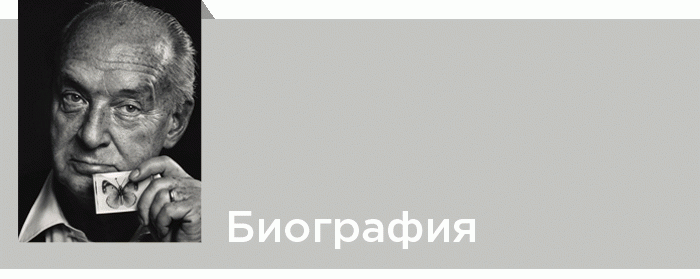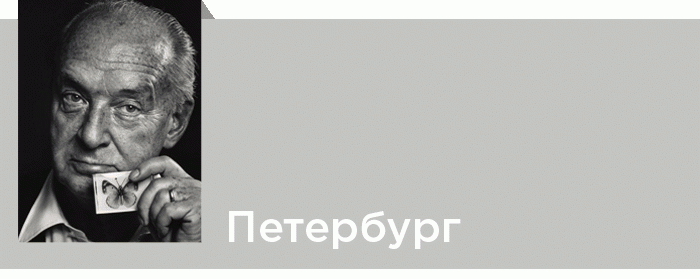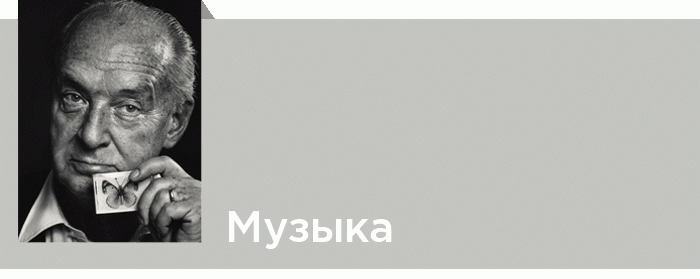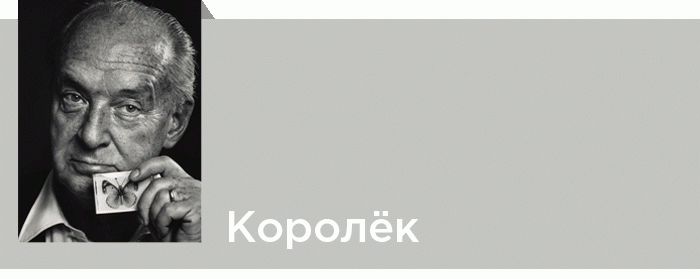Владимир Набоков: к бессмертию через слово

DOI: 10.24411/1811-1629-2019-11115
Николай Александрович Карпов
К 120-летию со дня рождения Владимира Набокова
NIKOLAI A. KARPOV
VLADIMIR NABOKOV: A WAY TO IMMORTALITY THROUGH THE WORD
Истории литературы известны примеры писателей-билингвов, но Владимир Набоков — пожалуй, единственный в мире художник слова, ставший крупнейшим, признанным мастером сразу в двух литературах, а именно в русской и американской. В России его справедливо считают русским писателем, в то время как в США, куда он переехал из Европы в начале Второй Мировой, в 1940 году, его столь же полноправно причисляют к американским авторам. В одном из поздних интервью Набоков в присущей ему бескомпромиссной манере заявил: «<...> я считаю себя — сейчас — американским писателем, который был некогда писателем русским»1. Правда, расставание с родной речью и переход на английский язык дались автору «Защиты Лужина» и «Дара» не просто тяжело, а вызвали настоящие душевные муки:
Отвяжись — я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей2.
(«К России», 1939)
В послесловии к роману «Лолита», написанном в 1956 году, Набоков скажет: «Личная моя трагедия — которая не может и не должна кого-либо касаться — это то, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка...» (АП, II, 385). А в стихотворении «Какое дело я дурное дело...» (1959) возникнут строчки, которые, наверное, одними из первых приходят на ум отечественному читателю, когда речь заходит о Набокове-поэте:
Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.
(РП, V, 435)
«Тень русской ветки» на мраморе образует своеобразный узор — один из любимейших у Набокова визуальных образов, символизирующих красоту, богатство и то же время труднопостижимость сложно организованного человеческого бытия. Набоковскую поэтику исследователи называют «игровой» — она основана на разгадывании тех самых искусных мотивно-стилистических узоров и орнаментов, которыми писатель обильно украшал свои произведения, задавая своему читателю подчас весьма сложные загадки.
Любопытно, что сама личность и биография Владимира Набокова оказываются в чем-то подобны произведениям: при всматривании в них тоже легко обнаружится достаточно загадок и парадоксов, «белых пятен» и «темных мест». Возможно, где-то исследователь-набоковед просто не обладает необходимыми сведениями, а в каких-то случаях «мистер Лолита» (как прозвали писателя американские журналисты) намеренно мистифицировал своего читателя.
Первый такой парадокс связан уже с самой датой рождения писателя. Известно, что родился он по старому стилю 10 апреля 1899 года в Санкт- Петербурге — «на утренней заре, в последнем году прошлого века» (АМ, V, 321). Соответственно по новому стилю день рождения писателя должен отмечаться 22 апреля. Однако сам Набоков в предисловии к автобиографическому роману «Память, говори» (1966) уверяет, что в ХХ столетии привык праздновать свой день рождения 23 апреля, и именно это число, являющееся «также датой рождения Шекспира» (АМ, V, 321), стоит в его американском паспорте. Очевидно, что такой подсчет основан на ошибке, простительной, впрочем, для человека, не являющегося профессионалом в сложном вопросе соотнесения календарей3 (кстати, точная дата появления на свет Шекспира и вовсе неизвестна, 23 апреля его день рождения отмечается предположительно). Существует и мнение, что Набоков совершил эту подмену умышленно: 22 апреля родился В. И. Ленин, и подобное соседство, что очевидно, радовать убежденного противника большевистской идеологии не могло4.
Писать, по собственному признанию, Набоков начал в 15 лет5, а в 1916 году на личные средства выпустил сборник откровенно подражательных стихотворений. «Пожалуйста, передайте Вашему сыну, что он никогда писателем не будет» (РП, V, 291), — сообщила отцу юного поэта лидеру кадетской партии В. Д. Набокову Зинаида Гиппиус. К счастью, метресса русского символизма ошиблась в своем пророчестве.
В ноябре 1917 года, во время начавшейся смуты, семейство Набоковых перебралось в Крым, а весной 1919 года эмигрировало из России. Хотя в набоковских стихах этих лет часто звучат трагические мотивы революционного хаоса, в целом к событиям общественно-исторической жизни писатель, как в годы юности, так и впоследствии, был практически индифферентен. Даже в ночь, когда большевики штурмовали Зимний дворец, Владимир сочинял очередное стихотворение, оставив в дневнике такую запись: «Пока я писал, с улицы слышалась сильная ружейная пальба и подлый треск пулемета»6. Набоков не раз открыто признавался, что его творчество «ничем не отвечает на социальные запросы современно- сти»7, а вопрос «как» для него всегда значительно важнее вопроса «что» — в этом плане художник неизменно следовал традициям «чистого», самоценного искусства.
С 1919 до 1922 года Владимир учился в Кэмбридже, а затем поселился в Берлине, публикуя свои произведения под псевдонимом «Сирин» (райская птица в древнерусском искусстве и мифологии). Берлинский этап творчества — пожалуй, самый яркий и насыщенный во всей жизни писателя. Поначалу Набоков творил преимущественно в рамках лирических (а также драматических) жанров: в конце 1922 года был издан поэтический сборник «Гроздь», а чуть позже вышла книга стихов «Горний путь». Но именно проза заставила говорить о Набокове-Сирине как о самом талантливом явлении в среде русской писательской эмиграции. Первый его роман, «Машенька», был издан в 1926 году. За ним последовали другие, в которых автор все более оттачивал свой неповторимый стиль: «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1929-1930), «Подвиг» (1931 — 1932), «Камера обскура» (1931—1932), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1935-1936), «Дар» (1937—1938). Печатались эти произведения преимущественно в журнале «Современные записки», вызывая разноречивые, порой полярные оценки критиков. «Чудовище, но какой писатель!»8 — отозвался о набоковской прозе в разговоре с Зинаидой Шаховской Иван Бунин. Сегодня «русские» романы Набокова по праву считаются шедеврами отечественной литературы, вызывая неподдельный интерес со стороны как литературоведа, так и культурного читателя.
В среде русской эмиграции Набоков держался подчеркнуто обособленно, не примыкая ни к каким течениям и литературным объединениям, неизменно превыше всего ставя дар творческой индивидуальности. Близких друзей у него практически не было. Известен случай, когда с молодым талантом решил познакомиться поближе, пожалуй, самый маститый представитель русского литературного зарубежья Иван Бунин. Встреча прошла холодно, из общения двух выдающихся писателей ничего не получилось. Как вспоминал Набоков в автобиографии «Другие берега», раздосадованный Бунин бросил фразу: «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве» (РП, V, 318). Если это и правда — сам Иван Алексеевич заявлял, что описанный эпизод целиком выдуман, — скорее всего, перед нами род психологической проекции: в отличие от Бунина, Набоков редко чувствовал себя одиноким, будучи личностью целиком самодостаточной.
Намеренная парадоксальность многих набоковских суждений, порой откровенный эпатаж в публичном поведении породили сначала в русской эмигрантской, а особенно затем в американской среде некий миф о самовлюбленном гордеце, снобе и эстете. Надо сказать, Набоков и сам последовательно этот миф поддерживал: осознавая себя Homo Ludens, он умело конструировал свою «литературную личность»9 как в многочисленных интервью, так и в непосредственном общении с критиками и представителями литературного мира. Чего, например, стоят одни его высказывания о Достоевском: «Он был пророком, трескучим журналистом и балаганного склада комиком. Я допускаю, что некоторые его сцены, некоторые из его колоссальных, фарсовых скандалов невероятно смешны. Но его чувствительных убийц и душевных проституток невозможно вынести и одной минуты» (АП, III, 585).
По свидетельству же своих родных, в семейном кругу Набоков был необычайно открытым и простым в общении человеком. Свою семью — жену Веру Евсеевну Слоним и сына Дмитрия — он искренне любил и боготворил, являя для русской культуры редкий, чуть ли не единственный пример писателя, полностью счастливого в семейной жизни. Правда, в 1937 году случился яркий краткосрочный роман с Ириной Гуаданини — есть предположение, что именно он послужил психологической основой одного из лучших набоковских рассказов «Весна в Фиальте» (1938), — но Владимир Владимирович не любил о нем вспоминать.
Сам стиль жизни писателя, его увлечения и повседневные занятия выглядели весьма необычно на фоне быта представителей русской эмиграции, особенно старшего ее поколения. Сложно представить, чтобы заработок уроками мог привлечь внимание, например, того же Бунина, Мережковского или других авторитетных фигур русского зарубежья. Набоков же не брезговал репетиторством, охотно давая уроки английского и французского языка. Он увлекался различными видами спорта, обожая не только шахматы, но также бокс и футбол. Еще в Кембридже он был голкипером студенческой футбольной команды и всегда впоследствии с восторгом отзывался об искусстве вратаря. Спортивные пристрастия Набокова свидетельствуют, во-первых, о его внимании к физическому здоровью человека, а не только душевному совершенствованию, которое привыкла пропагандировать отечественная литература. А во-вторых, оставаясь, безусловно, наследником классической русской культуры, писатель в своих увлечениях предстает, скорее, нашим современником, нежели человеком эпохи Серебряного века.
Еще одна страсть, особенно развившаяся в последние десятилетия писательской жизни, — это энтомология, а именно лепидоптерология (раздел энтомологии, посвященный чешуекрылым), в развитие которой Набоков внес весомый вклад, открыв несколько десятков видов бабочек, многие из которых были названы именами героев его произведений. «Как мог человек, столь преданный своему искусству <...> так серьезно заниматься естествознанием?» — задается вопросом автор, пожалуй, лучшего биографического исследования о Набокове Брайан Бойд10.
Если современниками Набоков-Сирин воспринимался в большей степени как яркий экспериментатор, демонстративно нарушающий традиции классической русской литературы (многие критики даже открыто обвиняли его в «нерусскости»), то сегодня связь творчества писателя с классическим наследием очевидна. «Кровь Пушкина, — утверждал он в интервью Альфреду Аппелю, — струится в жилах современной русской литературы, и с этим ничего не поделаешь — так же как с кровью Шекспира в жилах литературы английской» (АП, III, 590). Впрочем, осознавая свою преемственность по отношению к традиции, Набоков зачастую как бы переворачивает ее изнутри. В этом отношении показательно, как художником освещается одна из вечных тем литературы — тема «творческого бессмертия».
Уже упоминавшееся стихотворение «Какое сделал я дурное дело...» явно подключается к идущей еще от Горация хрестоматийной традиции «поэтического памятника»11. В сравнении с предшественниками, жаждавшими «памятника нерукотворного», речь здесь, казалось бы, идет о памятнике в буквальном смысле — мраморном изваянии («на мраморе моей руки»). Однако, вернувшись к предыдущим строкам, мы понимаем, что это метафора: монумент помещен поэтом «в конец абзаца», то есть существует целиком в плоскости творчества. И, в отличие от Державина и Пушкина12, предсказывавшим свое грядущее бессмертие «благодаря» удачно сложившимся внешним обстоятельствам, Набоков утверждает его словно «вопреки» им («корректору и веку вопреки»), что сближает его уже, скорее, с иной традицией, также намеченной в рамках жанра «стихотворения-памятника» и полемической по отношению к оригинальному варианту (ср., напр., «Мой дар убог и голос мой не громок...» Баратынского или «Моим стихам, написанным так рано...» Цветаевой).
Встречаются и более значительные и смелые отступления от традиционных моделей. По замечанию Б. Бойда, стихотворение «Слава», написанное Набоковым в 1942 году, представляет собой «антитезу традиции exegi тоnитеntuт»13.
Оттого так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе.
Я без тела разросся, без отзвука жив,
и со мной моя тайна всечасно.
Что мне тление книг, если даже разрыв
между мной и отчизною — частность?
(РП, V, 422).
Последней репликой Набоков в прямом смысле «уничтожает» всю литературу русской эмиграции, в основе которой лежит архетип мучительной ностальгии по оставленной Родине. Это в то же время и ответ самому себе — на те самые собственные строки о прощании с Россией, написанные тремя годами ранее. Правда, в уже приведенных нами последующих высказываниях Владимира Владимировича снова зазвучат ностальгические нотки, однако сделанное признание, что разлука с отечеством — лишь «частность» в масштабах космического осмысления человеческого бытия, все же необычайно знаменательно. Как бы ни важна была для писателя связь с русской культурой, вселенная Набокова гораздо шире земных пределов и противопоставление отчизны и чужбины ей по большому счету чуждо.
А главное, оказывается совершенно неважно, кто меня будет читать — вся ли «Русь великая» или единственный «далекий мой потомок»; неважно, дойдут ли мои книги до читателя, «горят» ли рукописи или «не горят» (интуитивная отсылка к мотивам булгаковского романа, о котором Набоков, безусловно, знать не мог)14 и даже существуют ли они вообще физически. Потому что путь обретения бессмертия переводится автором из сферы внешней, экстенсивной (когда бессмертие художника отождествлялось с его посмертной «славой», как это было во всей предшествующей традиции), в план целиком внутренний. Фактически материя творчества предстает для Набокова лишь физической оболочкой его идеальной нематериальной сути — эта идея, наследующая платонической философии, а также романтической и символистской концепциям искусства, не раз звучит в устах писателя и его героев.
Можно сказать, что набоковский «памятник» воздвигнут внутри авторской души, он не нуждается ни в обосновании права на существование, ни в каких-либо внешних экспликациях вообще. А само вожделенное бессмертие заключается в знании некой мистической тайны, которой обладает настоящая поэзия:
Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе
(РП, V, 422).
Эта «тайна» целиком имманентна творчеству и принципиально непереводима ни на какой иной язык. Филолог, возможно, усмотрит здесь «минус-прием» или цитату, отсылающую к излюбленному романтическому тезису «мысль изреченная есть ложь». Действительно, эстетика «невыразимого» пронизывает всю классическую русскую поэзию от Жуковского и Тютчева до Мандельштама и Пастернака. Но дело не в том, что человеческое слово не способно в точности передать Божественную истину (в дискуссиях об этом сломаны копья), а в том, что писатель чувствует внутреннюю потребность, даже необходимость о существовании этой истины сказать. «Я знаю больше, чем могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего» (АП, III, 588) — это тоже Набоков.
Тайна человеческого Рождения, Смерти, Любви, Дара, — кому даже из величайших творцов оказалось под силу до конца ее постичь? Но хотя бы намекнуть на нее, подвести читателя к той границе, за которой она скрывается, и заглянуть в бездну мироздания, наверное, считает своим долгом каждый подлинный художник. И именно уникальная способность говорить со своим чутким собеседником об этой тайне, позволяя ему за внешним стилистическим блеском угадывать отблески инобытия, — именно она и включает Набокова в сонм подлинно великих мастеров литературы.
Примечания
1 Набоков В. В. Американский период. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1999—2000. Т. 3. СПб., 2000. С. 589. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением в скобках периода творчества (АП), тома и страницы.
2 Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1999—2000. Т. 5. СПб., 2000. С. 418. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением в скобках периода творчества (РП), тома и страницы.
3 Проблемы в соотнесении дат Юлианского и Грегорианского календарей обнаруживаются, что интересно, и у исследователей (См.: Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы: Биография. СПб., 2001. С. 11, прим.; Тамми П. Поэтика даты у Набокова // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 21-30).
4 См., напр.: Урбан Т. Набоков в Берлине. М., 2004. С. 212.
5 См.: Бойд Б. Указ. соч. С. 131-132.
6 Цит. по: Бойд Б. Там же. С. 11.
7 Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Отчаяние» (“Despair”) // В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей [Т. 1]. СПб., 1997. С. 60.
8 Цит. по: Шаховская З. В поисках Набокова. М., 1991. С. 92.
9 См. об этом: Мельников Н. Г. Сеанс с разоблачением, или Портрет художника в старости // Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе. М., 2002. С. 7-47.
10 Бойд Б. Указ. соч. С. 14.
11 О традиции стихотворного «памятника» см., напр.: Жиляков С. В. Жанровая традиция стихотворения-«Памятника» в русской поэзии XVIII-XX вв.: дис. ... канд. филол. наук. Елец, 2011.
12 Кстати, пушкинское стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Набоков, вслед за В. Вересаевым, расценивал как пародийный текст. См.: Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 276.
13 Бойд Б. Владимир Набоков: американские годы: Биография. СПб., 2004. С. 53.
14 Правда, целый ряд других набоковских высказываний говорит в пользу того, что писатель, безусловно, жаждал живого контакта с читателем.