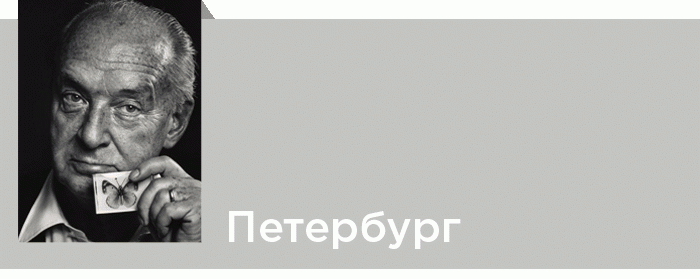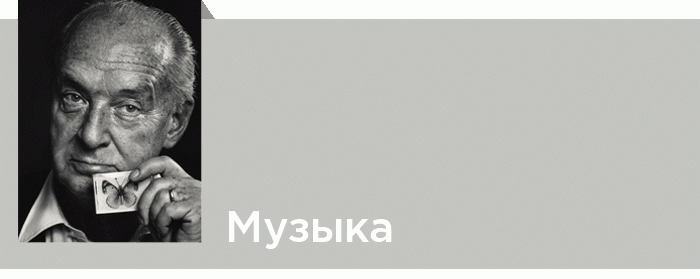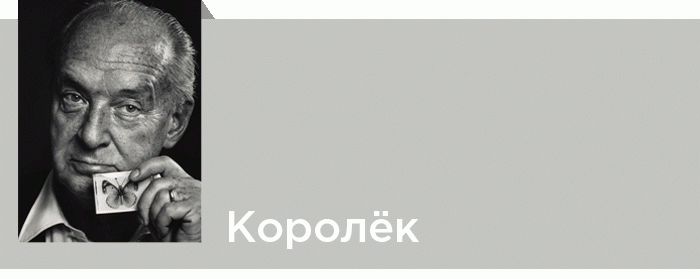Специфика субъекта повествования в «Даре» В. В. Набокова

УДК 821.161.1 Дата поступления рукописи: 22.04.2019
Клецкая Светлана Ильинична, к. филол. н.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на Дону
В статье обосновывается гипотеза о том, что в романе В. В. Набокова «Дар» повествование построено вокруг единой повествовательной инстанции («рассказчик-повествователь»), которая формально-грамматически расщепляется на рассказчика и повествователя в собственном смысле слова. Это подтверждается реальной последовательностью появления инстанций рассказчика и повествователя в «Даре», а также структурными, тематическими и содержательными особенностями романа. С учетом этого вывода предлагается осмыслять переключение между рассказчиком и повествователем событийно, как объективацию и субъективацию повествования.
Ключевые слова и фразы: Владимир Набоков; «Дар»; нарративная структура; повествователь; рассказчик.
Kletskaya Svetlana Il'inichna, Ph. D. in Philology
Southern Federal University, Rostov-on-Don
SPECIFICITY OF NARRATION SUBJECT IN “THE GIFT” BY V. V. NABOKOV
The article substantiates the hypothesis that in V. V. Nabokov's novel “The Gift”, narration is built around a single narrative instance (“storyteller-narrator”), which is formally and grammatically split into the storyteller and the narrator proper. This is confirmed by the real sequence of the storyteller's and the narrator's instances occurrence in “The Gift”, as well as the structural, thematic and content features of the novel. Taking into account this conclusion, it is suggested to comprehend switching between the storyteller and the narrator in the event-like way as objectification and subjectification of narration.
Key words and phrases: Vladimir Nabokov; “The Gift”; narrative structure; narrator; storyteller.
Одной из ярких особенностей романа «Дар» В. В. Набокова являются постоянные и неожиданные смены перспективы изложения событий, заключающиеся в свободных, непредсказуемых переключениях от повествования от первого лица к повествованию от третьего лица, и наоборот. Отвлекаясь от теоретических тонкостей, связанных с разграничением повествовательных инстанций, в дальнейшем мы будем отождествлять эти две позиции с фигурами рассказчика и повествователя, понимая под первым участника описываемых событий, а под вторым - повествовательную инстанцию, излагающую события с внешней позиции и находящуюся вне описываемого мира [9, стб. 750-751].
Важные наблюдения над этой особенностью повествования «Дара» содержатся в работах Ю. Д. Апресяна [1, с. 659], С. Блэквэлла [15, р. 60-61], В. Б. Зусевой [5], Ю. И. Левина [7], Ю. Левинга [16, р. 265-267] и др.; оригинальная интерпретация этой особенности была дана О. Ю. Осьмухиной в контексте понятия «авторская маска» [12; 13]. Тем не менее в настоящий момент вряд ли можно утверждать, что окончательное непротиворечивое объяснение этой особенности повествования в романе найдено.
Актуальность исследования обусловлена дискуссионностью существующих трактовок повествовательной структуры «Дара» В. В. Набокова, а в более широком контексте - необходимостью всестороннего анализа опыта художественной литературы XX в., который до сих пор не получил окончательного осмысления. Научная новизна исследования заключается в том, что в нем предлагается понимание взаимоотношений инстанций повествователя и рассказчика в последнем русскоязычном романе В. В. Набокова, позволяющее подчеркнуть уникальность его художественной структуры и поэтики.
Цель исследования состоит в обосновании точки зрения, в соответствии с которой повествователь и рассказчик в «Даре», будучи формально расщепленными, представляют собой единый субъект повествования. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 1) предложить терминологию, которая позволяет осмыслить единство рассказчика и повествователя «Дара»; 2) выявить содержательные, тематические, формальные признаки, которые подтверждали бы основную гипотезу данного исследования.
Предлагаемый во многих работах подход к указанной особенности нарративной структуры «Дара» является формальным: в его основе лежит сегментация текста, в результате которой мы получаем последовательность определенным образом соединенных фрагментов от 1-го лица и от 3-го лица, а также фрагментов нейтральных, не имеющих явных маркеров лица, а потому обладающих неопределенным (нулевым) лицом, или, лучше сказать, лицом, которое подверглось нейтрализации [7, с. 288]; по нашему мнению, такие фрагменты не только выполняют соединительную функцию, но и принадлежат одновременно и к плану рассказчика, и к плану повествователя. Однако формальный подход не является единственно возможным - ему можно противопоставить точку зрения событийную. В этом случае мы имеем дело не с сегментами текста, а с событиями, которые в процессе письма/чтения происходят на местах их соединения (что совершенно оправданно, поскольку для читателя «Дара» такие переключения, особенно поначалу, являются озадачивающими, неожиданными, а сама эта черта отмечается исследователями как яркая стилистическая особенность текста «Дара»). С точки зрения событийного подхода следует говорить об объективации и субъективации как повествования «Дара», которое в целом принадлежит одному субъекту, так и самой повествующей инстанции. При этом процесс объективации, то есть превращения «я» в персонажа, о котором повествуется в третьем лице, является первичным в буквальном смысле этого слова. Субъективация, то есть возвращение к изложению от первого лица, с этой точки зрения всегда вторична и представляет собой своего рода устранение первичной объективации. В итоге мы имеем своеобразную игру «я - не я», в которую постоянно «играет» автор/повествователь.
Чтобы продемонстрировать первичность объективации для повествовательной структуры «Дара», необходимо обратиться к началу текста. Роман открывается традиционным описанием: «Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с Даты, только русские авторы - в силу оригинальной честности нашей литературы - не Договаривают единиц), у Дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией» [10, с. 191]. Отличительной чертой этого вступления является его литературность (и даже металитературность, если учесть вставку, касающуюся русских и немецких романов), и это в определенной степени подталкивает к выводу, что повествование в романе ведется от третьего лица, то есть с позиции автора-повествователя.
Однако уже третье предложение показывает, что начальные фразы принадлежат не автору, а рассказчику, и это проявляется в местоимениях первого лица: «Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли Две особы» [Там же]. В конечном счете эта гипотеза оказывается вполне обоснованной, так как герой-повествователь, Федор Константинович Годунов-Чердынцев, по призванию и роду деятельности является писателем: именно писателю свойственна способность превращать то, что он видит, в эстетически изощренное описание, а потому конфликта между литературностью первой фразы и тем, что изложение ведется от первого лица, не возникает.
Тем не менее следующий абзац неожиданно вводит третье лицо: «“Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку”, - подумалось мельком с беспечной иронией - совершенно, впрочем, излишнею, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал» [Там же, с. 192]. Сама по себе структура этой фразы вряд ли свидетельствует о переключении на авторскую позицию внешнего наблюдателя: вспоминая события прошлого, персонаж вполне может привести собственную мысль как чужую, вводя ее посредством предложения (мне) подумалось. Однако предположить, что в этом предложении речь идет о каком-то другом лице, невозможно: помимо пока не названного по имени Федора, до сих пор в повествование не был введен ни один человек, который мог бы быть субъектом мысли (мужчина и женщина, встречающие фургон, описываются исключительно с внешней позиции). Следовательно, первичной является позиция рассказчика, которая затем объективируется переходом к позиции повествователя.
В «Даре» имеется огромное количество примеров, которые подтверждают формулируемую мысль. Прежде всего, между речью рассказчика (Федор) и повествователя нет стилистической разницы, о чем ярко свидетельствует проанализированное ранее начало романа. Более того, принадлежность сегментов, в которых нейтрализовано лицо, к речи и рассказчика, и повествователя оказывается возможной только потому, что эти инстанции с точки зрения стилистических речевых характеристик неразличимы. Это подтверждается также некоторыми повествовательными аномалиями. Остановимся на следующем фрагменте, который формально открывается как типичное авторское обращение: «Случалось ли тебе, читатель, испытывать тонкую грусть расставания с нелюбимой обителью? Не разрывается сердце, как при прощании с предметами, милыми нам» [Там же, с. 326]. Подобное обращение к читателю - это прерогатива автора, поскольку автор принадлежит к тому же миру, что и читатель: они оба находятся за пределами мира литературного произведения, и именно потому между ними возможна коммуникация. Однако через несколько предложений этот монолог плавно трансформируется в обращение к комнате, в которой жил Федор, в речь героя- рассказчика, и границу между ними установить, как в других случаях, нельзя: «Я бы тебе сказал - прощай, но ты бы даже не услышала моего прощания. Все-таки - прощай. Ровно два года я прожил здесь, обо многом здесь думал, тень моего каравана шла по этим обоям, лилии росли на ковре из папиросного пепла, - но теперь путешествие кончилось» [Там же]. Граница между повествователем и рассказчиком стирается, и эта двойственная фигура оказывается одновременно и вне изображаемого им мира, и внутри него. Этот пример не является единственным, ср. фрагмент из описания прогулки Федора по Грюнвальдскому лесу: «Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес» [Там же, с. 506].
В обсуждаемом контексте не менее значимой оказывается концовка «Дара», где Федор излагает замысел романа, совпадающий с замыслом романа, который читатель только что дочитал: «Теперь... он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного “романа”. “Вот что я хотел бы сделать, - сказал он. - Нечто похожее на работу судьбы в нашем отношении”» [Там же, с. 538]. Во многом эти слова являются подсказкой: за сложным переплетением описаний, размышлений, вмонтированных в текст произведений, созданных или не созданных героем, и их фрагментов даже внимательный читатель мог не заметить путеводной нити романа - истории знакомства Федора с Зиной. С этой точки зрения судьба, пережитая героем, становится материалом для романа, который он планирует написать. Первые фразы романа уже представляют собой исполнение намерения, которое Федор Константинович формулирует в его конце: «Ну, положим, - я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну... таких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии останется только пыль, - но такая пыль, конечно, из которой делается самое оранжевое небо» [Там же, с. 539-540]. Превращение героя, от лица которого ведется повествование, в героя, о котором повествуется объективно, - это одно из проявлений попытки «перетасовать» людей, места, события, лишив изображаемое как автобиографичности, так и ее видимости, и одновременно способ вовлечь читателя в игру, смысл которой станет ему понятным лишь в конце книги. Формально это проявляется как объективация «рассказчика-повествователя».
Сам Набоков указывал на кольцевую структуру «Дара»: «Последняя глава соединяет все предшествующие темы и в общих чертах обрисовывает книгу, которую Федор мечтает однажды написать, - “Дар”» [17, р. 8]. На кольцевую структуру романа «Дар» обращает внимание Н. Букс («Восстановление текста осуществляется возвратом к нему, и, перевернув последнюю страницу, читатель вновь оказывается у самого начала романа» [2, с. 180-181]); М. Липовецкий связывает кольцевую структуру с метароманной природой повествования[8, с.73] (ср. также [4, с. 133-137]); Ю. Д. Апресян проводит аналогию между структурами «Дара» и рассказа «Круг», которые к тому же связаны тематически: героиня рассказа, Таня Годунова-Чердынцева, является сестрой Федора [1, с. 663]. Б. Носик объясняет переход от рассказчика к повествователю в структуре романа тем, что в «Даре» одновременно представлены процесс сочинительства и его результат [11, с. 356].
Здесь не будет лишним упоминание о том, что кольцевой принцип лежит в основе биографии Чернышевского, одного из вставных текстов в романе (глава 4), и аналогия между структурой четвертой главы и романом в целом также подталкивает к цикличному прочтению «Дара». Биография Чернышевского замыкается в круг при помощи сонета, последние трехстишия которого находятся в ее начале, а открывающие четверостишия - в конце. «Дар» завершается стихотворением, которое не возвращает читателя к началу так же прямолинейно, хотя недвусмысленно указывает на незавершенность текста: «...и для ума внимательного нет границы - там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, - и не кончается строка» [10, с. 541]. Нанизывание слов и выражений, обозначающих конец, предел (граница, точка, черта) и преодоление этого предела (призрак за чертой, завтрашние, не кончается), определенно указывает на наличие продолжения. Завершающие строки могут быть интерпретированы как указание на то, что творческая игра не знает границ (ср. [14, с. 123]), или, в более наивном «оптимистическом» ключе, как указание на то, что «жизнь продолжается». Наконец, нельзя забывать, что Набоков работал над продолжением «Дара» [3], а потому эти слова могут рассматриваться как «обещание» второй части. Однако допустимой и даже необходимой кажется проекция этих строк на сам текст.
Заслуживает внимания следующий фрагмент заключительного стихотворения: «С колен поДнимется Евгений - но удаляется поэт» [10, с. 541]. Отсылка к Пушкину, автору «Евгения Онегина» (поэт), и главному герою пушкинского романа в стихах (Евгений) в этом случае очевидна, причем это отсылка цитатная (в конце пушкинского романа Онегин стоит перед Татьяной на коленях, а автор расстается с читателем) и формальная (завершающее стихотворение имеет форму онегинской строфы) [16, р. 263-264]. Однако возникает вопрос: какой смысл приобретает в контексте «Дара» то, что Евгений «поднимается с колен», а поэт «удаляется»? Между автором «Дара» и его главным героем, по идее, должны устанавливаться те же отношения, что и между Пушкиным и Онегиным. По всей видимости, это можно интерпретировать в том смысле, что «удаляется» автор «Дара», как бы оставляя свои полномочия, которые в силу этого переходят к герою (Федору, «Евгению»); тем самым герой обретает самостоятельность, независимость от автора и, в свою очередь, занимает место автора, становясь создателем романа, замысел которого он излагает возлюбленной (и, возможно, объективируя себя в новом образе героя-рассказчика). В самом деле, если принять, что создание «Дара» в романном мире принадлежит к будущему, ко времени, которое в романе не описывается, то закономерным оказывается вывод, что, дочитав роман до конца, читатель должен начать читать его повторно, чтобы увидеть этот замысел реализованным. Будущее (еще не написанная книга) оказывается прошлым (книгой, которую читатель только что дочитал). И именно поэтому закономерно, что «рассказчик-повествователь» в самом начале появляется как «я» и лишь затем - как «он»: «я», личный опыт предшествуют созданию текста о них. Отличие пушкинской ситуации состоит в том, что Онегин не является писателем, а потому не может написать роман, - продолжение, на которое намекает Пушкин, является чисто сюжетным.
В обсуждаемом контексте заслуживают внимания автобиографические аспекты романа «Дар». Сам Набоков в предисловии к английскому переводу «Дара» свое сходство с Годуновым-Чердынцевым отрицал [17, р. 7]. В то же время автобиографические основы романа «Дар» и отражение в нем реалий быта русской эмиграции вряд ли можно игнорировать. Федор - персонаж, максимально близкий самому Набокову [12, с. 15-16]. Он писатель и поэт, он прекрасно разбирается в бабочках; он, как и Набоков, живет в Берлине, потому что после революции в России был вынужден покинуть родину (впрочем, мотив эмиграции из России характерен для очень большого числа романов Набокова, вспомним романы «Защита Лужина», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин» и др.). Что касается общей картины, то здесь будет уместно привести свидетельство Г. Адамовича, который в рецензии на «Дар», вышедшей вскоре после первой публикации романа в «Современных записках», отмечал: «Если все же эти страницы “Дара” как-то неловко и досадно читать, то потому, главным образом, что они не только портретны, но и автопортретны: ясно, что Линев - это такой-то, Христофор Мортус - такой-то, но еще яснее и несомненнее, что Годунов-Чердынцев - это сам Сирин!..» [Цит. по: 6, с. 156], ср. параллели между персонажами «Дара» и реальными фигурами русского зарубежья у О. Ю. Осьмухиной [12, с. 16]. Этому свидетельству Г. Адамовича, который хотя и жил в Париже, но был активно включен в литературную жизнь русской эмиграции, несомненно, можно доверять, тем более что автор этой оценки располагал сведениями, которые для современного наблюдателя не очевидны.
Впрочем, степень соответствия описываемых Набоковым людей и событий реалиям жизни русского зарубежья не так важна. Жанровая природа романа может быть определена как «роман о становлении художника» [16, р. 212-213], и Набоков не мог не черпать детали из собственной биографии и своего жизненного опыта. И здесь мы опять сталкиваемся с идеей «переработки» жизненного материала, благодаря которой рождается вымысел. Параллелями такой творческой переработки жизненного материала являются примеры выхода за пределы фиктивного мира, которые осуществляются и в самом романе - в уже упоминавшейся биографии Н. Г. Чернышевского, который является абсолютно реальным историческим деятелем. Впрочем, и здесь не обходится без вкрапления вымысла, поскольку биограф Чернышевского Страннолюбский, которого Набоков неоднократно цитирует в биографии революционера, в реальности не существовал [1, с. 659; 16, p. 101]. Вымышленные персонажи населяют не только материальное, но и культурное пространство «Дара» за пределами биографии русского революционера, ср. философа Delaland, придуманного Набоковым (он упоминается также в «Приглашении на казнь»). С другой стороны, одновременно в «Даре» возникают реальные литературные имена, например М. Алданов [10, с. 407], И. Бунин [Там же, с. 524], причем последний - как лицо, которое хвалит биографию Чернышевского. Граница между вымышленным и реальным, пусть даже преображенным воображением и личностными оценками автора, размывается, подводя к предположению о том, что в романе не все является абсолютным вымыслом, хотя в нем и не стоит видеть скрытое изображение реальных лиц и событий, а тем более «правду».
Но и эти моменты вряд ли являются определяющими. Дело в том, что типично действие литературного произведения разворачивается в реальном мире, а потому вбирает в себя его компоненты (например, географические и топографические детали, реальных людей), а в более широком смысле использует явления мира в качестве «строительного материала». В «Даре» реальный пласт представлен чрезвычайно широко: это и Берлин, в котором живет Федор Константинович, и политические деятели того времени, которые мельком упоминаются, и Россия в том виде, в котором о ней вспоминает главный герой. При этом такое положение воспринимается как нечто для литературы естественное: протекание действия в мире вымышленном является с этой точки зрения значимым отклонением, о чем свидетельствует то, что именно оно служит для выделения отдельных жанров (ср. утопию, фэнтези). Приведенные выше соображения, касающиеся автобиографичности «Дара», важны как доказательство «переработки» жизненного материала в вымысел - темы, которая, если судить по замыслу Федора, является для «Дара» ключевой. Но если в традиционном литературном произведении переработка реальности в вымысел происходит «по умолчанию», то в романе Набокова этот процесс подвергается рефлексии - в этом состоит специфика «Дара», как, впрочем, и некоторых других метароманных повествований.
Таким образом, говорить о фигурах рассказчика и повествователя в традиционном понимании в «Даре» вряд ли возможно: будучи противопоставленными грамматически, с точки зрения других значимых качеств - прежде всего, стиля и осведомленности, а также способов соединения манифестирующих их фрагментов в тексте - эти две фигуры образуют единую повествовательную инстанцию («рассказчик-повествователь»), которая лишь формально расщепляется на рассказчика и повествователя. В таком случае процесс переключения между ними должен осмысляться как объективация (рассказчик превращается в повествователя) и субъективация (повествователь трансформируется в рассказчика), причем первичной является объективация, создание персонажа из «я». В более широкой перспективе такое понимание соприкасается с характерной для «Дара» темой вымысла, который творит себя из материала жизни, и причудливого смешения вымышленного и реального, которые взаимно проникают друг в друга.
Список источников
- Апресян Ю. Д.Роман «Дар» в космосе Владимира Набокова // Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2-х т. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. С. 651-694.
- Букс Н.Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах В. Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 1998. 208 с.
- Грейсон Дж.Метаморфозы «Дара» // Набоков: pro et contra / сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина; комментарии Е. Белодубровского, Г. Левинтона, М. Маликовой, В. Новикова; библиогр. М. Маликовой. СПб.: РХГИ, 1997. С. 590-635.
- Давыдов С. С.«Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб.: Кирцидели, 2004. 158 с.
- Зусева В. Б.Жанровая структура романа В. Набокова «Дар» [Электронный ресурс].
- Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: критические отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 688 с.
- Левин Ю. И.О «Даре» // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 287-322.
- Липовецкий М.Эпилог русского модернизма: художественная философия творчества в «Даре» Набокова // Вопросы литературы. 1994. № 3. С. 72-95.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий/ под ред. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. 1600 стб.
- Набоков В. В.Собрание сочинений русского периода: в 5-ти т. / сост. Н. Артеменко-Толстой. СПб.: Симпозиум, 2002. Т. 4. Приглашение на казнь. Дар. Рассказы. Эссе. Рецензии. 784 с.
- Носик Б.Мир и дар Владимира Набокова. М.: Пенаты, 1995. 562 с.
- Осьмухина О. Ю.Маска в культурно-художественном сознании российского зарубежья 1920-1930-х гг. (на материале творчества В. В. Набокова): автореф. дисс. ... к. культурологии. Саранск, 2000. 18 с.
- Осьмухина О. Ю.Русская литература сквозь призму идентичности: маска как форма авторской репрезентации в прозе ХХ столетия. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. 288 с.
- Стрельникова Л. Ю.Поэзия как свободная игра вымысла в романе В. В. Набокова «Дар» // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2016. Т. 2. № 4. С. 123-130.
- Nabokov V.The Gift / transl. from Russian by M. Scammel with the collab. of the author. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1963. 346 p.
- Blackwell S. H.Zina's paradox: The figured reader in Nabokov's “Gift”. N. Y.: Peter Lang, 2000. 215 p.
- Leving Y.Keys to “The Gift”: A Guide to Nabokov's Novel. Boston: Academic Studies Press, 2011. XVII+534 p.