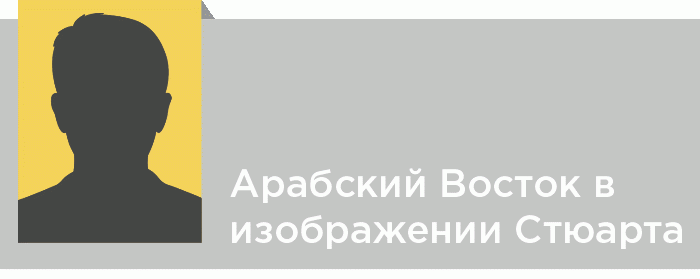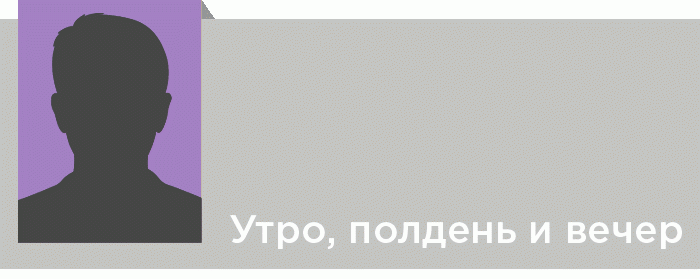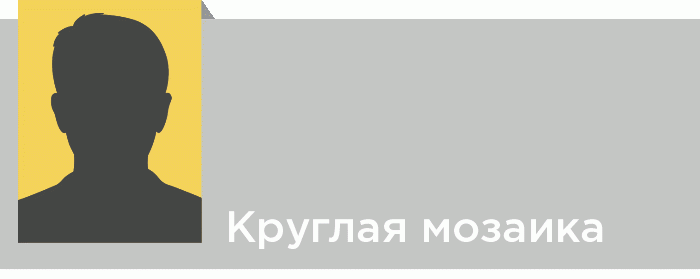Десмонд Стюарт. Неподходящий англичанин

(Отрывок)
I
Запыленный автомобиль резко тормозит, вздымая облако пыли; пыль оседает на волосах, забивается в ноздри. Темнокожий полицейский, бросив взгляд на водителя, перелистывает засаленные документы. Морщинки у глаз полицейского припудрены пылью; башмаки и: обмотки — цвета пыли.
- Имя?
- Сулейман Юсуф.
Подложив синюю копирку, водя справа налево тупым карандашом, полицейский делает первую запись.
- Откуда?
- Из Аммана.
- Куда?
- В Цирополис, если пожелает Аллах.
- Контрабанду везешь? Нейлон, спиртное, автопокрышки?
- Аллах свидетель, ничего такого нет.
- Семь пиастров за гербовую марку.
Монеты переходят из рук в руки.
- Поезжай с миром.
Одни и те же вопросы, одни и те же ответы — и так весь день и ночью при свете фар. Разница лишь в том, что водителя могут звать Юсуф Сулейман или Сулейман Юсуф, Мухаммед Али или Али Мухаммед и говорит он по-арабски, а не по-английски. В остальном все разговоры похожи на этот как две капли воды. Изредка бывает обыск. Еще реже что-нибудь находят и конфискуют; тогда возникает перебранка: все кричат, пока не подойдет следующая машина. Иногда подъезжают автомобили со знаком дипломатического корпуса; надменные водители с небрежной миной предъявляют документы. Порой громыхают автобусы с паломниками, кочующими по святым местам. Персов всегда можно отличить по ржаво-красным от хны бородам, которые пылают даже под слоем пыли; пакистанцев — по длинным до колен белым рубахам и круглым барашковым шапкам дымчатого цвета. Так часто проезжают здесь иностранцы, что в деревне уже давно никто не интересуется, куда едет грузовик или лимузин, кто в нем сидит. Любопытство может возбудить только совершенно исключительная личность: принц, цирковой артист или человек вроде того парня, что приехал сегодня утром.
И на всю эту унылую деревню только два дерева, два высоких эвкалипта. Они стоят в шести ярдах один от другого; кроны их покрыты вечным слоем пыли. Над глинобитным приземистым зданием, в котором разместилась таможня и полиция, неподвижно висят скучные, словно из фольги вырезанные, листья, а когда налетает легкий ветерок, они звенят, как украшения на рождественской елке. По вечерам, при свете электрических ламп, эта блеклая зелень навевает мысль о тенистых прибрежных кафе в далекой столице. И люди, обреченные нести службу на пограничном посту, вспоминают, что жизнь бывает прекрасна, что на свете существует любовь. Это напоминание необходимо, ибо на двести миль вокруг простирается пустыня, плоская безжизненная пустыня, только пустыня, пустыня, пустыня... Местами, словно пресыщенная собственным однообразием, она вдруг вздымается барханами или проваливается неожиданным ущельем. Но нигде ни признака жизни, повсюду только камень да песок.
Два дерева, здание таможни и чайхана стоят в конце кривой деревенской улочки, дома которой неприветливо косятся на проезжих. Двери здесь будто вовсе не открываются: сделанные из проржавленного рифленого железа они всегда наглухо заперты. В глинобитных стенах не видно окон. Можно подумать, что люди попадают в собственный дом через крышу. Женщины в длинных черных чадрах, завидя мужчину, прячут лица.
Жители этой деревни, скрытные и молчаливые, занимались мелкой контрабандой и нисколько не тосковали по городам, которых они и не видели. Ничто здесь не напоминало о границе. Линия границы обозначалась только на иностранных картах; впрочем, карты непременно отмечали этот единственный в стомильном квадрате «населенный пункт с двумя колодцами». При въезде в деревню когда-то установили деревянный шлагбаум. Но со временем доски покоробились и растрескались от жары, и шлагбаум не закрывался. Пустыня из спекшегося песка лежала ровная, как теннисный корт, — в деревню можно было въехать с любой стороны. От полицейского поста разбегались белые следы машин; казалось, куда ни пойди — на восток, на север — всюду найдешь жизнь. Но стоило человеку свернуть с единственной узкой дороги, и его находили через некоторое время обезумевшим от зноя и обнажённым: он срывал с себя одежду в неистовом желании обрести прохладу. Иногда находили только останки — скелет, обтянутый кожей, и череп с зияющими глазницами.
Чайхану сколотили из пустых банок, брошенных армейскими частями, которые строили эту дорогу. Черные, липкие, воняющие машинным маслом жестянки валялись повсюду. В этой нищей стране любые отбросы шли в дело.
В дверях чайханы появился человек в рваном военном кителе, наброшенном поверх свободной арабской рубахи. Он вынес фонарь и принялся неторопливо осматривать стоящий возле двери мотоцикл. Потрогал комбинезон на сиденье, стер от нечего делать пыль с фары, потом вернулся в чайхану, где в углу, растянувшись на грубой деревянной скамье, спал юноша — владелец комбинезона. Так спят после бессонной и изнурительной ночи. Свет фонаря ярко осветил его лицо, совсем еще юное. На вид ему было лет двадцать или девятнадцать. Щеки выпачканы машинным маслом, нечесаные волосы спутались. Человек, зевавший возле жаровни, где кипятился чайник, встал и подошел к арабу, который держал фонарь. Вместе они принялись разглядывать спящего. Полные губы, лицо хотя и не арабское, но и не похоже на те европейские лица, которые они видят здесь ежедневно. Нет, это не дипломат, не технический советник и не учитель. Ни одной неприятной черты, ничто не говорит о скрытности или жадности. Юноша спал безмятежно, словно не ожидал ничего дурного: не волновался ни за свою жизнь, ни за свой кошелек. Однако лицо его не было тупым, вечно недовольным лицом иностранного солдата, отбывающего здесь службу. Нет, не тупое лицо, но и не простое. Скорее всего — бесхитростное. Хотя для потомка норманнов, пожалуй, чересчур уж пышет здоровьем. А руки! Они, наверное, очень сильные, эти тяжелые руки; такие руки неспособны обидеть даже котенка.
Человек с фонарем сказал неуверенно:
- Это англичанин.
- Не может быть, пророк свидетель. Так одет!
- А ты погляди на руки. Разве это руки араба? И лицо белое. И разве по-арабски он говорил утром, когда приехал?
- Аллах свидетель, он приехал до того усталый, что вообще не разговаривал. Может, он с Кавказа? Его мать, наверное, с Кавказа — там у людей светлые волосы. Нет, он не англичанин. Англичанин не стал бы носить такую грязную одежду. Разве что шпион.
- Зачем шпиону ехать на мотоцикле?
- А может, он сумасшедший? Ведь сумасшедшие англичане тоже бывают.
- Да помилует его Аллах. А ведь он красивый.
- Что так то так.
Они изучали лицо спящего с обстоятельностью, какую могут позволить себе люди, которым нечего делать и некуда спешить. Потом, когда фары приближающегося грузовика осветили чайхану, тот, что был пониже, вернулся к жаровне: кто бы ни ехал, его надо напоить чаем. Второй стал легонько трясти спящего, пока юноша не открыл глаза. Но и тогда спокойное выражение не покинуло его лица.
Он приподнялся на локте и весело улыбнулся разбудившему его человеку, который сказал по-арабски:
- Солнце село два часа назад. Вам пора.
Арабские слова были произнесены медленно и отчетливо, словно так они станут понятнее чужеземцу. Но чужеземец ничего не понял; зато он ощутил ночную свежесть, увидел недавно приехавшего шофера, сидящего на корточках перед чайником, потом взглянул на часы и решил, что ему пора в путь. Он встал, потянулся и, пока ему готовили чай, вышел во двор, где возвышались два эвкалипта.
Воздух был необычайно чист и свеж; он пил его, вздрагивая от прохлады. Огромные одинокие звезды висели высоко над головой в студеном, как горный пси ток, черном небе. Несколько мгновений молодой человек стоял неподвижно, вспоминая прошлую ночь, когда сквозь такую же прохладную тьму он мчался из Дамаска через горы, которые отделяют эту плоскую пустыню от Средиземного моря.
- Правильно я сделал, что приехал сюда. А если и нет, то будет правильно, — подумал он вслух. — Да, я прав — ради одних этих звезд стоило ехать!
Он снял с сиденья мотоцикла тяжелый комбинезон и натянул его. Погруженный в ночь мир остывал, как брошенная в воду раскаленная монета. С утра пустыня задыхалась от зноя. А сейчас казалось, будто где-то неподалеку бегут студеные ручьи, где-то рядом лежат ледники. И в воздухе аромат — едва уловимый, но сохраняешь его в памяти долго-долго. Кругом — безмолвие. Где-то завыла собака, и огромная тишина, укрывшая деревушку и дорогу, по которой ему предстояло ехать, стала еще более непроницаемой.
Он вернулся в чайхану, неуклюжий и громоздкий в своем широком комбинезоне. Араб-чайханщик встретил его, словно доброго друга после разлуки. На стол, сколоченный из досок старого ящика, с которых еще не стерлось клеймо всемирно известной сахарной фирмы, он поставил яичницу из четырех яиц и положил большую круглую лепешку, посыпанную тмином.
- Тафаддал, — сказал араб, показывая на стол. — Ешьте.
В чайхану вошел третий араб. На нем ладно сидела темно-зеленая форма полицейского чиновника: элегантный мундир из дорогого материала, фуражка с черным околышем, погоны, черный галстук. Но деревня была захолустная, время ночное, и потому вместо форменных башмаков он носил деревянные сандалии. Лет тридцати, смуглый и красивый, он был, видимо, склонен к полноте; выражение недовольства, которое постоянно сохраняло его лицо, исчезало только, когда он улыбался.
- Садитесь и отдыхайте. Эти люди хотят вас как следует накормить перед дорогой. Я здешний переводчик. — Он улыбнулся. — Вам предстоит долгое путешествие, слишком долгое для человека без автомобиля.
Молодой англичанин принялся за яичницу. Ни вилки, ни ножа под рукой не оказалось, но он управился и без них: оторвал кусок лепешки и свернул наподобие совка.
- Пива? Хотите пива?
- Нет, спасибо, мне далеко ехать. От пива меня клонит ко сну, а я и без того люблю поспать. Спасибо. Далеко еще до столицы?
Недовольное выражение исчезло с лица полицейского; молодой человек говорил так дружелюбно, что невольно располагал к себе. Усевшись рядом на перевернутый ящик, чиновник тонким пальцем начертил на запыленной поверхности стола карту Ближнего Востока.
- Вот здесь, — сказал он, замыкая большую петлю, - Белое Серединное Море, которое вы называет Средиземным. Здесь Иордания и Сирия, откуда вы приехали, так? А вот и Мидия.
Он набрасывал линии легко и точно; заштриховал горы наверху справа, на юге второй петлей обозначил еще одно море.
- А это наш король. — Он доверительно указал на засиженную мухами фотографию серьезного юноши. Портрет висел над рекламным плакатом кока-кола. — Место, где мы с вами находимся, — контрольный пункт, вам предстоит покрыть миль двести, может, и все двести пятьдесят, пока вы доберетесь вот сюда: это первый город, — Он нарисовал точку рядом с клеймом сахаропромышленника. — Дальше дорога пойдет по зеленой равнине, и, если вам повезет, через два часа вы увидите Оронту, а потом и Цирополис; после наших мест он вам покажется раем.
Когда он заговорил о столице, темные глаза его заблестели, в голосе послышались вожделенные нотки.
- Как бы мне хотелось уехать с вами! — сказал он. — Экзамен я сдал отлично, хорошо владею английским, а что в награду? Служба на границе — и все потому, что решили: «Может объясняться с иностранцами». Какие здесь иностранцы? Не задерживаются и пяти минут. Для городского человека просто невыносимо, когда не с кем поговорить. — Казалось, он вот-вот расплачется.
Англичанин сосредоточенно ел яичницу и рассматривал карту. Араб подкачал баллон фонаря, и в ярком шипящем пламени расстояние на карте между чайханой и городом казалось не очень большим. Желая приблизить далекую столицу, полицейский мысленно подсократил его.
- А между ними — ничего?
- Ничего.
- Ни одной заправочной станции?
Какой славный молодой человек и какие забавные вопросы он задает! Обнажив белые зубы, полицейский заулыбался: он знал, что его улыбка обаятельна.
- Дорогой мой, мы не в Европе.
- А что делать, если случится авария?
- Как правило, никто не пускается в такое путешествие на мотоцикле. В случае чего вас подберет попутный грузовик. Я скажу о вас всем проезжающим, — они выручат.
Арабы не понимали, о чем идет речь. С тем большим интересом они прислушивались. Тот, кто держал лампу, перебирал пальцами патроны в патронташе, другой — возле чайника — нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Чиновник понимал их любопытство, и, когда англичанин поддел на лепешку последний кусок яичницы, он, наконец, решился прямо спросить о том, что занимало его весь день, что заставило оторваться от дел и бумаг; ответ на этот вопрос бедные арабы приняли бы как плату за гостеприимство. Ведь, кроме него, никто здесь не говорил по-английски, — удовлетворить их любопытство было его долгом.
- Вы работаете в МНК, сэр?
- Где?
- В Мидийской нефтяной компании. Это английское предприятие. Там работает немало молодых людей из тех, кто любит приключения.
- Я не служу ни в одном английском предприятии.
Англичанин попросил принести воды, тщательно вымыл свои тяжелые, сильные руки и вытер их носовым, платком. Вычищать машинное масло из-под ногтей он не стал.
- Есть у вас работа?
- Нет. Пока нет.
- Но будет? Вы англичанин, вы получите самую лучшую работу. — В его словах прозвучала горечь.
- Работать придется. Ведь надо что-то есть.
Лицо полицейского приняло прежнее недовольное выражение. Англичанин не хочет отвечать прямо, значит, не следует быть слишком доверчивым — это может навредить карьере. Он помолчал, затем безразличным тоном спросил:
- А зачем вы сюда приехали, сэр?
Англичанин ответил не сразу, но он и не рассердился на араба за любопытство. Наморщив лоб, он взвешивал и оценивал: а ведь действительно, зачем? Вдумывался он так напряженно, будто до сегодняшнего дня этот вопрос у него не возникал. Он отлично понимал, что вопрос этот вполне естественный, что люди ожидают от него ответа с того самого момента, как, усталый и запыленный, он появился здесь. Знал и другое: ответить он не сумеет. Что его гонит? То ли неизъяснимое беспокойство, тяга к перемене мест, то ли ужас перед одинокой старостью, когда нечего вспомнить и остается только прожинать свою пенсию, сидя у приемника. А люди путешествуют! Некоторых он знал сам, о других слышал. Кто едет недели на две в Париж развлечься; иные отправляются в Италию изучать искусство. Еще мальчишкой он испытал жажду странствий и тотчас решил удрать. Прихватив самое необходимое, он сбежал из дому. Скитался неделю или дней десять, ночевал в стогу с людьми, повстречавшимися в дороге.
- Почему я приехал именно сюда? — произнес он вслух. — Может быть, виноваты книжки, которых я начитался еще в детстве. А может, один парень — я чинил его автомобиль в гараже у дяди. Парень этот был из здешних мест. Мы ходили с ним в кино, и он много рассказывал о вашей стране.
- И отец отпустил вас?
- У меня нет отца, он умер.
- А кем он был?
- Не знаю. Кажется, моряком.
Он замолчал, а полицейский, вдруг забыв о своих подозрениях, продолжал расспрашивать:
- И вы приехали сюда просто так? Посмотреть нашу страну?
- Да, просто так:
Обычно англичане приезжают сюда делать деньги, — сказал полицейский.
- Вот как? — совершенно искренне удивился англичанин.— А я и не рассчитывал заработать больше, чем нужно на жизнь. По дороге я потратил все. Без работы мне не обойтись.
- У вас есть диплом?
- Диплом? — недоуменно спросил молодой человек.
- Я имею в виду диплом какого-нибудь колледжа.
- Я не учился в колледже.
Полицейский инспектор ослабил узел галстука и закурил сигарету. Молодой человек ему нравился. Хотелось принять юношу как гостя, поехать с ним, показать страну. Он перебирал в уме все, что показал бы англичанину, все новое, современные кинотеатры, почту, аэропорт, большой вокзал, и в то же время с горечью думал, что есть вещи, которые он показывать не решился бы.
- Хотел бы я поехать с вами, показать вам страну.
Пора было кончать разговор. Становилось поздно.
Сквозь кривые, как паучьи лапы, ветви эвкалиптов просвечивала луна. Показались фары приближающегося грузовика, послышался гул мотора.
- Ночное время надо беречь, — сказал англичанин, выкатывая мотоцикл на дорогу. Он хотел расплатиться, но, как ни упрашивал, денег у него не взяли.
- Они говорят, что вы гость, что ваш приезд для них — честь. Они не могут принять от вас плату.
Два араба в потрепанной одежде и подтянутый полицейский вышли из чайханы, чтобы проводить юношу мимо запертых уснувших домов, мимо лающих собак, туда, где начиналась пустыня.
- А хватит у вас бензина?
Бензина хватит; вот одежды маловато. — И он показал на привязанные к мотоциклу бензиновые канистры и небольшой вещевой мешок.
Полицейский засмеялся и похлопал его по плечу. Арабы стояли молча. Молодой человек уселся в седло и толкнул педаль стартера. С третьего раза мотоцикл завелся. Вспыхнувшие фары вырвали их темноты длинную серебряную полосу дороги. Какой-то маленький зверек — обитатель пустыни, похожий на крохотного кенгуру, мелькнул в луче. Англичанин повернулся и всем пожал руки.
- Фиманулла!
- Маа салами!
- До свиданья!
Офицер положил ему руку на плечо.
- Возможно, у меня будет отпуск, и я приеду в город. Как вас зовут?
- Джейсон.
- А меня — Салах эд-Дин.
- Надеюсь, мы еще встретимся.
- Надеюсь.
И, хотя инспектор знал, что отпуск нескоро, эта далекая возможность почему-то обрадовала его. Англичанин включил скорость, надвинул на глаза очки и тронулся с места. Отъезд был простым и обыденным, но Джейсон вдруг испытал чувство, какое возникает перед прыжком с трамплина в воду или на скачках перед заездом, когда рискуешь недельным заработком. Цель неясная ему самому, новые места, названия которых он не умел произнести, и люди, пока еще для него чужие, — все это влекло вперед. И лишь волнующее чувство опасности было уже знакомо — рисковать он любил всегда.
Сейчас, когда темнота сомкнулась, а ощущение огромной пустоты охватило его, он вспомнил высокую кирпичную стену вокруг фабрики, вспомнил, как четырехлетним мальчиком он ходил мимо этой стены, мимо маленькой лавки, где продавались жевательная резинка и газеты, на пустырь, заваленный всяким хламом. В свое время он с восторгом обнаружил эту свалку. С таким же восторгом он впоследствии катался на велосипеде, разыскивая, а иногда и открывая такое, чему он сразу и не мог подыскать названия. И всегда не без риска. Именно риск придавал прелесть приключениям. Скопить денег и вложить их все в безразличную лапу букмекера, чтобы купить десяток минут азарта, чаще ведущего к проигрышу, чем к удаче, — такой риск казался ему товаром более стоящим, нежели все, чем торгуют магазины.
Как-то, когда ему исполнилось шестнадцать, он отправился в Ливерпуль, катался на трамваях, автобусах, на попутных машинах по городам и предместьям Северо-Восточной Англии. Однажды его застиг холодный осенний туман — соленый, пропитанный дымом. Было около семи вечера, серые громады зданий светились красными четырехугольниками окон, из порта доносились хриплые, тревожные гудки пароходов. Он никого не знал, он был совсем чужим в этом охраняемом военными патрулями городе, никому не нужным, как пустая сигаретная коробка в грязном корабельном трюме. И вдруг из-за какой-то двери до него донеслись звуки рояля. Эта дверь сулила тепло, но за ней могла таиться и опасность. Толкнув услужливую, открывающуюся в обе стороны дверь, он нашел за ней только опасность. До сих пор он не забыл того матроса, который лукаво ему улыбнулся, прежде чем свалить ударом кулака. Со странным волнением вспомнил он, как потом, в полицейском участке, не мог заснуть — но не от боли, а от потрясения — и все время задавал себе один и тот же вопрос: «Почему он меня ударил? Почему он сначала улыбнулся мне, а потом ударил?»
Долго еще стояли три араба, вглядываясь в убегающие огни мотоцикла. Наконец потерявший терпение водитель грузовика выругался, нажал сигнал и растревоженные собаки залились оглушительным звонким лаем.
- А я бы, пожалуй, не решился ехать один целую ночь, — проговорил чайханщик. — И не потому, что боюсь джиннов, а просто как-то жутко.
- Если есть на свете джинны, — заметил полицейский, — они сами его испугаются. Он хороший парень. Только не будет ему у нас счастья.
И он печально покачал головой, все еще сожалея, что не смог поехать вместе с англичанином, показать ему все хорошее и уберечь от дурного.
II
В Цирополисе зазвонили телефоны. Из дверей, зевая, стали появляться люди в пижамах. Они садились на пороге, наблюдая, как другие делали то же самое. Днем жители Мидии прятались от солнца и заботились о делах торговых. Вечером, когда спадала жара, они становились предприимчивыми, обнаруживали недюжинный темперамент.
Сильвия Флодден наполнила ванну. Хью Флодден развлекался гантелями, чувствуя, как напрягаются мускулы на волосатой груди. Он заглянул в ванную.
- Фигура у тебя божественная. И морщин на лице нет; а ведь это предсказывали тебе друзья.
- Актеры все завистливые, — сказала она, держа над водой журнал. — Становятся такими, перебегая из одной меблирашки в другую.
- Новый «Тэтлер»? Ты замочишь его.
Бросив гантели в ящик с грязным бельем, он забрал журнал. А она, спокойно лежа в ванне, размышляла: «Ну, для чего мне красивое тело, если его никто не любит?» Она не думала об измене, просто хотела быть любимой. Где-то в подсознании родилась мысль о бегстве.
Около семи в одно мгновение белый ослепительный ужас прекратился. Серые и фиолетовые полосы пробежали по небу; наступила ночь. Торговцы покатили свои тележки на перекрестки, туда, где прогуливалась толпа. Вдоль берега Оронты зажглись костры; над ними жарилась рыба, тушились палочки кебаба на древесном угле. Ночь была прохладной и пахла пряностями.
Миссис Кротт из Кройдона, сидя в своем бунгало за мартини, сказала мужу:
- Я опять поймала Махмуда: он крал сахар. Никому из них нельзя доверять.
- Сама виновата, надо запирать. Запри и выдавай по ложке.
Люди кричали, смеялись, пели.
Неистовство слышалось в резких отчетливых звуках: в шипении поезда, прибывшего из Стамбула, в грохоте колес по железному мосту, в мелодичных гудках комфортабельных автомашин, в призывах муэдзинов, в свистках полисменов. Зажглись огни в мечетях; сквозь арочные входы видно было, как мужчины снимали обувь или, присев на корточки, беседовали с друзьями.
Пробираться сквозь толпу становилось все труднее. Толчея у кинотеатров напоминала вокзальную сутолоку. Американские кинозвезды улыбались прохожим с огромных афиш. Торговцы шумно расхваливали товар. Грохот не прекращался ни на минуту. Около восьми картина внезапно менялась. Пустели улицы. Таяли толпы. Лоточники не так настойчиво приставали к прохожим. Приткнулись к тротуарам бьюики и кадиллаки. Смолкли молитбы. Заполнились кинотеатры. Только кинозвезды по-прежнему улыбались, глядя на обезлюдевшие улицы.
В кафе, на набережной и на улицах города, все столики были заняты. Ночную жизнь отличали свои, особые звуки: щелканье деревянных фишек, которыми играли в нарды, приглушенный голос певца в репродукторе, смутный говор. Каждая незатененная лампочка привлекала мириады легкокрылой мошкары; дрожащий свет падал на чувственные лица мужчин, на восточную одежду, на поношенные европейские костюмы, оттенял живые глаза и полные губы.
Женщинам Мидии ночь приносила свои заботы. В домах за высокими стенами, за железными воротами, стерегущими маленькие дворики, они либо сами готовили пищу, либо присматривали за прислугой у плиты. Видеть их было нельзя, — об их жизни можно только догадываться. Лишь те, кого считали безнравственными, пили вместе с мужчинами в шумных варьете и ресторанах.
Для Каримы Карим наступившая ночь была так же прозаична, как утро будничного дня в посольстве для Хью Флоддена. Пора было приниматься за работу.
- Какое платье, голубка?
- Дай черное. Терпеть не могу красных и голубых, хотя они почему-то всем нравятся.
- Что ни надень, ты будешь лучше всех, — с восхищением сказала Кариме старуха-служанка, и в голосе ее прозвучала горечь: когда-то и она носила красное и голубое.
Один из районов города, Галлерхия, был надежно изолирован высокой кирпичной стеной. Десяток кривых переулков — настоящий лабиринт — образовывал «гетто любви». Внутрь вел один вход — небольшая калитка. Подобно пчелам, вьющимся возле улья, здесь теснилась очередь мужчин. Двое полицейских обшаривали каждого: нет ли в кармане ножа, купленного, чтобы омыть кровью пятно позора с обесчещенной семьи. Тут же стояли двое здоровенных патрульных. Они осматривали волосы — не подстрижены ли коротко, по-военному, ботинки — не солдатские ли? Около калитки висел телефон, соединенный с больницей: ни в одном районе не происходило столько несчастных случаев и убийств. А за стеной, даже не причесываясь после очередного визита, тяжело спускались по ступенькам своих маленьких домиков женщины.
- Отдай динар, Мариам. Я его выиграла, и
- Ах ты, мерзкая потаскуха! Нет у меня денег.
- Я видела, он дал тебе полдинара, а еще утром у тебя было два.
- Аллах свидетель, ты лжешь.
- Перестаньте ссориться. Довольно того, что мы терпим от мужчин, не хватает еще драться между собой. Проходите, паша, сюда, пожалуйста.
Здесь были женщины всех национальностей; женщины самой разнообразной красоты. В дешевых ярких платьях, обтягивающих бедра, сидели они на ступенях, почесывая свои тяжелые груди, и лениво говорили о мужчинах, а когда говорить было не о чем, обмахивались пальмовыми листьями. Где-то играл патефон. Ритмичная, чувственная музыка подогревала кровь. Уличные торговцы и тут сновали со своими лотками. Но не их товар был здесь главным.
Женщины уходили спать только после полуночи, когда запиралась калитка. Тогда, обессиленные, они поднимались на маленькие плоские крыши и ложились под звездами на железные койки, ложились всего на несколько часов, потому что восходящее солнце снова провожало их вниз. Они лежали и шепотом рассказывали друг другу о своем прошлом. Сейчас это были самые обыкновенные женщины.
- Когда-то я была совсем, как Карима, может, чуть полнее. Мужчины приезжали за много миль полюбоваться. Особенно шейхам я нравилась — тогда я могла привередничать и выбирать. Не заболей я в тот год, быть бы мне сейчас в Каире. Но Карима тоже когда-нибудь попадет сюда.
Женщины спали до рассвета, пока их не будил призыв муэдзина: «Молитва лучше, чем сон». А в эти часы под деревьями за столиками, покрытыми белыми скатертями и заставленными бутылками, сидели с друзьями задумчивые мидийцы. Среди них был и Дари Селман. Эти люди видели страдания и бедность своих земляков, знали, какой была и какой стала Мидия; они ненавидели англичан, капиталистов, сионистов и даже самих себя.
Произведения
Критика