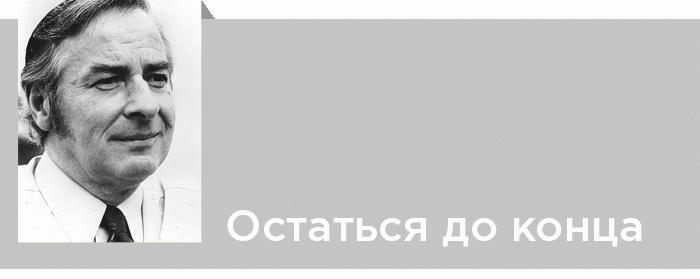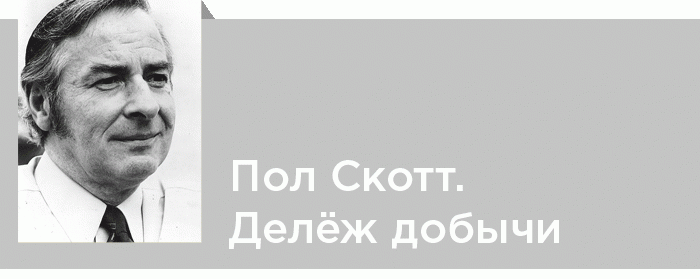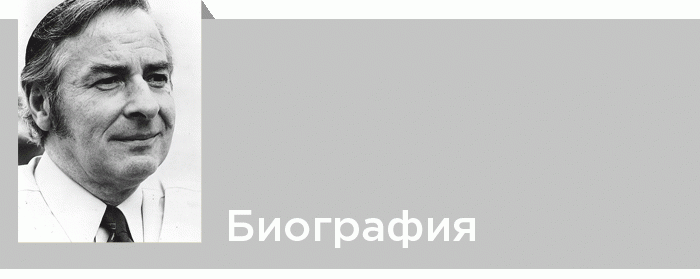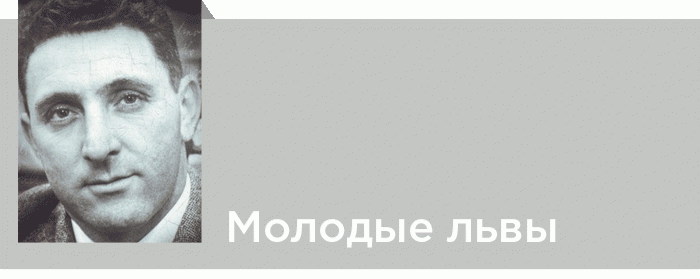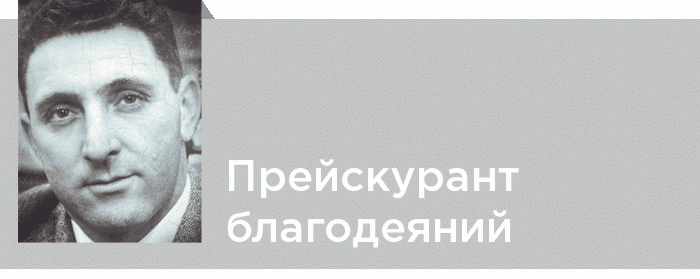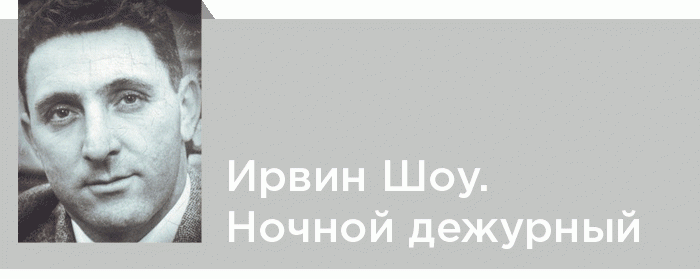Пол Скотт. Жемчужина в короне
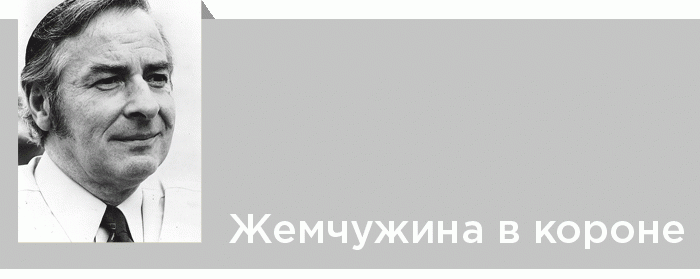
(Отрывок)
Часть первая. Мисс Крейн
Итак, представьте себе плоский ландшафт, пока еще темный, но у девушки, бегущей в совсем уже черной тени от стены сада Бибигхар, вызывающий то же ощущение огромности, бескрайности, какое за много лет до нее испытала мисс Крейн, стоя в том месте, где кончалась улочка и начинались возделанные поля, — ландшафт был другой, но та же была плодородная, намытая реками равнина, что раскинулась между горами на севере и сухим плато на юге.
Всего несколько часов назад, между ливнем и короткими сумерками, ландшафт этот вобрал все цвета спектра из заходящего солнца и окрасил ими каждую из своих граней, способных поглощать свет, — желтые стены домов в туземном городе (хранящие там и сям еще и темные следы кровавого прошлого и неспокойного настоящего); вечно движущуюся воду реки и неподвижную воду искусственных прудов; блестящую стерню и вспаханную землю далеких полей, щебенку шоссе. Деревьев в этом ландшафте почти не увидишь, кроме как вокруг белых бунгало европейских кварталов. На горизонте мутно лиловеют горы.
Это будет повесть об одном изнасиловании, о тех событиях, что привели к нему, и тех, что за ним последовали, и о месте, где оно произошло. В ней есть сюжет, действующие лица и место действия; все это тесно переплелось, но в совокупности не может быть изображено вне связи с непрерывным потоком изменчивых нравственных оценок.
По делу о происшествии в саду Бибигхар несколько человек было арестовано и проведено расследование. Судебного процесса в строгом смысле этого слова не было. Впрочем, с тех пор разные люди говорили, что какой-то суд все же состоялся. Эти люди даже утверждали, что история, начавшаяся в Майапуре вечером 9 августа 1942 года, закончилась бурным столкновением двух наций — не первым, но и не последним, потому что они в то время еще были накрепко слиты в имперском объятии, таком давнишнем и замысловатом, что сами не ведали, ненавидят они друг друга или любят и какая сила так нерасторжимо спаяла их и мешает каждой заглянуть в свое будущее.
* * *
В 1942 году, когда японцы разгромили британские войска в Бирме и мистер Ганди стал призывать индийцев к мятежу, англичане в Майапуре, как гражданские служащие, так и военные, вынуждены были признать, что будущее не сулит ничего хорошего. Однако трудности бывали и раньше, и с ними как-то справлялись, думалось — справятся и теперь, теперь-то ясно, как быть, и еще не скоро возобновятся нудные споры относительно плюсов и минусов их имперской колониальной политики и системы управления.
Как любили выражаться в клубе, сейчас все дело было в том, что первое на очереди, и, когда там узнали, что мисс Крейн, инспектор школ протестантской миссии округа, сняла портрет мистера Ганди со стены в своем рабочем кабинете и перестала приглашать к себе на чашку чая индийских дам, а вместо этого поит чаем молодых солдат-англичан, это вызвало не только улыбки, но и чувство благодарности. В мирное время позволительны любые завихрения и чудачества. Во время войны требуется сомкнуть ряды и решительно стать на ту или другую сторону, что мисс Крейн, видимо, наконец и сделала.
Мало кому было известно, что в вопросе о чаепитиях у Эдвины Крейн по вторникам инициатива исходила от самих индийских дам. Мисс Крейн подозревала, что навещать ее раз в неделю им отсоветовали мужья, не только потому, что она сняла со стены портрет мистера Ганди, но и потому, что в этом чреватом взрывами году визиты их могли быть истолкованы как заискивание перед английским правительством. Обиднее всего ей показалось то, что дамы даже не потрудились объяснить ей причины своего поведения. Одна за другой они просто перестали у нее появляться, а встречаясь с ней на базаре или по дороге к миссионерской школе, лепетали в свое оправдание что-то невразумительное.
Об отступничестве дам она жалела, ведь она всегда старалась вызвать их на откровенность, о своем же обращении с портретом мистера Ганди не жалела ничуть. У дам были свои оправдания, у мистера Ганди — ни малейших. По ее мнению, он вел себя безобразно. Он, можно сказать, подвел ее. Годами она смеялась над европейцами, говорившими, что ему нельзя доверять, и вот теперь он откровенно предлагает японцам помочь ему выгнать англичан из Индии, и, если он воображает, что в их лице найдет лучших правителей, тогда остается только предположить, что он сошел с ума или, хуже того, показал всему миру, что его философия ненасилия имеет оборотную сторону, практически сводящую ее на нет. Насилие он, видимо, решил перепоручить японцам.
Потеряв всякое доверие к Махатме и разочаровавшись в поведении индийских дам (впрочем, разочарования такого рода были ей не в новинку), она стала задумываться над тем, не больше ли толку было бы от ее жизни, если б она прожила ее не среди соотечественников, убеждая их оценить высокие достоинства индийцев, а среди индийцев, пытаясь доказать, что хотя бы одна англичанка их уважает и восхищается ими. Добросовестно проследив ее деятельность, можно было сделать вывод, что лучше всего она всегда ладила с людьми смешанной крови; а это, возможно, подтверждало ту истину, что сама-то она была ни рыба ни мясо: учительница без педагогического образования, сотрудница миссии, не верящая в бога. Индийцы так до конца ее и не приняли, англичане же в большинстве были для нее чужими. В этом крылась известная ирония. Индийцы, думалось ей, относились бы к ней серьезнее, не будь она представительницей организации, благами которой они охотно пользовались, не преодолев, однако, своего исконного к ней недоверия. С другой стороны, не работай она в рядах миссионеров, она, может быть, не прониклась бы восхищением к индийцам, порожденным уважением и любовью к их детям, и не столь сурово осуждала бы своих соотечественников, которых так мало заботило будущее этих детей и благополучие их родителей. Свои суждения она всегда высказывала не таясь. Возможно, это было ошибкой. Англичане воспринимали такую критику как личную обиду.
Однако мисс Крейн принадлежала к поколению, которое придерживалось кое-каких несложных житейских правил (хотя и не слишком в них верило). Исправить ошибку всегда можно, решила она, лучше поздно, чем никогда. Вспомнив, что молодые английские солдаты, которых в Майапуре все прибывало, судя по их виду, только что приплыли из Англии, она написала письмо начальнику штаба местного гарнизона, побывала у него и договорилась, что каждую среду, от пяти часов пополудни до половины седьмого, будет ждать у себя на чашку чая человек десять-двенадцать его подопечных. Начальник поблагодарил ее за радушие и сказал: хорошо бы побольше людей понимало, как много значит для английского паренька возможность хоть час-другой провести в домашней обстановке. Местные дамы не скупились на патриотические декларации, однако не слишком-то жаловали рядовой состав английской армии. Этого он вслух не сказал, но дал понять достаточно ясно. По его разговору и манере мисс Крейн догадалась, что он и сам начал службу рядовым. Он выразил надежду, что у нее не будет оснований пожалеть о своем приглашении. Многие солдаты, хоть на них и наговаривают лишнего, и впрямь бывают в обществе неловки и слишком громогласны. Если мисс Крейн почувствует, что это ей не по силам, пусть сразу же звонит ему. Мисс Крейн на это улыбнулась и ответила, что светским обращением не избалована и не раз слышала, как в Майапуре ее называли «закаленной старухой».
У солдат, приходивших к мисс Крейн пить чай, выговор был неграмотный, но неловкости в них не замечалось. Все они, кроме одного, некоего Баррета, отлично управлялись с ее изящными фарфоровыми чашками. Не были ни слишком стеснительны, ни слишком громогласны. Мисс Крейн радовало, что к концу таких сборищ они держались совсем уже непринужденно. А провожая их, стоя на парадном крыльце, она махала им вслед, пока они шли по дорожке, рассекавшей пополам ее красивый, ухоженный садик. Выйдя за калитку, они закуривали и дружной гурьбой возвращались к себе в казармы, топоча тяжелыми башмаками по твердой дороге. А мисс Крейн помогала Джозефу, своему старому слуге-индийцу, убрать со стола, после чего удалялась к себе в спальню читать отчеты учителей и письма от начальства миссии, а также — поскольку солдатский чай бывал по средам, а в четверг она уезжала с ночевкой в Дибрапур за семьдесят пять миль — укладывать саквояж, где находилось место и для жестянки с леденцами, подарок дибрапурским школьникам. И, занимаясь всем этим, она еще успевала подумать о своих солдатах.
Среди них был один, по фамилии Кланси, не пропускавший ни одной среды, его она очень любила. Он был из тех, кого в Англии, в ее кругу, назвали бы прирожденным джентльменом. Кланси — вот кто последним садился за стол и первым вставал с места. Кланси — вот кто заботился о том, чтобы ей достался кусок ее же сладкого пирога и чтобы ее не миновала сахарница, которую передавали по кругу. Он всегда справлялся о ее здоровье и толковее всех отвечал на ее расспросы об ученьях, занятиях спортом и жизни в казармах. И в отличие от других, называвших ее «мэм», Кланси называл ее «мисс Крейн». Она и сама считала нужным запомнить каждого по фамилии и не забывала предварить ее вежливым «мистер». Она знала, что солдаты терпеть не могут, когда к ним обращаются просто по фамилии, особенно женщины. Но «мистер Кланси» годилось только для обращения, в мыслях же он был для нее просто Кланси. Фамилия ей нравилась, и так (или Клане) звали его приятели.
Приятели, как она с радостью отметила, любили Кланси. Знаки внимания, которые он ей оказывал, не вызывали у них ни досады, ни насмешек. В нем видели вожака. Его уважали. Он был хорош собой, и военная форма — защитного цвета рубашка и шорты — сидела на нем лучше, чем на других. Только выговор да еще руки — с обломанными ногтями, с несмываемыми следами масла и смазки от постоянной чистки оружия — напоминали о том, что он всего лишь один из многих. Бывало, что после их ухода, когда она разбирала почту и думала о них, ей становилось грустно. Возможно, многие из этих мальчиков будут убиты, и в первую очередь Кланси, потому что его безусловно ждет повышение. Грустно, но совсем по-иному ей становилось и при мысли, что втихомолку они подсмеиваются над ней и называют ее между собой старой девой, которая кормит преснятиной.
Начальство миссии знало, что она женщина неглупая и понятливая, чей здравый смысл и организаторские способности с лихвой окупают свойства, казалось бы несовместимые с работой в христианской миссии, — такие, как ее агностицизм и ярко выраженные проиндийские, а стало быть, антианглийские симпатии.
* * *
Эдвина Крейн прожила на свете уже пятьдесят семь лет, из которых тридцать пять — в Индии. Родилась она в Лондоне в 1885 году, от небогатых, но интеллигентных родителей, матери лишилась рано и юные годы посвятила заботам об осиротевшем отце, учителе, а тот пристрастился к бутылке и стал сторониться людей, так что мало-помалу растерял и немногих своих друзей, и учеников, посещавших его частную школу. В то лето, когда он умер, ей был двадцать один год, она не имела за душой ничего и ничего не умела, оставалось только искать место компаньонки или экономки. Запах отцветающих лип навсегда связался у нее с запахом смерти. Она обрадовалась, когда ей предложили для начала место гувернантки — к избалованному мальчику, который называл ее Цапля и однажды в ночной детской попробовал шокировать ее преждевременной осведомленностью в вопросах пола.
Шокировать мисс Крейн ему не удалось. Ее отец в последней стадии болезни страдал недержанием, да и раньше под пьяную руку готов был просветить ее на случай, что ей еще не все ясно, а заодно и поиздеваться над дней — и нос-то у нее длинный, и вообще дурнушка, никто замуж не возьмет. Протрезвившись, он мучился от стыда, но признаться в этом ей у него не хватало мужества. Она это понимала и потому научилась ценить мужество в других и сама старалась (хоть и не всегда с успехом) преодолеть свою робость. Когда он умер, она поплакала, а осушив глаза, продала почти все, что еще оставалось в доме, чтобы заплатить за приличные похороны, отказавшись от денежной помощи богатого дядюшки, который при жизни ее отца держался в сторонке, и от моральной поддержки бедных родственников, снова набежавших после его смерти неизвестно откуда.
Итак, избалованный мальчик не шокировал ее, но и не очаровал. Живя вдвоем с отцом, она прониклась ощущением, что они двое — люди особой породы и обречены нести свой особый крест, некую смесь из благородной бедности и пьянства; однако в богатой и упорядоченной семье, в лоне которой она теперь очутилась, тоже никто как будто не был счастлив, и от этого окружающий ее мир показался ей трагически тесным как раз тогда, когда стены его могли бы раздвинуться. Побуждаемая желанием найти свое место в незнакомом мире, широком и новом и если не радостном, то хотя бы сулящем какие-то приключения и интересные перемены, она откликнулась на объявление некой дамы, которая возвращалась в Индию с двумя детьми и желала иметь в дороге компаньонку и няню в одном лице. Дама, очень бледная и хрупкая на вид, но, как выяснилось, довольно выносливая, объяснила условия: если в пути кандидаткой будут довольны, она и в Индии может остаться в доме в качестве гувернантки. Если же нет, она с легкостью найдет другую семью, которой нужна будет помощь на пути в Англию; в худшем же случае обратный проезд будет ей оплачен. Мисс Крейн даме, видимо, понравилась, и они договорились.
Морской переезд прошел приятно, потому что миссис Несбит-Смит обращалась с ней как с членом семьи, а дети, синеглазые мальчик и девочка, в один голос твердили, что любят ее и хотят, чтобы она жила у них всегда. В Бомбее их встретил майор Несбит-Смит и тоже отнесся к ней как к члену семьи; но мисс Крейн не могла не заметить, что жена майора с этого часа сделалась холоднее, а к тому времени, как они добрались до городка в Пенджабе, где был расквартирован полк майора, обращалась с ней не то чтобы как с прислугой, но как с бедной родственницей, которую им приходится содержать и до поры до времени как-то использовать. Так мисс Крейн впервые познала, что есть снобизм за границей — совсем не то же, что снобизм на родине, ибо здесь он был осложнен соображениями, порой несовместимыми, белой солидарности и белого же превосходства. Ее хозяева считали своим долгом оказывать ей внимание, в каком они отказали бы самым высокородным индийцам, и в то же время не пускать ее выше самых нижних ступенек на общественной лестнице своего замкнутого круга — особенно вне дома, потому что в доме она, конечно, занимала место намного выше любой туземной прислуги. Мисс Крейн не одобряла этой одержимости вопросом, кто есть кто и почему. Это оскорбляло либеральную сущность, которую она все яснее в себе сознавала. И сильно отравляло ей жизнь. Ей казалось, что миссис Несбит-Смит порой трудно бывает решить, какое выражение придать своему лицу, когда они разговаривают, — наверно, думала она, той было бы легче, если б можно было совсем обойтись без разговоров, раз они бывают причиной такого замешательства, чуть ли не страдания.
Она прожила у Несбит-Смитов три года. У нее был крепкий организм — иными словами, она редко болела даже в этом неблагоприятном климате. К детям она привязалась, а в ответ на почтительность слуг выработала уверенный тон, который не давался ей в Англии. И была Индия, поначалу странная, даже пугающая, но на поверку таящая и много светлых сторон, которые она затруднилась бы назвать, но чувствовала. Она мало с кем подружилась, и сходиться с отдельными людьми ей было по-прежнему трудно, но появилось ощущение общности. Порождал такое ощущение — это она хорошо понимала — постоянно звучащий вокруг нее, хоть обычно и не выраженный словами клич, призывающий к сплочению клана, — часть той самой общественной системы, которую она не одобряла. Она продолжала не одобрять ее, но у нее хватало честности признать, что именно в этой системе, при всех ее недостатках, гарантия и комфорта, и безопасности. В Индии было полно страха, и приятно было чувствовать, что сама ты в безопасности, знать, что, как бы плохо миссис Несбит-Смит с ней ни обращалась, та же миссис Несбит-Смит и ей подобные станут за нее горой, если возникнет какая-нибудь угроза со стороны, из-за пределов того очарованного привилегированного круга, на периферии которого протекала ее жизнь. Она знала, что Индия, в которой обнаружилось столько светлых сторон, — это только Индия белых. Но и это была своего рода Индия, и, во всяком случае, это было начало.
Тут она как раз влюбилась — не в младшего полкового священника, иногда служившего в местной протестантской церкви (он был бы ей подходящей парой; миссис Несбит-Смит, когда бывала в духе, даже подтрунивала над ней по этому поводу и всячески ее поощряла), а безнадежно и тайно — в поручика Орма, прекрасного, как Аполлон Бельведерский, болтавшего с ней по-светски ласково и весело, как герой старинного романа, и не догадывавшегося о ее чувстве — в сущности, ему не было до нее никакого дела, при его-то красоте, да еще в городе, где в том году собралось особенно много молодых девиц, из которых он мог выбрать любую. Влюбилась безнадежно, потому что без малейших шансов на взаимность; тайно, потому что не краснела и не конфузилась в его присутствии, и миссис Несбит-Смит, даже если бы поинтересовалась, как гувернантка ее детей воспринимает мужчину, столь привлекательного во всех отношениях, как поручик Орм, не догадалась бы, что мисс Крейн вздыхает о ком-то, для нее, разумеется, недосягаемом. Сама мисс Крейн не вполне понимала, почему не краснеет и не конфузится. Сердце у нее колотилось, когда он стоял рядом, и во рту пересыхало, но чувство ее, очевидно, было таким глубоким и серьезным, что она просто не могла вести себя, как те глупенькие девочки, что понятия не имели о действительной жизни.
Когда поручик Орм — все еще вольная птица и, как всегда, везучий — получил новое назначение, адъютантом при каком-то генерале, тем повергнув в безутешную скорбь два десятка хорошеньких девушек и столько же дурнушек, не говоря уж о их маменьках, никто, по твердому убеждению мисс Крейн, и не заподозрил, как ее-то жизнь омрачилась с его отъездом. Только дети, два существа, наиболее ей близких душевно, заметили в ней какую-то перемену. Они глазели на нее своими по-прежнему синими, но уже повзрослевшими и оценивающими хозяйскими глазами и спрашивали: «Что случилось, мисс Крейн? У вас что-нибудь болит, мисс Крейн?» — и принимались прыгать вокруг нее, припевая: «Наша Крейн говорит, у нее живот болит», так что однажды она, потеряв терпение, нашлепала их, и они с визгом умчались в сад под защиту старой айи, которую, она это знала, они теперь любили больше.
Незадолго до следующего жаркого сезона полк майора Несбит-Смита получил приказ вернуться в Англию. Как-то мисс Крейн случайно услышала, как миссис Несбит-Смит говорила приятельнице: «Мы с детьми поедем вперед, и Крейн, конечно, с нами». За глаза она обычно называла ее Крейн, только в обращении и в разговорах с детьми превращала в мисс Крейн, а в редкие минуты растроганной благодарности — в Эдвину, например, когда лежала с отчаянной мигренью в затемненной, продуваемой опахалами комнате, а мисс Крейн, стоя на коленях у ее постели, смачивала ей лоб одеколоном.
Еще долго после того, как стало известно, что полк возвращается в Англию, мисс Крейн продолжала выполнять свои обязанности без единой мысли в голове, потому что мысль о поручике Орме она успела в себе задушить, а новых мыслей не появилось. Она говорила себе: «Ведь он был всего лишь химерой, фантазией, которая и не могла осуществиться. И теперь, когда с этими иллюзиями покончено, я поняла, до чего голодной и пустой всегда была моя жизнь. Чем-то она заполнится дома, в Англии? Заботами о детях, пока они меня не перерастут? Другими детьми взамен этих и другой миссис Несбит-Смит взамен теперешней? Новыми семьями, где все будет по-старому? И так год за годом оно и пойдет — Крейн, мисс Крейн да изредка, все реже и реже, — Эдвина?»
По вечерам, от пяти часов (когда дети после чая переходили в ведение айи, которая играла с ними и мыла их в ванне) и до семи (когда они ужинали под ее присмотром, после чего она обедала либо одна, либо, если ничто этому не мешало, с их родителями), мисс Крейн бывала свободна. Обычно она проводила эти два коротких часа в своей комнате — тоже принимала ванну, отдыхала, читала, изредка писала письмо какой-нибудь коллеге, перебравшейся в другой город или вернувшейся в Англию. Теперь же ей не сиделось дома, и она, обувшись и раскрыв для защиты зонтик, шла пройтись по улочке кантонмента, на которой стояло бунгало Несбит-Смитов. Улочку осеняли деревья, постепенно их становилось все меньше, бунгало кончались, дальше шли возделанные поля. Иногда она шла в другую сторону, к базару, за которым была станция железной дороги и туземный город, где она побывала всего один раз, когда стайка смеющихся дам и робких компаньонок в колясках, под охраной мужчин верхами, ездила осматривать индусский храм, и этот храм напугал ее, как напугал и весь туземный город — его узкие грязные улицы, вопиющая бедность, режущая слух музыка, шелудивые собаки, голодные калеки-нищие, толстые белые священные быки и полуголые обитатели, такие на вид озлобленные по сравнению со слугами и другими индийцами, работавшими в кантонменте.
В тот день, когда она задумалась о своем будущем — словно увидела его в бесконечных зеркалах, и каждое отражение было меньше предыдущего, так что последнего и не разглядеть — сплошная вереница детей Несбит-Смитов и Эдвин Крейн, — улочка, которую она выбрала для своей прогулки в пять часов, вывела ее на открытое место, где дорога уходила в неведомую даль. Тут она остановилась, не решаясь идти дальше. Солнце еще пекло; еще стояло так высоко, что она прищурилась, глядя из-под шляпы и ситцевого балдахина-зонтика на плоскую, бескрайнюю Пенджабскую равнину. Не верилось, что там, за далекой чертой горизонта, мир продолжается, что где-то он меняет свой облик, вздыбливается нагорьями, лесами и горными кряжами в шапках вечных снегов, где рождаются реки. И не верилось, что за равниной есть океан, где эти реки кончаются. Она почувствовала свою ничтожность, духовную скудость, ее давила непомерная тяжесть земли, и воздуха, и необъятного пространства, в котором даже вороны, что летали кругами, хлопая крыльями, казалось, вот-вот готовы были упасть. И на минуту ей почудилось, что ее коснулся грозный перст некоего бога — не того знакомого, всепрощающего, которому она вроде бы молилась, а иного бога — ни благостного ни злобного, ни созидающего ни разрушающего, ни спящего ни бодрствующего, но существующего и тяжестью своей придавившего вселенную.
Зная, что женщины, подобные ей, нередко обращаются к религии как к надежному прибежищу, она на следующий день повернула от дома в другую сторону и, дойдя до протестантской церкви, ступила в ограду и пошла по широкой дорожке между могильных холмиков, помеченных надгробьями людей, которые уснули вечным сном вдали от родины, но, доведись им проснуться, могли бы порадоваться при виде этого кусочка Англии — церкви, кладбища и зеленых деревьев. Боковая дверь церкви была приоткрыта. Она вошла и, опустившись на одну из задних скамей, устремила взор на алтарь и на витраж темнеющего восточного окна, который видела каждое воскресенье, когда бывала здесь с Несбит-Смитами.
В этой церкви обитал знакомый бог, добрый, уютный. Она хранила его в сердце, но не в сознании, веровала в него как в утешителя, но не как в спасителя мира. Это был бог одной общины — не темнокожей общины, что тщилась выжить под тяжестью пенджабского неба, а той привилегированной бледнолицей общины, в которой сама она была сбоку припека. Интересно, подумалось ей, кто она для этого бога — Крейн, мисс Крейн, Эдвина? Для Бога-Сына она, скорее всего, Эдвина, а вот для Господа в гневе его — безусловно, Крейн.
— Мисс Крейн?
Она вздрогнула и оглянулась. Это заговорил с ней старший священник, пожилой, с розовым носом и бахромой седых волос, окаймлявшей череп философа. Фамилия его была Дай, и это вызывало сдержанные улыбки у прихожан, когда он во время богослужения громко начинал молитву словами «Дай нам, господи, молим тебя…» Она и сейчас улыбнулась, хоть ее и смутило, что он застал ее здесь и, конечно, понял, что она пришла сюда не отдохнуть, а укрепиться духом. Женщина не первой молодости, некрасивая, одна в пустой протестантской церкви, в день, когда не предвидится никакой праздничной службы, уже отмечена неким клеймом. Впоследствии мисс Крейн пришла к выводу, что именно в ту минуту она потеряла последнюю надежду на замужество.
— Отдыхаете от трудов праведных? — сказал мистер Дай тем звучным голосом, каким он обращался к прихожанам, а когда она потупилась и кивнула, добавил совсем просто: — Могу я вам чем-нибудь помочь, дитя мое? — И она от неожиданности чуть не заплакала, потому что так называл ее отец, когда у него выдавались трезвые, ласковые минуты. Однако она не заплакала. В последний раз она плакала, когда умер отец, и, хотя ей суждено было заплакать еще раз, это время еще не пришло. Без малейшей дрожи в голосе она ответила: — Я подумываю о том, чтобы остаться здесь, — и, заметив, что пастор огляделся в недоумении, словно за его спиной происходило что-то, о чем его не предуведомили и ради чего мисс Крейн сочла нужным остаться в церкви, пояснила: — Я имею в виду остаться здесь, в Индии, когда Несбит-Смиты уедут.
Пастор сказал «понимаю» и нахмурился — возможно, ему не понравилось, что она назвала их «Несбит-Смиты».
— Ну что ж, думаю, что это вполне выполнимо, мисс Крейн. Полковник Инглби и его супруга — вот с кем, полагаю, стоит поговорить. Мне известно, что вас можно смело рекомендовать. Майор Несбит-Смит и его супруга всегда отзывались о вас с величайшей похвалой.
Будущее было темно — ровная однообразная пустыня, и только в центре ее крошечная светящаяся точка — все, что осталось от Эдвины Крейн.
— Мне хотелось бы, — проговорила она, впервые высказывая мысль, которая до сих пор и мыслью-то, по сути дела, не была, — подготовиться к миссионерской работе.
Он сел рядом с ней, и оба обратили взгляд к восточному окну.
— Не чтобы нести кому-то слово божие, — продолжала она, — нет. Ведь, в сущности, я сама неверующая. — Она искоса глянула на него. Он все не спускал глаз с окна. Казалось, ее признание не слишком его удивило. — Но ведь есть еще школы. Я имею в виду, подготовиться к преподаванию в миссионерской школе.
— Понятно. Обучать не наших детей, а детей наших темнокожих братьев во Христе, так?
Она кивнула. У нее перехватило дыхание. Он повернулся к ней лицом и спросил: — Вы здешнюю школу видели?
Да, она видела школу, у самой станции железной дороги, но…
— Только снаружи, — сказала она.
— А с мисс Уилсон когда-нибудь разговаривали?
— Кто такая мисс Уилсон?
— Учительница. Но вы с ней едва ли знакомы. Она — женщина смешанной крови. Хотели бы вы побывать в этой школе?
— Очень.
Священник покивал и, словно обдумав что-то, заговорил:
— Тогда я это устрою и, если вы не передумаете, напишу инспектору в Лахор. Правда, по той маленькой школе, где работает мисс Уилсон, судить трудно. — Он покачал головой. — Нет, мисс Крейн, здесь у себя мы не можем похвалиться особенными успехами, хотя и сделали больше, чем католики и чем баптисты. Но вообще-то в стране есть множество школ всевозможных вероисповеданий, и все они заняты обучением язычников… так, видимо, приходится их называть. На этом поприще церковь и миссии всегда показывали пример. Правительство, скажем так, не спешит оценить преимущества народного просвещения. И сами индийцы, пожалуй, тоже. Взять хотя бы здешнюю школу. Всего-то каких-нибудь два десятка детей, даже в лучшие месяцы. А как начинаются праздники — ни одного. Я, конечно, имею в виду индусские и мусульманские праздники. В школу дети приходят главным образом ради чаппати, лепешек, а во время последних беспорядков здание школы подожгли. Впрочем, вас тогда здесь еще не было.
* * *
Миссионерская школа оказалась не той, о которой она думала, — та школа, имени Джозефа Уэйнрайта, у вокзала, помещалась в основательно построенном здании, существовала на благотворительные средства и обслуживала детей солдат, железнодорожников и мелких чиновников, чья кровь смешалась с кровью туземных женщин. А миссионерская школа на окраине туземного города занимала крытое рифленым железом ветхое, тесное квадратное здание на обнесенном стеною участке, где не росло ни травинки, и отмечена была всего лишь крестом, грубо намалеванным на желтой штукатурке над дверью. Мисс Крейн постеснялась признаться в своей ошибке мистеру Даю, когда он привез ее туда в двуколке, помог ей сойти на землю и провел сквозь пролом в стене, где давно, еще до последних беспорядков, была, очевидно, калитка.
Чтобы приехать с ним сюда в полдень, ей пришлось отпроситься у миссис Несбит-Смит и объяснить, почему именно в этот час она не сможет заниматься с ее отпрысками. Миссис Несбит-Смит воззрилась на нее как на сумасшедшую и вскричала: «О господи, Крейн, что это на вас нашло?!», а потом добавила с неподдельной тревогой, очень трогательной, а потому и куда более огорчительной, чем ее вспышка: «Вы же будете там совсем одна, без своих, среди этих черномазых и полукровок. А кроме того, Эдвина, мы все вас так любим!»
Она чувствовала, что поступает глупо, возможно даже, под влиянием минутного настроения, ей самой непонятного. Одно то, что она спутала евразийскую школу с миссионерской, доказывало, как плохо она осведомлена о том, что видит вокруг себя, как мало люди, подобные ей, знают о жизни этого города, хотя считается, что они имеют по отношению к нему какие-то обязательства, добросовестное выполнение которых и обеспечивает им их привилегии. Раз она даже не знала, где находится эта миссионерская школа, есть ли у нее надежда послужить другим миссионерским школам и самой что-то получить от этого?
Дверь школы была открыта. Оттуда слышалось детское пение. Когда они подошли к двери, пение смолкло. Мистер Дай сказал, что мисс Уильямс ждет их, и отступил в сторону. Мисс Крейн шагнула с порога прямо в класс. Женщина на возвышении сказала: «Встаньте, дети» — и жестом подняла учеников, сидевших перед нею на скамейках, поставленных в несколько рядов. Они встали. Ее внимание привлекла фраза, написанная на доске заглавными печатными буквами: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСС КРЕЙН МЕМ». По знаку учительницы дети медленно проскандировали: «Добро пожаловать, мисс Крейн мем». Пытаясь выговорить «спасибо», она почувствовала, что во рту у нее пересохло. Она-то ехала сюда, ощущая себя смиренной просительницей в поисках работы, а здесь ее появление было воспринято как прихоть не в меру любопытной мемсахиб. Ее ужаснула роль, которую это на нее налагало, ужаснула душная оштукатуренная комната, ряды детских лиц и запах горящего кизяка, проникавший в класс через дверь и окна с заднего двора, где, очевидно, пеклись вожделенные чаппати. Ее испугала мисс Уильямс в серой холщовой блузе, длинной коричневой юбке и башмаках на пуговицах, на вид моложе ее самой, с желтоватым цветом лица, как у многих особенно неприятных англичанок, проживших всю жизнь в деревне; только здесь желтизна свидетельствовала о полуиндийском происхождении, долженствующем, как внушали мисс Крейн, вызывать чувство гадливого ужаса.
Мисс Уильямс сошла с возвышения, на котором стоял ее стол и всего один стул. Мисс Крейн, в ответ на ее приглашающий жест, села на стул, а священник стал с нею рядом. Перед тем, знакомя их, он назвал только мисс Уильямс, и мисс Крейн попыталась улыбнуться девушке, чтобы загладить его оплошность, но губы у нее тоже пересохли, и она вдруг почувствовала на своем лице то же выражение, что так часто появлялось на лице миссис Несбит-Смит. Выражение это стало еще более четким, когда она наконец посмотрела на детей и осознала, что они взирают на нее, одинокую и косноязычную, с благоговейным любопытством, может быть, даже со страхом. Ее простенькое платье, самое нарядное ее платье, которое она надела, чтобы выглядеть как можно лучше, — белое муслиновое с оборкой, но без каких-либо украшений, кроме перламутровых пуговок, пущенных по плиссированному пластрону; соломенная шляпа, нахлобученная на высокую прическу; зонтик из белого ситца на розовой подкладке — подарок от миссис Несбит-Смит на прошлое Рождество — все тяготило ее, словно обременительное мишурное одеяние общественного класса, к которому она не принадлежала.
По знаку мисс Уильямс маленькая девочка, босая, в балахоне из какой-то мешковины, но с косичкой, украшенной ради торжественного случая цветами, и с букетом в руках выступила вперед, сделала книксен и протянула букет мисс Крейн. Та взяла его, попыталась сказать «Спасибо тебе», но девочка, видимо, не разобрала слов и взглянула на мисс Уильямс, чтобы удостовериться, что ритуал подношения окончен. Мисс Крейн уткнулась в цветы носом, не видя их красок, не слыша запаха, а когда опять подняла голову, девочка уже стояла на своем месте в первом ряду, среди других девочек.
— Как вы думаете, мисс Крейн, — сказал священник, — мне кажется, теперь дети опять могут сесть. А потом они либо споют нам песню, либо скажут стихи, которые мисс Уильямс, я в том не сомневаюсь, репетировала с ними все утро.
Мисс Крейн беспомощно опустила глаза на свои цветы, чувствуя, что и мисс Уильямс, и мистер Дай наблюдают за ней, ждут, что она сделает. Она кивнула головой и устыдилась, что первую в своей жизни общественную обязанность выполняет так плохо.
Дети послушно сели и сидели молча. Мисс Крейн решила, что они почуяли ее замешательство и истолковали его как неудовольствие или как скуку. Она заставила себя посмотреть на мисс Уильямс и произнести: — Мне очень интересно послушать, как они поют, — потом, спохватившись, добавила: — Или читают стихи, или и то и другое. Пожалуйста, попросите их показать, что они приготовили.
Мисс Уильямс повернулась лицом к классу и проговорила по-английски медленно, с непривычными для английского уха интонациями:
— Ну, дети, что бы нам спеть? Давайте споем «Есть Друг», — и добавила: «Аччха» — слово, которое мисс Крейн отлично знала, но за ним последовали другие слова на хиндустани, так быстро, что она не успела уловить смысл. Я даже язык толком не знаю, подумала она, как же я смогу преподавать?
А дети уже снова встали. Мисс Уильямс, отбивая в воздухе такт, медленно пропела первую строку гимна, который мисс Крейн при других обстоятельствах сразу бы узнала. Потом умолкла, опять махнула рукой, и дети запели — нестройно, робко, голоса их еще не привыкли к диковинному чужеземному ладу.
Есть Друг на небе ясном
У маленьких детей,
Земной любви короткой
Его любовь сильней.
Товарищи земные
Нас предают порой,
Лишь Он всегда нам верен,
Лишь Он всегда с тобой.
Приют есть в небе ясном
Для маленьких детей,
Кто молится и грешных
Не ведает путей.
Не будет там ни горя,
Ни бедствий, ни забот.
Там каждый юный странник
Навек покой найдет.
Они пели, а мисс Крейн смотрела на них. Сплошные оборвыши. В детстве этот гимн был одним из ее любимых и, если бы сейчас его пели так, как поют английские дети, под аккомпанемент рояля или фисгармонии, как бывало в плохонькой школе ее отца, она, возможно, поддалась бы нестерпимой грусти, сожалениям об утраченном мире, об утраченном покое и очаровании детства. Но она не ощутила ни грусти, ни душевного подъема. В ней закипал протест против этой несообразности, против самой идеи заглушить в этих детях веру в их родных богов и заставить их поклоняться единому богу, которому она сама когда-то молилась, а теперь не очень-то в него и верует. И еще она внезапно прониклась к ним страстным уважением. Голодные, нищие, обездоленные, и все же невольно думаешь, что где-то (а значит, именно здесь, в черном городе) их любят. Но родители их знают, что одной любви недостаточно. От любви ни сытей, ни богаче не станешь. А тут как-никак бесплатные лепешки.
И тогда ей стало ясно: единственное, что дает ей право, ей и таким, как она, сидеть на стуле, когда другие стоят, сжимать в руке букет и слушать выученную в ее честь песню, внушая благоговение безграмотным детям, — это сознание своей обязанности трудиться во имя человеческого достоинства и счастья. И тогда она перестала стыдиться своего платья, бояться школьного здания и запаха горящего кизяка. Кизяк здесь — единственное доступное топливо, здание тесное и душное, потому что нет средств расширить его, а ее платье — всего лишь символ ее общественного положения и твердого намерения не выказывать страха, не испытывать страха, по мере сил обрести милосердие и собственное достоинство, стать живым доказательством того, что есть где-то в мире надежда на лучшее.
Когда пение кончилось, она, запинаясь, сказала на хиндустани: «Спасибо вам, мне очень понравилось», а потом попросила у мисс Уильямс разрешения еще побыть в школе, пока дети будут есть лепешки и играть, и, если у мисс Уильямс найдется время, порасспросить ее о работе учительницы.
Вот так мисс Крейн пустилась в долгий, трудный, временами опасный путь, который через много лет привел ее в Майапур, на должность инспектора школ протестантской миссии.
* * *
Портрет мистера Ганди она сняла со стены. Но была еще картина, более давнее ее достояние, которая по-прежнему висела над ее рабочим столом в комнате, служившей ей и кабинетом, и спальней. Получила она ее в подарок в 1914 году, на пятый год своей работы в миссии, когда ушла из школы в Муззафирабаде, где служила под началом некоего мистера Клегхорна, и стала единственной учительницей школы в Ранпуре.
Картину ей преподнесли на прощание, в знак уважения. Председательствовал на этом собрании сам глава миссии, а вручил ей подарок мистер Клегхорн под аплодисменты и приветственные возгласы детей. Она до сих пор хранила в ящике стола табличку с надписью, некогда прикрепленную к раме. Табличка была золоченая и успела облупиться, а черные буквы надписи выцвели, но прочесть ее еще было можно. Надпись гласила: «Кристине Эдвине Лавинии Крейн за проявленное ею мужество от персонала и учеников школы англиканской миссии в Муззафирабаде, СЗПП».
Она открепила табличку, еще не доехав до Ранпура, потому что ее смущало слово «мужество». Что она такого совершила? Всего-то стала в дверях школы, куда еще раньше загнала детей, и заявила кучке совсем не страшных смутьянов — заявила на урду, без запинки, в выражениях, которые едва ли решилась бы употребить в разговоре с начальством, — что в школу их не пустит. Впрочем, что они не страшные — это она себе внушила, хотя часом позже они или их более решительные единомышленники разграбили и сожгли дом католической миссии, ворвались в полицейский участок и двинулись к кантонменту, где солдаты живо с ними расправились — одного из зачинщиков застрелили, а остальные залпы дали в воздух. Четыре дня город жил на военном положении, когда же порядок восстановили, мисс Крейн с неудовольствием обнаружила, что оказалась в центре внимания. Ее посетил окружной судья в сопровождении начальника полиции и лично выразил ей благодарность. В ответ она сочла нужным сказать, что вполне допускает, что поступила неправильно: может быть, следовало впустить смутьянов в школу, и пусть бы сожгли, что им там не нравилось, — молитвенники или распятие. А она их не впустила, и они ушли совсем уже разозленные, и сожгли дотла католиков, и вообще натворили много бед.
Когда мистер Клегхорн, вернувшись из отпуска, пожелал услышать подробности о том, что знал только по слухам, она решила просить его о переводе в другое место, где она могла бы работать без постоянных напоминаний о своем ложном положении, так она выразилась. Она заявила мистеру Клегхорну, что просто не может обучать детей, которые видят в ней какую-то героиню с рекламы и на школьную доску смотрят одним глазом, потому что другого не сводят с двери, предвкушая новое вторжение, которое она тут же пресечет. Мистер Клегхорн сказал, что не хотел бы с ней расставаться, но вполне ее понимает и, если она не шутит, он берется написать начальству миссии и объяснить, как обстоит дело.
Когда пришел ответ по поводу ее перевода, оказалось, что она получила повышение: в Ранпуре вся работа в школе возлагалась на нее одну. Перед ее отъездом состоялось прощальное чаепитие и была преподнесена картина — такая же, только большего размера и в более богатой раме, как та, что висела позади ее стола в классе, — полуисторическое полуаллегорическое произведение под названием «Жемчужина в ее короне». Изображена там была старая королева (для школьников она, несомненно, сливалась воедино с образом мисс Крейн), а вокруг нее располагались достойные представители ее Индийской империи — раджи, помещики, ростовщики, сипаи, крестьяне, слуги, дети, матери и на удивление чистые и опрятные нищие. Королева восседала на золотом троне под алым балдахином, а справа и слева от нее — ее мирские и духовные советники: генералы, государственные мужи и епископы. Трон с балдахином стоял, судя по всему, под открытым небом — тут же росли пальмы, и яркое солнце светило в прорывы тяжелых туч, как бывает в Индии перед наступлением сезона дождей. Выше туч порхали ангелы в молитвенных позах, благосклонно взирая вниз, на земные дела. Один из государственных мужей, толпящихся у трона, изображал мистера Дизраэли, и в руке у него был пергаментный свиток — карта Индии, — на который он и указывал с нескрываемой гордостью, однако же достаточно смиренно. К трону приближался раджа со свитой из слуг-индийцев и на бархатной подушке нес королеве подарок — крупную сверкающую жемчужину. Школьники сначала решили, что это та самая жемчужина, о которой упоминается в названии картины. Пришлось мисс Крейн объяснить им, что это просто дань уважения, а та жемчужина, по которой названа картина, — сама Индия, перешедшая из-под власти британской Ост-Индской компании под власть британской короны в 1858 году, сразу после Мятежа, когда сипаи на службе Компании (впервые ступившей на индийскую землю еще в семнадцатом веке) взбунтовались и была предпринята попытка провозгласить одного старого правителя из династии Моголов королем Дели, а картина написана после 1877 года, когда мистер Дизраэли уговорил королеву Викторию принять титул императрицы Индии.
У самой мисс Крейн эта картина вызывала смешанные чувства. Тот экземпляр, что уже висел в классе, когда она приехала в Муззафирабад работать под началом у мистера Клегхорна, очень пригодился ей в обучении английскому языку школьников: мусульман и индусов, Вот королева. Вот ее корона. Небо голубое. На небе тучи. Мундир сахиба алый. Мистер Клегхорн — по сану священник, а по призванию археолог и антрополог-любитель, давно задумавший написать книгу о районах распространения местных обычаев, только руки все не доходили, — большую часть времени посвящал делам церкви и старшеклассникам; это шло в ущерб начальной школе, что он и сам понимал. Когда, в ответ на его настоятельные просьбы, в помощь ему прислали из Лахора мисс Крейн, он с восхищением отметил, какое практическое применение она нашла для картины, которую сам он воспринимал исключительно как украшение на стене, немного оживлявшее комнату.
Всякий раз, что он заходил к ней на урок и видел, как десяток детишек, широко раскрыв глаза, переводят взгляд с ее лица на картину, пока она методично, шаг за шагом, описывает ее под разными углами, он возвращался к этому. «Ага, опять картина. Превосходно, мисс Крейн, превосходно. Я бы до этого не додумался. Обучать английскому языку и одновременно — любви к англичанам».
Как он понимал любовь к англичанам — это она знала. Он имел в виду любовь к их справедливости, к их благосклонности, в худшем случае — к их благим намерениям. Такая наивность и раздражала ее, и трогала. Он был хороший человек — неутомимый, любознательный, милосердный. Мусульманство и индуизм, внешние проявления которых все еще отпугивали ее, ему казались просто забавными, как могут позабавить взрослого человека жестокие, неистовые, но, в сущности, безобидные детские игры. Порой ей сдавалось, что к людским страданиям он безразличен, но о славе господней он, на свой лад, пекся неустанно. По мнению мистера Клегхорна, лучший способ служить богу и прославлять его состоял в том, чтобы развивать и упражнять умственные способности. Робкий физически — она знала, что он боится собак, помнила, как однажды он до смерти испугался змеи и пришлось звать сторожа, чтобы ее прикончить, как дергались у него щеки и тряслись руки, когда за деревней им встречались группы мужчин свирепого вида, а на самом деле вполне миролюбивых, — нравственным мужеством он обладал безусловно, и за это она его уважала.
Он подолгу, не жалея сил, выбивал из начальства любую сумму денег, когда считал, что миссии такой расход по средствам, а он может истратить эти деньги на доброе дело. Он нюхом чуял несправедливость и не раз добивался отсрочки выполнения судебного приговора, а то и его отмены. Мистеру Клегхорну, уверял судья, нечего делать среди служителей церкви, ему бы пойти по гражданской службе.
Произведения