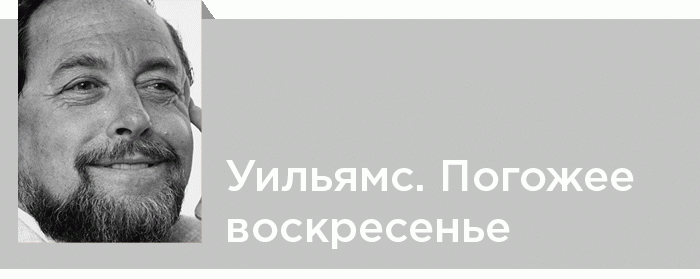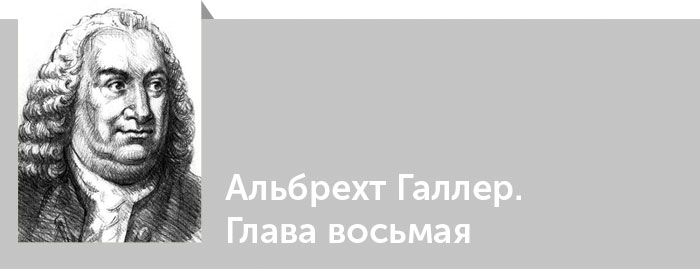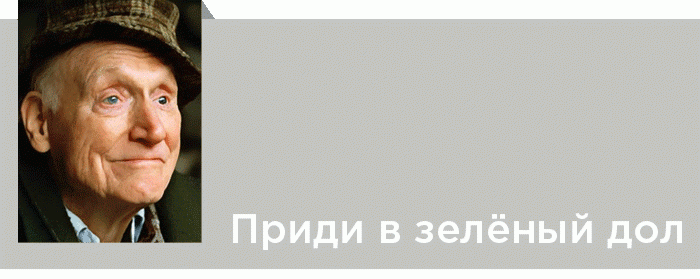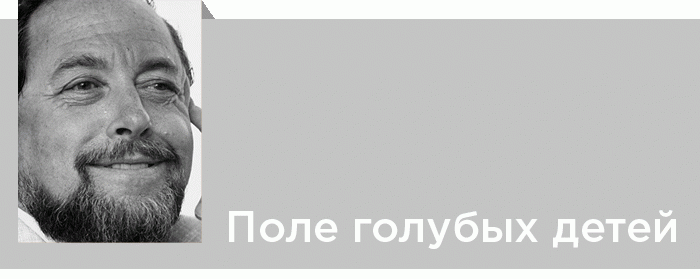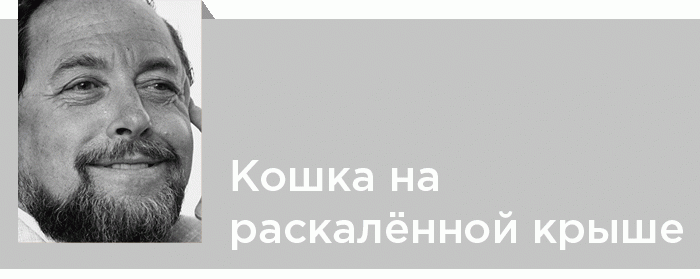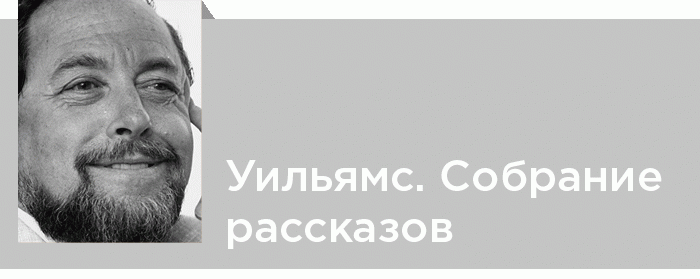Теннеси Уильямс. «И качалка остановилась» и другие киносценарии
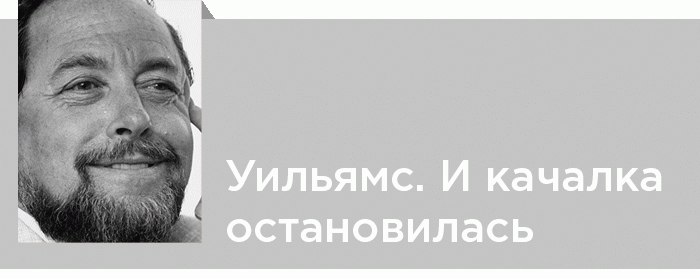
Ю. Фридштейн
Четыре киносценария, составившие рецензируемый сборник, были обнаружены в архиве Теннесси Уильямса (1911-1983) после кончины знаменитого драматурга. Они никогда ранее не публиковались и не только не дождались своей очереди к экранному воплощению, но, может показаться, всерьез и не предназначались автором для кинематографа. Отчего? Неужели первый из мэтров послевоенного американского театра прибегал к такой странной форме творческого досуга — писанию сценариев «для себя»? Или и впрямь было в них нечто принципиально неприемлемое для того мощного «конвейера грез», который, претерпев в 60-е и 70-е годы ряд разительных трансформаций, продолжал, по сути, оставаться тем, что и снискало ему изначальную — сенсационно-украшательскую — славу: Голливудом?
Вопросы не праздные и вряд ли предполагающие однозначные ответы. Какими бы эти ответы ни были, они могут быть найдены лишь в итоге пристального вглядывания в сложную и противоречивую прижизненную биографию драматурга, в частности в ту из ее сторон, которую можно обозначить: «Теннесси Уильямс и кинематограф».
Отношения Т. Уильямса с «десятой музой» (ныне составляющие особую часть зарубежного уильямсоведения — об одном из исследований этого ряда, книге М. Яковара, несколько лет назад уже писалось на страницах этого журнала) имеют давнюю историю и складывались достаточно драматично. Еще в 1943 году он, начинающий литератор, на протяжении нескольких месяцев работал в Голливуде в качестве штатного сценариста; однако все, что он написал в этот период, было забраковано и отвергнуто. Справедливости ради стоит сказать, что тут печальный удел Т. Уильямса далеко не уникален; ничуть не либеральнее хозяева студий обошлись с плодами творческого воображения Ф. Скотта Фицджеральда, Н. Уэста, У. Фолкнера. Вполне допустимо, впрочем, что душевная травма, полученная Т. Уильямсом на данном поприще, переживалась дольше и болезненнее. Всего вероятнее, она давала себя почувствовать и тогда, когда кинослава — шумная, ошеломляющая — к драматургу все-таки пришла: с выходом в свет «Трамвая „Желание”», виртуозно адаптированного для экрана в 1951 году Элиа Казаном, не просто запечатлевшим на пленке свою бродвейскую постановку 1947 года, но именно отыскавшим единственно адекватный театральному шедевру Т. Уильямса кинематографический эквивалент, прочно вошедший в анналы мирового киноискусства — вместе с великой Вивьен Ли, с поразительной силой проникновения воссоздавшей образ уильямсовской героини. Неудивительно, что, хотя «пик» освоения драматургии Уильямса кинематографом еще впереди (в 50-60-е годы будут созданы экранные версии «Кошки на раскаленной крыше», «Орфея», «Внезапно прошлым летом», «Ночи игуаны», и в числе режиссеров этих лент окажутся Джон Хьюстон, Сидней Люмет, Джозеф Лоузи и другие), ни одной из полутора десятков картин «уильямсовского репертуара» не доведется подняться до уровня этого фильма Э. Казана.
Кино, очевидно, раздвинуло рамки писательской известности Т. Уильямса, но произошло это как бы параллельно с основным направлением его творческого пути: сам автор участвовал в разработке лишь пяти сценариев, поставленных по его пьесам, оригинальный же вклад Т. Уильямса в кинодраматургию (несмотря на его фамилию в титрах висконтиевской «Страсти», 1954, как одного из создателей диалогов, при всем желании его трудно счесть таковым) до недавнего времени принято было ограничивать сценарием фильма «Бэби Долл», в 1956 году реализованным тем же Э. Казаном и годом позже вышедшим отдельным изданием. Таким образом, итог соотношения обширного «кинематографа по Теннесси Уильямсу» (с позднейшим его образцом — тонкой, импрессионистической экранизацией драмы «Стеклянный зверинец», снятой Полом Ньюменом, 1987, и активом Т. Уильямса-кинодраматурга в строгом смысле слова, — этот итог сложился не в пользу последнего.
Объяснения тому можно искать и «внутри», и «вовне» неповторимо своеобразного уильямсовского художественного мира. Резонно, например, предположить, что славившийся остротой своей интуиции писатель ощущал: являвшийся краеугольным камнем его профессионального признания «крупный план души» — изменчивая гамма тончайших душевных движений, нюансов и полутонов — в полной мере подвластен лишь магии театрального перевоплощения, с присущими последнему прозрачностью чувствования, проживанием каждого мгновения как единственного и невозвратимого мига бытия, атмосферой особой завороженности, возникающей только в притихшем театральном зале; и по экспрессивности такому плану неадекватен даже крупный план лица — это мощнейшее выразительное средство из арсенала кинематографа, с его осязаемой вещественностью, его раз и навсегда заданной безусловностью...
Как бы то ни было, факт остается фактом: на протяжении нескольких десятилетий парадоксальная специфика экранной образности властно притягивает, но одновременно — и чем позже, тем сильнее — отталкивает Т. Уильямса. В 50-е годы он не раз и настойчиво обращается к сценарному жанру; примерами тому — вошедшие в рецензируемый сборник «Галлия разделена...» и «Потерянная бриллиантовая сережка». В 60-е же и 70-е вторжения Т. Уильямса в сферу кинодраматургии трудно определить иначе как спорадические. 60-ми годами автор предисловия к настоящему тому Ричард Гилмен датирует сценарий «Однорукий» (киновариант одноименного рассказа, титульного в сборнике 1948 года), серединой 70-х — позднейшую из известных неосуществленных киноработ Т. Уильямса «И качалка остановилась».
«Так на сколько же областей разделена Галлия?» — спрашивает, ёрничая, учитель физкультуры Гарри Стид свою коллегу — преподавательницу латыни Дженни Старлинг. «Галлия разделена на три области», — с ровной безнадежностью в энный раз отвечает на шутку Дженни. С ровной безнадежностью — ибо давно уже любит Гарри и отчаялась пробиться сквозь броню напускного юмора и бесшабашности, которой тот окружен. Действие сценария «Галлия разделена...» происходит в обычной школе, каких в Америке тысячи; и, кажется, само название призвано воскресить в памяти читателей и зрителей — вчерашних и позавчерашних школьников — не слишком, наверное, вдохновлявшее их чтение «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря и тьму-тьмущую других школьных премудростей. С обычного начинается и день, когда мы знакомимся с персонажами. Дженни просит учеников проспрягать глагол «любить» в сослагательном наклонении: «Я бы полюбила... ты бы полюбил... он бы полюбил... мы бы полюбили...» Кажется, только захоти — и тебя подхватит и понесет за собой нескончаемый поток человеческого участия, симпатии, приязни, взаимного притяжения; надо лишь изловчиться войти в него, отыскать в нем свое место, своего избранника...
Самой Дженни Старлинг уже за тридцать, и этого не скроешь ни подростковым покроем платьев, ни завитыми локонами. Героине кажется, что наконец-то настал и ее час. Что вся ее нервозность, неуверенность в себе уйдут, едва только он обратит на нее внимание, позовет за собой... Как хорошо знакомы нам испытывающие неизъяснимую потребность любить и быть любимыми уильямсовские героини: в мире иллюзий, грез, химерических надежд живут Луиза из «Стеклянного зверинца», Бланш из «Трамвая „Желание”», Альма из пьесы «Лето и дым», а в финале этот хрупкий мир дробится, раскалывается, перечеркивается, не оставляя на будущее никаких шансов...
На разных этапах творчества Т. Уильямс вновь и вновь возвращался к излюбленной парадигме своих женских образов. Пусть написанный им в 50-е годы сценарий окажется впоследствии утрачен и забыт автором: в пьесе «Прекрасное воскресенье для пикника» (1978) мы без труда распознаем и «забытых» им героинь, и те же житейские ситуации, и томительное предчувствие того же финала. В облике Доротеи проступят черты Дженни Старлинг, в характере Боди — черты самоотверженной Бейлы Боденхафер, в индивидуальности Элины — себялюбивая натура Люсинды Кинер.
Три образа, из которых одну Дженни можно счесть в полной мере «alter ego» автора; два других — Бейла и Люсинда — могут вызвать у читателя и зрителя самые противоречивые и несхожие чувства: Бейла — едва ли не восхищение своим абсолютным альтруизмом, абсолютным бескорыстием (чуть-чуть снижаемое, правда, сквозящим в ее речи и поведении оттенком откровенного провинциализма); всецело сосредоточенная на себе Люсинда — напротив, неприязнь, брезгливость, даже отвращение. Каждая несчастлива по-своему: Т. Уильямс, как никто другой, умел разнообразить этот непростой женский типаж. И потому запоминается каждая отдельно: собственными иллюзиями, собственными разочарованиями, собственным горем. Но всем троим мы сострадаем, над их несложившимися биографиями задумываемся, их несостоявшееся счастье нас волнует и тревожит. Многократно повторенная драма невоплощенной женской любви — таков «нерв» жизненного конфликта всех (или почти всех) героинь Т. Уильямса.
Умеющий бесконечно варьировать эмоционально-психологические мотивировки, конкретные ситуации, сюжетные перипетии драматург, однако, всякий раз настойчиво подводит нас — с разных сторон — к одной и той же финальной точке (или многоточию, если угодно), когда все у его героинь в прошлом, последняя капля горечи и унижения выпита на наших глазах, а впереди — только пустота, только одиночество. Вот почему, думается, не прав Ричард Гилмен, упрекающий автора в «малоубедительном оптимизме» финала сценария «Галлия разделена...»: на страничке светской хроники местной газеты Дженни находит сообщение о. помолвке своего возлюбленного. Какой уж тут оптимизм, когда для героини (пусть ее физическое присутствие на земле будет продолжаться и, быть может, длиться еще очень долго), по сути, не будет уже ничего', конец, точка, предел... Какой уж тут оптимизм, когда бита единственная карта, упущен единственный шанс? И так ли уж важно, выйдет ли Дженни замуж за толстого мужлана-пивовара, брата Бейлы, или придется ей коротать оставшиеся годы в одиночестве? Итог один: конец светлой иллюзии, неминуемый разлад с окружением, угасание духовности.
Читая сценарий «Галлия разделена...», не раз вспоминаешь об уроках драматургии Чехова (кстати, в вошедшем в сборник авторском предуведомлении Т. Уильямс без обиняков признает, что единственный писатель, оказавший на него влияние, — это Чехов). Второй из публикуемых в рецензируемой книге сценариев восходит к одной из самых значимых и весомых традиций национальной литературы США — южной.
В «Потерянной бриллиантовой сережке» нам как бы рассказывают (точнее — показывают) предысторию Бланш Дюбуа, ее ожившие воспоминания о своей юности. В фабуле сценария ощутимы приметы быта и мышления того привилегированного слоя населения американского Юга, какой живописала, к примеру, Маргарет Митчелл; да и в облике Фишер Уиллоу, главной героини, немало общих черт со знаменитой Скарлетт О’Хара. При всем том она не перестает быть типично «уильямсовским» персонажем, а обстоятельства постигающей ее жизненной катастрофы в чем-то предвосхищают сюжетный конфликт «Сладкоголосой птицы юности» — одной из лучших пьес драматурга, созданной на исходе 50-х.
В личности богатой наследницы Фишер Уиллоу сочетаются и противоборствуют начала поистине несоединимые. Воспитанная в атмосфере всеобщего преклонения перед ее красотой, происхождением и богатством, она горда своей независимостью от чужого мнения, взгляда, слова. Ее отличает аристократизм натуры, подкрепленный автономностью, неукротимостью, несгибаемостью воли. Однако за этим бесстрашием, откровенным презрением к тем, чей интеллект ниже ее собственного, за двойным высокомерием — клановым и индивидуальным — скрывается страшная неприкаянность, опустошенность, страх перед одиночеством. Фишер и ей подобные рафинированные южные леди могут купить себе все, даже любовника, — одного лишь им не дано: внутренней гармонии, спокойствия, мира в собственных душах.
Фишер Уиллоу — из тех героинь Т. Уильямса, что в погоне за ускользающим счастьем часто забывают о гордости и достоинстве; что безоглядно, с роковой решимостью отдают себя единственно возможному для них чувству. Перед нами — тот «максимализм души и сердца», когда все равно, каковы будут последствия стихийно сделанного выбора, когда не важны приличия. Именно так — отчаянно, одержимо — сражается Фишер за любовь Джимми, своего избранника. И лишь нам, но не самой героине, дано понять, что избранный ею человек не достоин ее внимания. Ибо он так же никчемен и жалок, так же приземлен и нищ духом, как и прочие его собратья — персонажи других произведений писателя, к которым стремятся страстные уильямсовские героини. Эти представители «сильного пола» (были они в «Стеклянном зверинце», «Трамвае „Желание"», «Сладкоголосой птице юности», «Римской весне миссис Стоун» — всех не перечислить) ординарны, бескрылы, в них нет тайны — есть лишь полуосознанная жестокость к тем, кто сделал их своими избранниками, и непонимание этих непривычных для них существ — слишком для них сложных, слишком мятущихся, слишком бурных и безудержных в проявлении своих чувств.
Разительно не похож на описанные третий сценарий Т. Уильямса, «Однорукий», созданный на основе одноименного рассказа. Не похож не только потому, что его главный (а по сути, и единственный — остальные существуют в сценарии остраненно, в преломлении его памяти) герой — мужчина. Это своего рода «монофильм», центральная фигура которого — бывший боксер; потеряв правую руку, он зарабатывает на жизнь, удовлетворяя похоть принципиальных сторонников однополой любви.
Сюжеты уильямсовских произведений, заметим в скобках, нередко становились пощечинами общественному вкусу; и в ряду этих шокирующих сюжетов «Однорукий» — рассказ и сценарий — занимает не последнее место. Характерно, однако, что в малопривлекательной «профессии» Олли Олсена (автор достаточно подробно изображает встречи персонажа с его «нанимателями») для драматурга несравненно большую важность приобретает, так сказать, духовно-эмоциональный аспект: сталкиваясь с разными (в большинстве своем — глубоко неблагополучными) людьми, Олли, хоть на короткий миг, спасает их от тягостного бремени одиночества, от тоски и страха перед существованием. О чем сам узнает только в конце своей насильственно обрываемой жизни (он приговорен к смертной казни за убийство, в котором повинен лишь косвенно): уже сидя в тюрьме, он получает целый поток писем — от тех, чьи имена изгладились из его памяти, но кто помнит его... Свои последние дни Олли, внезапно осознавший себя чуть ли не мессией, посвящает этим нежданным посланиям; он спешит передать прощальный привет людям, с которыми сводила его судьба.
Необычное «мессианство», что и говорить. Но, видно, такова уж природа художнического видения мира Теннесси Уильямсом, в яростном отрицании эксцессивных «норм» буржуазного жизнеустройства подчас крайне снисходительным к очевидным антинормам человеческого бытия — коль скоро они демонстративно антибуржуазны. Как бы то ни было, в той же мере, в какой оставались для него чисты и целомудренны «падшие ангелы» Бланш и Альма, так же чист, осенен особым светом подвижничества и^кертвенности в глазах драматурга и Олли Олсен. Именно авторское отношение к пёрсонажу позволяет уподобить Олли герою совсем иного морального и литературного ряда — Теофилу Норту из одноименного романа Торнтона Уайлдера: оба, идя по жизни, вторгаются в самые неожиданные сплетения человеческих судеб — и, уходя, оставляют в людях отсвет доброты, сострадания и надежды.
Завершает сборник сценарий «И качалка остановилась» — пожалуй, самое трагическое создание. Т. Уильямса-кинодраматурга. Его героиня Джанет Свенсон — уже долгие пять лет пациентка психиатрической клиники. Все эти годы муж Олаф исправно навещает ее — и Джанет пребывает в своем выдуманном мирке, ничего не страшась. Но вот случилась банальнейшая вещь: у него появилась другая женщина, Алисия. Постепенно она обрела власть над Олафом, узурпировав даже его давнее чувство к жене. И он, вероятно сознавая всю бесчеловечность того, что ему предстоит сделать, но бессильный противостоять напору Алисии (которая, как бы в насмешку, прозвала его «Каменным человеком»), решается рассказать обо всем Джанет и расстаться с нею навсегда.
Это долгое, мучительное расставание, разрыв живых нитей бездушным скальпелем «здравого смысла», и составляет сюжет сценария. Его кульминационным эпизод — последний уик-энд, совместно проводимый супругами, уик-энд, в ходе которого Олаф должен объявить Джанет о своем решении. Оба — на пределе сил, душевных и физических: каждое слово ранит, причиняет невыразимую боль... Но Джанет действительно больна, и потому результатом этого свидания становится: полное погружение во мрак безумия — для нее — и, по всей вероятности, полное «освобождение» — для Олафа. Только сможет ли он впредь вести образ жизни совершенно нормального человека — помня об этих роковых минутах, зная, что это он окончательно погубил Джанет?
Как обычно у Т. Уильямса, заглавие сценария точно и емко — его трудно перевести, но смысл легко объясним и абсолютно внятен. Дело в том, что одна из больных, сестра Дженни по несчастью, находясь в общей комнате, где читают, играют в карты, просто судачат, постоянно сидит в кресле-качалке, движение которой ни на минуту не прекращается. Однажды кто-то заметил, что качалка стала двигаться чуть медленнее, затем еще и еще... А потом качалка остановилась — и больную перевели в другое отделение, для безнадежных. Эту историю Джанет расскажет Олафу в ответ на его замечание, что в ее жизни ничего, дескать, не происходит. А в финале, когда Олаф привезет безжизненную Джанет после «счастливого уик-энда», доктор и ее отправит туда же, ибо и ее «качалка» остановилась, как останавливаются стрелки часов — если пружину резко повернуть не в ту сторону...
Тема безумия и сумасшедшего дома, оборотная сторона темы хрупкости духовного мира личности, постоянна на всем протяжении уильямсовского творческого пути. На ступенях психиатрической лечебницы завершался отчаянный бунт против бессмысленного, бесчеловечного мира Бланш Дюбуа («Трамвай „Желание”»), Кэтрин Холли («Внезапно прошлым летом»), Зельды Фицджеральд в одной из его позднейших драм, «Костюм не по сезону». Как показывает сценарий «И качалка остановилась», не осталась она втуне и для Т. Уильямса-кинодраматурга.
Взятые в целом, четыре сценария, составившие рецензируемый сборник, позволяют прийти к одному обобщающему выводу. Суть этого вывода — в удивительной цельности образной и мировоззренческой системы писателя, в своих произведениях всегда запечатлевавшего — вне зависимости от жанра, объема, времени создания — один и тот же мир: мир «униженных и оскорбленных», мир попранного доверия, мир, где чистота втаптывается в грязь, где искреннейшие душевные порывы обречены на непонимание и насмешку, где над добротой глумятся, а подлость возводят на пьедестал. Это мир несчастливых и одиноких — «бедных скитальцев», по определению Чехова, писателя, в чьем творчестве Теннесси Уильямс нередко находил источник вдохновения и поддержки.
Со страниц пьес, новелл, романов, киносценариев Уильямса на сцену и на экран шагнули десятки созданных им персонажей. Независимо от своего происхождения, пола, занятия, даже места в социальной иерархии они, как правило, отторжены от окружающего мира, господствующих в нем норм и официальных ценностей. Устами одного из своих героев он назвал их «инвалидами» с тонкой, уязвимой, ранимой душой; это люди с обостренной потребностью в доброте, гуманности — и их не находящие. Их слух обострен, они наделены повышенной, чувствительностью к чужому взгляду, ненароком оброненному слову, они всегда на волосок от гибели: чуть нажми — и сломаешь, и не знаешь секрета, как восстановить сломанное... Рожденные трагической музой выдающегося американского драматурга, эти герои взыскуют Истины, Справедливости и Красоты в мире, утратившем исконный смысл этих высоких понятий.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1988. – Вып. 5. – С. 68-72.
Произведения
Критика