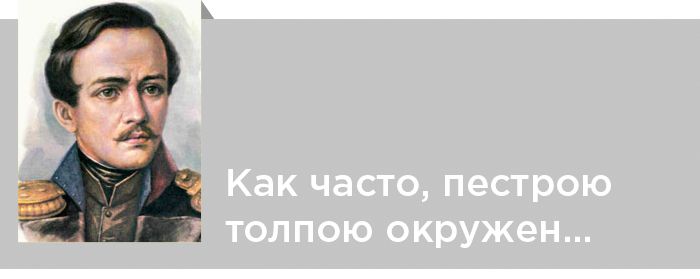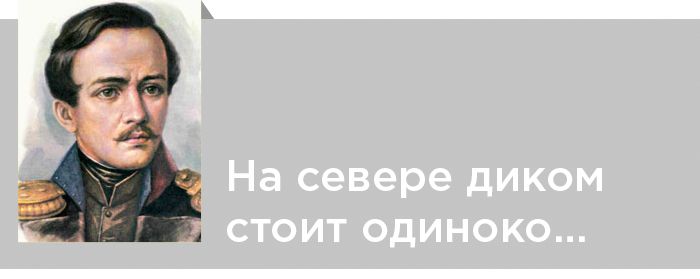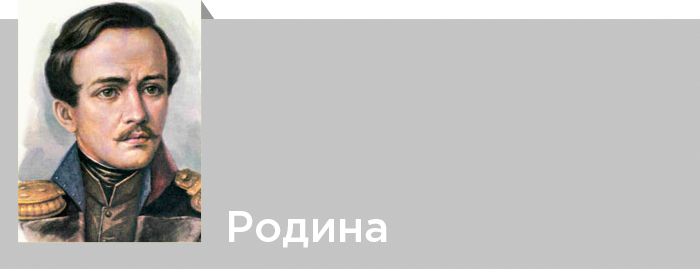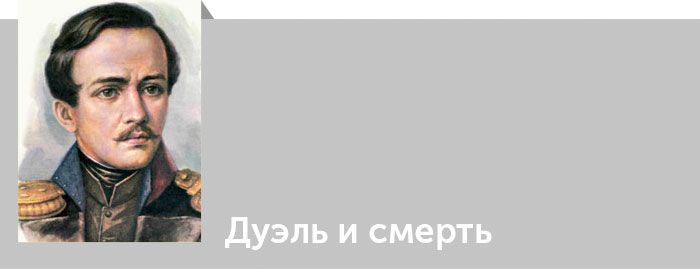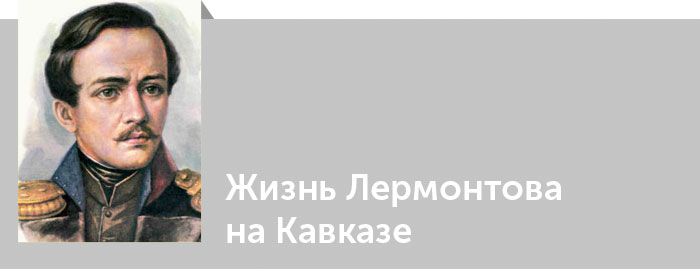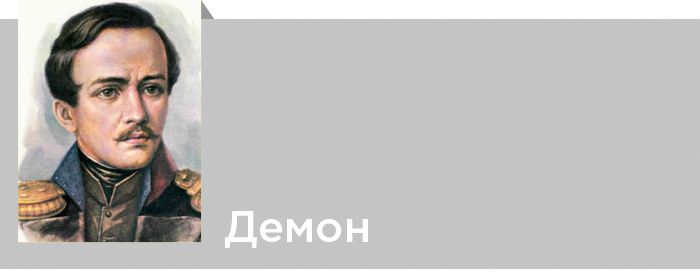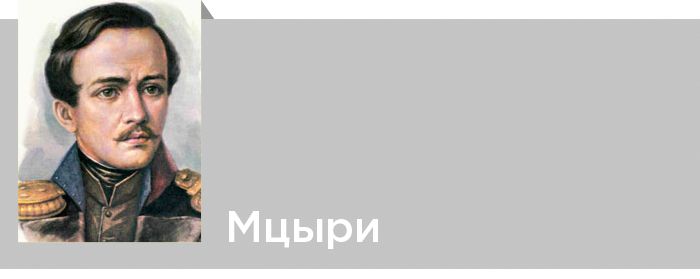Направление поиска (исследование биографии)
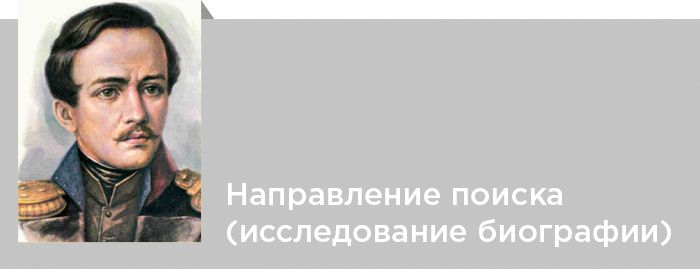
Андроников И. Л. Направление поиска // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. — С. 153—170.
И. Л. АНДРОНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА
Я ни на чем не настаиваю. Не предлагаю готовых решений. Просто хочу обратить внимание читателей на события, не учтенные в биографии Лермонтова. Сам он об этих событиях знал, не знать не мог. И как-то должен был отозваться на них.
Речь пойдет об эпизоде, имеющем отношение к гибели этого гениального поэта, гениального человека, о котором мы продолжаем узнавать новое и все же знаем еще недостаточно.
Приступим.
Зима 1839 — 1840 г. Лермонтов служит в лейб-гусарском полку в Царском Селе, но постоянно и подолгу бывает в столице. Знакомые, встречающие его в великосветском кругу, создадут впоследствии в своих мемуарах образ усердного посетителя аристократических вечеров, и приемов, маскарадов, балов. До нашего времени даже талантливых сценаристов и драматургов привлекают эти рассказы о гусарском поручике, скучающем в тесной сфере, в которую втолкнула его судьба. Иной раз можно подумать, что авторы этих пьес и сценариев помнят одни мемуары, не соотнося их с сочинениями Лермонтова. А между тем именно в это время напечатаны «Бэла», «Фаталист», «Тамань», «Поэт», «Русалка», «Ветка Палестины», «Не верь себе», «Еврейская мелодия», «В альбом», «Три пальмы», «Памяти А. И. О<доевско>го», «Молитва», «Дары Терека», печатается «Герой нашего времени». Написана поэма о Мцыри. «Демона» читают нарасхват, переписывают друг у друга. Нарасхват очередные номера «Отечественных записок» — журнала, который ведет Белинский и в котором Лермонтов печатает все свои сочинения.
«Мы брали книжку чуть не с боя», — писал знаменитый критик Владамир Стасов, в ту пору воспитанник Училища правоведения, — перекупали один у другого право ее читать раньше всех, потом, все первые дни, у нас только и было разговоров, рассуждений, споров, толков, что о Белинском да о Лермонтове».1
Нарасхват и сам Лермонтов. Его стихов требуют самые хорошенькие женщины в свете, ими хвастаются как триумфом (это — из письма Лермонтова). Его обширные связи в великосветском кругу, приглашения на все балы, где собирается высшая знать Петербурга, объясняются его необыкновенной популярностью: молодой поэт достиг громкой известности, им заинтересованы при дворе. И понять судьбу Лермонтова можно только в том случае, если все эти факты воспринимать в совокупности, не отделяя Лермонтова-поэта от Лермонтова-гусара, занявшего такое видное положение в салонах петербургской аристократии.
А теперь обратимся к не замеченной прежде подробности, которая должна привести нас к фактам, существенным для понимания одного из важнейших моментов его биографии.
В том, что Лермонтов читал сочинения Бальзака, нет никаких сомнений. «Он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала», — писал он о Печорине в «Герое нашего времени» (6, 243).
Тому, что Лермонтов читал Бальзака и был хорошо знаком не только с «Тридцатилетней женщиной», но и с другими его сочинениями, доказательств много. В литературе о Лермонтове есть указания на связь лермонтовской прозы со «школой Бальзака». Нас в данном случае интересует фраза из письма 1835 г. «Теперь я не пишу романов, — сообщает Лермонтов своей приятельнице А. М. Верещагиной, — я их делаю» (6, 720).
Это зеркальный переворот фразы Бальзака, парафраз из повести «Герцогиня де Ланже», где о генерале Монриво говорится, что «он всегда делал романы, вместо того чтобы писать их».2
«Герцогиня де Ланже» — второе звено из замечательного произведения Бальзака «История тринадцати». Так же как и первая повесть «Феррагюс — вождь деворантов», она была опубликована в Париже в 1833 г., в следующем 1834 г. вошла во вторую книгу Бальзака «Сцены парижской жизни» и в том же 1834 г. появилась в «Телескопе» по-русски.3 Если припомнить, что Бальзак «по причине всеобщности французского языка» был «почти национален» в России, как выразился один из современников Лермонтова,4 и что произведения Бальзака появлялись по-французски в Париже и Петербурге одновременно благодаря выходившему в русской столице журналу «Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts», то уверенность в том, что Лермонтов мог читать «Историю тринадцати» и в оригинале и в переводе, будет полной и окончательной. Напомним — это потребуется впоследствии, — что по-французски произведение носит название «Histoire des treize», a сообщество, которое действует в произведении, по числу своих членов — «Les treize».
Четыре года спустя после того, как в письме к московской кузине Лермонтов горделиво заявлял, что не пишет романов, а делает их, в Петербурге возникло содружество, которое современники, о его существовании знавшие, окрестили по числу его членов «Les seize» («Шестнадцать») и которое вошло в литературу о Лермонтове под названием «кружка шестнадцати».
В сообщество входили молодые аристократы — граф Ксаверий Браницкий, Николай Жерве, Алексей Столыпин (Монго), барон Дмитрий Фредерикс, князья Александр и Сергей Долгорукие, Петр Валуев, князь Иван Гагарин, граф Андрей Шувалов, Паскевич и, главное, Лермонтов. Теперь к ним прибавляется Борис Голицын.5 Остальные по именам не известны. Э. Г. Герштейн, долгие годы изучавшая этот кружок и судьбу его членов, предположила, что ими могли быть князья Григорий Гагарин (художник), Александр Васильчиков (будущий секундант на дуэли Лермонтова с Мартыновым), Михаил Лобанов-Ростовский, Петр Долгоруков и граф Павел Шувалов. Может быть, в него входил князь Сергей Трубецкой! Исследовательница тщательнейшим образом собирала материалы об этом кружке, затратила годы на выяснение сущности и характера ежевечерних собраний. Это одно из самых значительных открытий в биографии Лермонтова. Но само название кружка с произведением французского романиста Герштейн не сблизила. А между тем дело, кажется, не только в названии.
Сообщение о том, что в Петербурге в 1839 г. существовал аристократический кружок, появилось в русской печати еще в конце прошлого века. Н. С. Лесков, упомянув о нем в одной из своих статей, прямо назвал его «кружком Лермонтова». Сведения о нем, в ту пору очень скупые, основывались на словах Ксаверия Браницкого — эмигранта, в молодости служившего в одном полку с Лермонтовым. В своей книге «Les nationalités slaves»6 в предисловии, написанном в форме письма к другому участнику кружка — И. С. Гагарину, который тоже эмигрировал во Францию и вступил там в орден иезуитов, Браницкий писал:
«В 1839 году в Петербурге существовало общество молодых людей, которое называли по числу его членов „Шестнадцатью“. Это общество составилось частью из окончивших университет, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или с бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем <...> как будто бы
III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе не существовало, — до того они были уверены в скромности всех членов общества.
Мы оба с вами принадлежали к этому свободному веселому кружку — и вы, мой уважаемый отец, бывший тогда секретарем посольства, и я, носивший мундир гусарского поручика императорской гвардии.
Как мало из этих друзей, тогда молодых, полных жизни, осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала их всех!».7
Далее Браницкий перечисляет погибших. И первым в списке стоит имя Лермонтова.
Эта страница воспоминаний была напечатана полвека спустя, да и то за границей. Но и тогда в ней нельзя было упомянуть имена тех, кто был еще жив и оставался в России. Поэтому-то Герштейн и угадывает неназванных членов кружка среди приятелей Лермонтова, которые ко времени выхода книги были живы, занимали посты на русской государственной службе или отличались на общественном поприще. Даже и через сорок лет напоминание об их прежней дружбе с Браницким, яростным врагом не только российского самодержавия, но и России, могло компрометировать их.
Судя по всему, правительству политический характер этих собраний был неизвестен, самый же факт существования такого содружества секрета, очевидно, не составлял. «... я видел, — писал летом 1840 г. Ивану Гагарину будущий славянофил Юрий Самарин, искавший в ту пору сближения с Лермонтовым, — как через Москву проследовала вся группа шестнадцати, направляющаяся на юг».8
Теперь Э. Г. Герштейн стало казаться, что кружок был раскрыт и выслан. В 1940 г., когда она впервые обнаружила новые сведения об этом кружке, она рассуждала более осторожно и обоснованно. И почти невозможно понять, как эта талантливая исследовательница могла без дополнительных фактов и аргументов отказаться от убедительнейшего вывода, к которому пришла прежде в итоге многолетней работы. Она же сама пишет о том, что все шестнадцать за исключением двоих вскоре после отъезда из Петербурга были представлены к знаку беспорочной службы. Вряд ли это могло быть, если бы они были заподозрены царем в создании политического сообщества. Напротив, именно этот факт и то, что следственных дел обнаружить не удалось, убедили ее в свое время, что молодые люди уехали на Кавказ, движимые корпоративным чувством, хотя единства политических убеждений в «кружке шестнадцати» не было. Молодых людей сближала ненависть к деспотизму николаевского режима и стремление к свободному обсуждению важнейших проблем, связанных с пониманием исторического и национального своеобразия России. При этом для них характерен острый интерес к Востоку и тот фатализм, который определял поведение некоторых членов кружка в боях, их демонстративное презрение к жизни. Люди отчаянной храбрости — такими рисуются многие из тех молодых людей, имена которых дошли до нас в списке Браницкого. Противник революционных преобразований маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 г. в надежде найти в империи Николая I образец политического устройства, в результате своего путешествия написал выдающийся по силе обличения российской монархии труд.9 В своей книге, не раскрывая по весьма понятным причинам имен, он пишет — и это тоже отмечено Э. Г. Герштейн, — что он видел в России людей, «краснеющих при мысли о гнете сурового режима, под которым они принуждены жить, не смея жаловаться». Эти люди, продолжает Кюстин, чувствуют себя свободными только перед лицом неприятеля. «Они едут на войну в глубине Кавказа, чтобы отдохнуть от ига, тяготеющего на их родине. Эта печальная жизнь накладывает преждевременно на их чело печать меланхолии, контрастирующую с их военными привычками и беззаботностью их возраста: морщины юности обличают глубокие скорби и вызывают живейшее сострадание; эти молодые люди заимствовали у Востока его серьезность, у воображения северных народов — туманность и мечтательность, они очень несчастны и очень привлекательны: ни один обитатель иных стран не походит на них».10
Очевидно, Кюстин познакомился с молодыми людьми, входившими в число шестнадцати. Э. Г. Герштейн уверенно относит к ним эту блистательную характеристику.
Было ли у этого кружка притягательное начало? Да! Притягательным центром кружка был Лермонтов.
Но не будем пока углубляться в проблемы, связанные с различиями во взглядах членов кружка, не станем выделять из этой компании Лермонтова; примем рассказ Браницкого как он есть. Ограничимся констатацией фактов.
Итак, осенью 1839 г. в Петербурге возник кружок под названием «Les seize», объединивший молодых аристократов, безбоязненно обсуждавших политические вопросы, связанные с судьбами России, проявлявших интерес к проблемам «азиатского миросозерцания». Это были люди, наделенные общим чувством протеста, умеющие молчать, уверенные друг в друге и в том, что существование кружка останется тайной для III Отделения, храбрецы, фаталисты, как пишет Браницкий, принимавшие за действительность «мечты необузданного воображения».
А теперь обратимся к Бальзаку. «Во времена Империи, — пишет Бальзак в предисловии к «Истории тринадцати», — случилось так, что в Париже встретились тринадцать человек, одинаково охваченные одними и теми же чувствами, наделенные достаточно большой энергией, чтобы блюсти верность одной и той же идее, достаточно честные в своих взаимоотношениях, чтобы не изменять друг другу, даже когда их интересы сталкивались, достаточно глубокие политики, чтобы таить священные узы, их соединявшие, достаточно сильные духом, чтобы поставить себя превыше всех законов, достаточно смелые, чтобы пойти на все, и достаточно счастливые, чтобы почти всегда преуспевать в своих намерениях; подвергаясь величайшим опасностям, они умалчивали о своих поражениях; недоступные страху, они не испытывали трепета ни пред лицом государя, ни пред лицом палача, ни пред лицом невинности; принимаемые всюду такими, как они были, они не считались с общественными предрассудками; несомненно преступные, они в то же время действительно отличались некоторыми свойствами, создающими великих людей и присущими только избранным».11
«Все Тринадцать, — продолжает Бальзак, — были людьми того же закала, что Трелони, друг лорда Байрона и, говорят, оригинал его Корсара; все — фаталисты, смелые и поэтические, — они пресытились пошлостью своей жизни и бросились искать азиатских наслаждений, влекомые к ним необычайной страстью. <...> Этот особый мир среди мира, враждебный миру, не приемлющий ни одной из идей мира, не признающий ни одного закона <...> не покоряющийся ничему, кроме долга преданности, отдавая все свои силы своему сообщнику, когда тот или иной из них потребует общего их содействия <...> этот интимный союз стоящих выше окружающих, холодных насмешников, улыбающихся и проклинающих, среди общества лживого и мелочного; уверенность, что все согнется перед ними по их прихоти, что месть их будет ловко задумана, что каждый из них живет в тринадцати сердцах...»12 — не будем продолжать цитату. Отметим только подробность, важную для сопоставления: «По вечерам они сходились вместе, как заговорщики, не тая друг от друга ни единой мысли <...> они были вхожи во все светские гостиные, запускали руки во все денежные ящики, толкались по улицам, лежали на всех подушках и без зазрения совести все подчиняли своей фантазии».13 Бальзак назвал тринадцать своих героев «сообществом деворантов». Это молодые аристократы, поставившие себя выше общества, убежденные, что общество должно принадлежать людям избранным, и ценящие превыше всего независимость и свободу действий.
Так, выяснив после долгих лет поисков, «каких не знал мир», что герцогиня Антуанетта де Ланже, удалившись от мира, скрылась в монастыре босоногих кармелиток — наиболее строгом среди католических монастырей Испании — и под именем сестры Терезы должна кончить жизнь на одном из островков Средиземного моря, Тринадцать приходят на помощь одному из своих сочленов — генералу Арману Монриво — и решаются похитить монахиню из обители, затерявшейся среди морских просторов. Их план смел до дерзости: зафрахтовать под видом научной экспедиции судно, подойти к неприступным скалам, на которых высится монастырь, и ночью по легкой лестнице, которую в несколько минут может уничтожить огонь, снести вниз сестру Терезу — бывшую герцогиню Ланже — и дать возможность Монриво обвенчаться с нею. Напомню, что из этой повести и заимствовал Лермонтов фразу о том, что он не пишет романов, а делает их.
И вот тут мы и должны вернуться к тому, о чем шла речь в самом начале, когда мы говорили, что в биографии Лермонтова до сих пор остаются нераскрытыми тайны, подступ к которым труден необычайно. Так, первый биограф поэта П. А. Висковатый (Висковатов) пишет, что у друга и родственника поэта Монго-Столыпина «была неприятность по поводу одной дамы, которую он защитил от назойливости некоторых лиц». «Рассказывали, — продолжает Висковатый, — что ему удалось дать ей возможность незаметно скрыться за границу (курсив мой, — И. А.) <...> В этом деле Лермонтов, как близкий друг Монго, принимал деятельное участие. Смелый и находчивый, он главным образом руководил делом. Всю эту скандальную историю желали замять и придавать ей как можно меньше гласности. Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. Бенкендорфу, очевидно, хотелось „добраться“ до поэта. С ним, кажется, можно было меньше церемониться. Лермонтов — по выражению графа Соллогуба — „не принадлежал по рождению к квинтэссенции петербургского общества“. Его проникновение туда, независимая манера держаться да еще вмешательство в интимные дела вызывали раздражение против него. Враги охотно выставляли Лермонтова прихвостнем Столыпина в гостиных столицы и всячески старались умалить его значение или уронить его в общественном мнении».14
Висковатый не знал в ту пору, что Лермонтов и Столыпин принадлежали к «кружку шестнадцати». А у нас есть возможность предположить, что в этом смелом предприятии Лермонтова принимал участие не один Монго-Столыпин, но и другие друзья поэта. Произошло это как раз в конце 1839 г. И как раз вслед затем появилась повесть Владимира Соллогуба «Большой свет», в которой Лермонтов под именем офицера Леонина выставлен в роли прихвостня знатного родственника своего Сафьева, — повесть, инспирированная, по признанию самого Соллогуба, членами царского дома. Именно после этого была спровоцирована дуэль
Лермонтова с сыном посла де Баранта и началась та травля, которая через год с небольшим привела к трагической встрече с Мартыновым у подножия Машука в Пятигорске. Что касается дела о поединке с Барантом, то император пожелал, чтобы оно было представлено ему «до пасхи» (очевидно, чтобы не распространять на Лермонтова традиционные «прощения» к празднику). В середине апреля последовала высочайшая резолюция — перевести Лермонтова на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк, тем же чином, а Столыпину указать, что «в его лета полезно служить, а не быть праздным».
Лермонтов выехал на Кавказ в начале мая. А два месяца спустя на юг потянулись и другие члены кружка, выхлопотавшие себе переводы в кавказские полки. Сообщение Висковатого сомнений не вызывает, ибо, как доказала недавно все та же Э. Г. Герштейн, Столыпин, удаленный на Кавказ одновременно с Лермонтовым, находился в опале и выход в отставку был для него закрыт в это время точно так же, как и для Лермонтова. Теперь, когда обнаружилась статья А. В. Дружинина, заключающая в себе пересказ неопубликованных воспоминаний одного из кавказских знакомцев и приятелей Лермонтова Руфина Ивановича Дорохова, становится окончательно ясным, что не только по уму и таланту, но и по свойствам характера Лермонтов был центром сообщества. «По натуре своей предназначенный властвовать над людьми <...> отличавшийся силой характера, наш поэт был честолюбив и скрытен», — пишет Дружинин, говоря при этом, что свое изгнание и немилость Лермонтов переносил так, как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, «предназначенными на борьбу и владычество».15
Очевидно, эти же свойства проявлялись в спорах Лермонтова в кружке молодых петербургских аристократов, которые, видимо, имели какие-то черты сходства с «Тринадцатью», если вызвали к жизни название «Шестнадцати».
Напомним, что 4 мая 1836 г. Пушкин пишет жене из Москвы, что друг его П. В. Нащокин называет издателей «Московского наблюдателя» «Les treize».16 Тут не стоит гадать, почему это название Нащокин прикрепил к «наблюдателям». Очевидно, считал их людьми решительными, ловкими, предприимчивыми. Но самое важное, что заглавие Бальзакова цикла из трех повестей было у всех на устах и в некотором смысле стало нарицательным именем.
А теперь вернемся к эпизоду, рассказанному П. А. Висковатым.
Кто эта «одна дама», которую Монго-Столыпин и Лермонтов защитили от назойливости «некоторых лиц»? Кто эти «лица»?
Как удалось молодым офицерам дать ей возможность «незаметно скрыться за границу»? При этом Висковатый сообщает, что не Столыпин, а именно Лермонтов, «смелый и находчивый», «главным образом руководил делом». «Всю эту скандальную историю желали замять и придавать ей как можно меньше гласности. Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. (Опять «некоторые лица»!) Бенкендорфу, очевидно, хотелось „добраться“ до поэта».
Намеки прозрачные. Бенкендорф не «некоторые лица». Бенкендорф фигурирует под фамилией. В письме к своему другу и ученику Е. А. Боброву Висковатый высказался более точно: «Лермонтову и Столыпину удалось спасти одну даму от назойливости некоего высокопоставленного лица»17 (тут уже в единственном числе). И все-таки даже полвека спустя Висковатый не решился в частном письме назвать это имя. Очевидно, Лермонтов защитил какую-то даму от назойливого внимания императора. Проникновение в высший свет и «вмешательство в интимные дела (курсив Висковатого!) вызывали раздражение против него».
Весь этот эпизод рисуется в ином свете, если представить себе, что Лермонтов действовал не один и не вкупе с Монго-Столыпиным, а замыслил эту дерзкую операцию, опираясь на сообщество независимых молодых людей, которых объединяла ненависть к николаевскому режиму. Этим людям «интимное дело» Николая не кажется таковым, а дополняет представление о деспотии, попирающей человеческое достоинство.
Чтобы прояснить иносказания Висковатого, попробуем обратиться к некоторым фактам, относящимся к этому времени. Но прежде чем назвать имена, напомним известное.
Для удобства императора, прославившегося в качестве «рушителя» семейной чести своих подданных, девушку, обратившую на себя «высочайшее» внимание, жаловали во фрейлины, после чего она поселялась во дворце и становилась кратковременной фавориткой. Это благосклонное внимание государя завершалось тем, что императрица начинала сватать недавнюю избранницу за кого-либо «лично известного» государю. При этом чаще всего избранный ею жених и родители невесты рассматривали это сватовство как проявление особой монаршей «милости». Но бывало (хоть это случалось нечасто), что история принимала другой оборот. И те, кому следовало о том беспокоиться, старались, чтобы скандальные слухи не вышли за пределы узкого придворного круга.
В июле 1839 г. объявлено было, что баронесса Ольга Фредерикс пожалована фрейлиной к дочери Николая — великой княгине Марии.18 Надо знать, кроме того, что Ольга Фредерикс была дочерью генерала-адъютанта барона П. А. Фредерикса, командира лейб-гвардии Московского полка, человека, доказавшего свою преданность Николаю 14 декабря 1825 г., когда он, Фредерикс, выйдя к восставшим солдатам, упал от удара саблей по голове, нанесенного ему поручиком Щепиным-Ростовским. Мать молодой фрейлины — Цецилия Владиславовна, урожденная графиня Гуровская, полька и католичка, с детских лет состояла в интимной дружбе с императрицей, была с нею на «ты», виделись они ежедневно, и дети Фредериксов воспитывались во дворце вместе с детьми императора. Это не помешало Николаю проявить интерес к подруге своих детей.
Великий критик Н. А. Добролюбов в статье «Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев», приведя эпизоды, рисующие нравы императорского двора, пишет: «Рассказывают подобную историю о Никитине, женившемся на фрейлине, дочери барона Фредерикса. Не нашедши в жене того, чего ожидал, вероятно, он позволил себе упрекать ее и даже, говорят, довольно резко. Жена пожаловалась, и скоро Никитин был обвинен в какой-то нелепейшей истории — в покупке города где-то в Польше и в заплате за него фальшивыми деньгами. Кончилось тем, что его сослали. Жена осталась при дворе, а потом отправилась за границу. Тогда и Никитин был оправдан и возвращен».19
Факты изложены Добролюбовым не совсем точно, но по существу подтверждаются. Никитин обыграл в карты Любомирского, польского князя. И предъявил тому долговые расписки.20 Желая наказать Никитина за строптивость, Николай приказал уничтожить все долговые акты, объявив их актами незаконными, о чем III Отделение и сообщило Министерству юстиции. Дело разбиралось в Сенате и оказалось настолько вздорным, что кончилось в пользу Никитина. В архиве III Отделения хранилось «Дело по жалобе поручика Василия Никитина на жену свою, преданную предосудительной жизни», оконченное с ее смертью в 1859 г. Через десять лет оно было уничтожено, так как не подлежало хранению. Мы знаем о нем только из описи.21
Косвенно эта история отразилась в мемуарах одной из дочерей Николая I (Ольги), которая, вероятно, даже и не догадываясь о причинах, рассказывает о крушении дружбы между Фредериксами и царской семьей, последовавшем вскоре после описанных здесь событий. «С годами и заботами, которые принесли ей ее дети, — пишет о Цецилии Фредерикс дочь Николая, — она перестала любить общество... Мы стали меньше видеться, и привычки изменились».22 «Опустошенная душа» Сесили Фредерикс «искала покоя и поддержки». Интересно также, что младшая сестра Ольги Фредерикс, Мария, восторженная почитательница царской семьи, подробно описывая в своих воспоминаниях годы дружбы семьи Фредериксов с царской семьей, ни слова не пишет о сестре своей Ольге. Очевидно, даже упоминание этого имени вызывало в памяти замятый скандал.
Вся эта история представится в другом свете, если сказать, что баронесса Ольга Петровна Фредерикс приходилась родной сестрой члену «кружка шестнадцати» — Дмитрию Фредериксу, а муж ее Василий Павлович Никитин — корнет лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в Царском Селе, был однополчанином Лермонтова, Столыпина, Александра Долгорукого, Андрея Шувалова и Ксаверия Браницкого. Это пятеро из шестнадцати. И все говорит о том, что Лермонтов не мог не знать этой истории и не мог не выразить так или иначе своего отношения к ней. Если допустить, что он и его друзья вмешались в эту историю и что именно они помогли Ольге Фредерикс выехать за границу, можно определенным образом трактовать слова брата царя Михаила Павловича, которые относятся именно к тому времени, когда Лермонтов и Столыпин жили вместе в Царском Селе на углу Большой и Манежной, где собирались гусары. «Товарищество (esprit de corps), — пишет по этому поводу родственник поэта Михаил Лонгинов, — было сильно развито в этом полку». И продолжает: «Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого „esprit de corps“, приписывал происходившее в гусарском полку подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что „разорит это гнездо“, то есть уничтожит сходки в доме, где они жили».23
Можно себе представить, как при этом «духе товарищества» должны были отнестись лейб-гусары, и прежде всего Лермонтов и Столыпин, к судьбе своего однополчанина Никитина и сестры одного из сочленов кружка — Дмитрия Фредерикса, — опозоренной, обесславленной в глазах света не тем, что она стала фавориткой монарха, а тем, что разыгрался скандал. Если Лермонтов и его друзья действительно помогли молодой женщине выбраться из пределов России (Добролюбов пишет: «... а потом отправилась за границу»), сумели помочь ей, обманув бдительность городской полиции и III Отделения и вмешавшись в личную жизнь императора, тогда эта история представляется совершенно в духе Бальзака — судьбы герцогини де
Ланже и приключений Армана Монриво и его друзей, одержимых духом протеста против законов света, связанных узами дружбы, «не доступных страху ни пред лицом государя, ни пред лицом палача».
Кстати, вмешательство шестнадцати молодых людей в эту историю не должно вызывать недоумения. И то, что, кроме Лермонтова и Столыпина, никто из них не был удален из столицы, может быть объяснено тем, что участие других в этом деле осталось неизвестным III Отделению. Что же касается Лермонтова и Столыпина, то это уже не гипотеза, а факт, подтвержденный неоспоримыми документами, что Бенкендорф стремился под любым предлогом удалить их из столицы; это и было сделано вскоре: спровоцировано столкновение с Барантом, и оба — под разными формулами — отправлены на Кавказ. Некоторые друзья потянулись за ними, но часть отправилась в другие места: Гагарин — в Париж, Браницкий и Шувалов — в Варшаву, Валуев остался в столице. Это было в середине 1840 г. К началу 1841 г. они снова съехались в Петербурге.
Прояснить вопрос можно было бы только в том случае, если в нашем распоряжении оказались бы документы. Но ведь такого рода дела отражения в документах найти не могли. Помолвка Ольги Петровны Фредерикс и гусара Никитина, как видно из переписки Я. К. Грота с П. А. Плетневым, произошла в конце сентября 1840 г.24 Лермонтова в ту пору в столице не было. Как сказано, в мае он и Столыпин были отправлены на Кавказ. Поэтому, если Лермонтов причастен к судьбе Фредерикс, стало быть, история эта могла относиться только к началу 1841 г., когда он в последний раз приезжал в Петербург, куда одновременно с ним вернулись с Кавказа другие члены «кружка шестнадцати». В таком случае следует полагать, что свадьба состоялась до начала поста 1841 г. (Лермонтов приехал в середине масленицы), а скандал с Ольгой Фредерикс разыгрался в то время, когда он еще находился в столице. И с этим связана последняя высылка — переданный генерал-адъютантом Клейнмихелем 12 апреля 1841 г. приказ Бенкендорфа немедленно — в 48 часов — выехать на Кавказ, к полку! Если же Висковатый не ошибается и побег молодой женщины за границу относится к концу 1839 — началу 1840 г. и предшествует дуэли с Барантом, то возникает другая фамилия. Но так или иначе становится ясным: к тому, что мы знаем о Лермонтове, прибавляется еще один эпизод, в котором выразился смелый и благородный характер поэта. Как Пушкин погиб, защищая честь женщины, так и лермонтовская гибель была ускорена проявлением иного отношения и к царю, и к престолу, и к понятию чести, чем то, которое исповедовало великосветское общество. Независимость поведения в жизни, неотъемлемая от независимой литературной позиции и независимого образа мыслей в стихах, — вот что проявилось в этой истории, которой до сих пор не придавалось значения только по той причине, что таинственные намеки П. А. Висковатого не позволяли угадать имена.
Впрочем, дело даже не в именах, а в характерности эпизода, в «типичности» такого конфликта, который не мог пройти незамеченным для шестнадцати молодых людей, имевших при всех вариантах самое близкое отношение к происходящему. Пусть это не сестра Фредерикса, это могла быть сестра Столыпина. Но важно, что в обоих случаях это кровное дело «Шестнадцати».
Специалист по русской генеалогии М. Я. Тюлин приписал в разделе «Столыпины» возле имени сестры Алексея Аркадьевича Столыпина (Монго) Марии Аркадьевны, вышедшей замуж за поэта Ивана Александровича Бека: «Свадьба эта была устроена М-выми, у которых жили после смерти своей матери дети Столыпина, якобы потому, что в связи с назначением Веры Аркадьевны фрейлиной того же боялись для ее сестры. Ей было 17 лет».25
Что значит «того же боялись для ее сестры»? Боялись назначения фрейлиной? Сомнений не возникает: иначе эту фразу понять нельзя.
«М-вы», поторопившиеся выдать замуж сестру Монго-Столыпина, — это Мордвиновы. В этом тоже не возникает сомнения. Монго был внуком знаменитого адмирала Николая Семеновича Мордвинова, которого за независимость мнений, за прямодушие принято было называть «русским Катоном». На дочери Мордвинова был женат брат бабки Лермонтова Е. А. Арсеньевой — Аркадий Алексеевич Столыпин, принадлежавший к числу близких друзей К. Ф. Рылеева. Столыпин умер в 1825 г., до восстания. Жена его — мать Монго — Вера Николаевна Столыпина умерла в 1834 г., оставив на руках своих родителей пятерых детей. Все пятеро, по словам современников, отличались выдающейся красотой.
Вера Аркадьевна Столыпина была «пожалована фрейлиной» к дочери Николая 1 великой княжне Александре в марте 1839 г.
Мордвиновы очень неохотно дали согласие на ее назначение ко двору. Вначале ее отпускали только днем, с тем чтобы она ежевечерне возвращалась к дедушке с бабушкой. Потом ей пришлось переселиться во дворец.
Во фрейлины можно было пожаловать по статуту только девицу. Когда ко двору хотели приблизить замужнюю, придворное звание получал муж. Так было с Пушкиным. Жить во дворце замужняя женщина не могла. Спешно устраивая свадьбу младшей Столыпиной, Мордвиновы хотели перехитрить царя.
В записи Тюлина есть неточность. Мария Аркадьевна Столыпина, старшая из сестер Монго, была замужем с 1837 г. В 1839 ей было 23 года. К ней эти сведения относиться не могут. 17 лет было Екатерине, младшей сестре Монго. Но эта неточность смысла записи Тюлина не меняет. Мордвиновы (а следовательно, и Лермонтов со Столыпиным) должны были уберечь вторую сестру от грозившей ей «благосклонности» императора. Видимо, о предстоящем назначении младшей Столыпиной фрейлиной кто-то оповестил их заранее.
Кто мог предупредить их?
К числу самых осведомленных во всей Российской империи лиц по части всех политических и неполитических замыслов и предположений принадлежал родственник Мордвиновых и Столыпиных Александр Николаевич Мордвинов — управляющий III Отделением «собственной его императорского величества канцелярии».
Вера Аркадьевна Столыпина стала фрейлиной 14 марта 1839 г. А через три дня — 17 марта — царь потребовал представить ему проект указа об «отрешении» Мордвинова от должности, которую тот занимал в продолжение многих лет.26Официально Мордвинов был отстранен за то, что разрешил напечатать в сборнике «Сто русских литераторов» портрет писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского. Вероятно, в его положении это было оплошностью. Но полные собрания сочинений Бестужева (правда, под псевдонимом А. Марлинский) выходили в 1830-х годах дважды, их знала вся грамотная Россия. За разрешение напечатать портрет декабриста, уже умершего к тому времени, царь мог ограничиться изъявлением неудовольствия. Но Мордвинов вызвал такой неукротимый гнев Николая, что тотчас был отдан приказ от должности «отрешить», лишив при этом звания статс-секретаря. Только благодаря усиленному ходатайству Бенкендорфа, просившего вменить это в особую к нему, Бенкендорфу, «высочайшую милость», Николай согласился на резолюцию «уволить». После этого Мордвинов долго находился без всякого назначения, и все представления Бенкендорфа, хлопотавшего о своем бывшем помощнике, оставались без последствий. Только по прошествии полутора лет Мордвинов получил назначение на пост вятского гражданского губернатора. Звание же статс-секретаря никогда ему возвращено не было.27 «Статс-секретарь А. Н. Мордвинов отставлен от управления Третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии, — отметил в своих записках сенатор К. Н. Лебедев. — Говорят, что причиною немилости оплошное дозволение напечатать под портретом Марлинского: „А. Бестужев“. Я не думаю, что при этом не было другой важнейшей причины ...».28
14 марта — Столыпина — фрейлина. 17 марта — отрешение Мордвинова. Конечно, это, может быть, только случайное совпадение чисел. Но тюлинская запись многозначительна: к слухам о тревоге родных за честь сестры Монго-Столыпина мы должны отнестись со вниманием. Событие, описанное П. А. Висковатым, в жизни поэта сыграло огромную роль. А это обязывает нас доискаться первопричины.
Э. Г. Герштейн, изучавшая дневники императрицы — жены Николая I, опубликовала ее запись, датированную 5 мая 1839 г.: «Амели Крю. Монго-Столыпин». Других данных, связывающих имена Столыпина и баронессы Амалии Крюденер — жены русского дипломата А. С. Крюденера — в нашем распоряжении нет.
Крюденер была двоюродной сестрой императрицы (через свою мать принцессу Турн-и-Таксис). «Служба Бенкендорфа очень страдала от влияния, которое оказывала на него Амели Крюденер, — пишет дочь Николая I Ольга Николаевна, вспоминая события 1837 г. — Она пользовалась им холодно, расчетливо распоряжалась его особой, его деньгами, его связями... Под добродушной внешностью, прелестной, часто забавной натурой скрывалась хитрость самого высокого порядка».29
Воспитывалась эта особа в Германии, в семье графа Лерхенфельда, ее выдали замуж за старого и неприятного человека, и в Петербурге, решив вознаградить себя, она окружила себя обществом, в котором могла повелевать. Когда ее отношения с Бенкендорфом стали очевидными, а также стали ясны католические интриги, которые она плела, Николай удалил ее «без того, чтобы вызвать особое внимание общества». Для ее мужа был найден пост посла в Стокгольме.
Нет, не ей помогли скрыться за границу Лермонтов и Столыпин. Соседство имен в дневнике императрицы может означать лишь, что в этот день шел какой-то разговор о Столыпине, может быть связанный, а может быть и не связанный с этой высокопоставленной дамой. Гораздо важнее, что сведения, которыми располагал Висковатый, совпадают с версией Добролюбова и что Лермонтов с помощью Столыпина кого-то спасает от слишком явного намерения императора. Но даже независимо от того, сестра ли это Дмитрия Фредерикса или сестра Столыпина, эта история, повторяю, была известна «Шестнадцати» и не могла оставить их равнодушными, тем более Лермонтова (это ведь и его родня: Монго и мать Лермонтова — двоюродные). Да и странно было бы, если бы участники «кружка шестнадцати», отправившиеся на Кавказ за Лермонтовым и вернувшиеся вслед за ним в Петербург в начале 1841 г., оказались бы не посвященными в эту историю, не знали бы о дерзком поступке своих друзей и в той или другой форме не выразили бы своей солидарности с ними. Нет сомнения: знали. Не могли не знать. Но их связь с этим делом осталась тогда неизвестной III Отделению, хотя, возможно, какие-то подозрения у Николая I были. Не случайно же шеф императорской гвардии великий князь Михаил Павлович грозился воспрепятствовать собраниям молодых лейб-гусаров на царскосельской квартире Лермонтова и Монго. Впрочем, все здесь изложенное не более чем гипотезы. Связь же с Бальзаком названия и самого сообщества шестнадцати молодых людей кажется мне несомненной. Цель всех этих наблюдений не в том, чтобы делать из них поспешные выводы — для этого нет убедительных доказательств, а в том, чтобы, сопоставив несколько новых фактов, направить внимание на события, сыгравшие важнейшую роль в судьбе Лермонтова в 1839 — 1841 гг. В том, чтобы определить направление поисков.
Но где, в каких архивах можно обнаружить концы этой истории? Приложено немало усилий: просмотрены «всеподданнейшие» доклады шефа жандармов царю, описи дел III Отделения, списки лиц, отправлявшихся за границу, перечень происшествий за каждую треть каждого интересующего нас года, описи документов канцелярии петербургского полицмейстера, высочайшие приказы по армии, списки офицеров гвардейской кавалерийской дивизии, придворные календари и месяцесловы, мемуары, статьи в старых журналах. Хожено: в Москве в Архив Октябрьской революции, в Военно-исторический архив, в Ленинграде в Исторический архив, в Архив Ленинградской области и в Пушкинский Дом... Нет следов! Ясно, что дело решалось даже не на основании слов, а по намекам, по неудовольствию в разговоре, по тону, по мимоходом брошенной фразе. Записать в дневнике такую историю было опасно. Видимо, ее рассказал кто-то из современников Лермонтова, когда Висковатый в конце 1870-х годов стал собирать материал для биографии поэта и начал встречаться с людьми, его знавшими. Но в книге своей Висковатый редко указывает, от кого слышана та или другая история. Не называя рассказчика, он пишет: «рассказывали», «как довелось нам услышать», «достоверно известно», «много называли и называют имен». Он предпочитает безличные формы: «Находили, что молодой офицер», «начинали быть недовольными», «советовали», «полагали, что будет полезным...» и т. д. Отчасти это делалось для соблюдения приличия (были живы родные тех лиц, о коих шла речь), но чаще из предосторожности политической. Назвать императора, да еще по такому «интимному» поводу, Висковатый не мог. Но нет никакого сомнения, что, подробно записывая эти рассказы, он в бумагах своих помечал, от кого слышал их. Затруднение лишь в том, что записи эти, как и весь архив Висковатого, до нас не дошли. Если бы мы располагали его архивом, то могли бы установить имя той, которой Лермонтов и его друзья помогли выехать за границу.
Павел Александрович Висковатый читал лекции в Дерптском университете. Отслужив свои двадцать пять лет, он переехал в столицу, стал директором одной из петербургских гимназий и умер в Петербурге в 1905 г. И архив его нужно было искать в Ленинграде, где до блокады жила его дочь Павла Павловна. После войны это оказалось делом уже невозможным.
Занимаясь Лермонтовым долгие годы, я почти не встречал рукописей, писанных почерком П. А. Висковатого, если не считать копий лермонтовских стихотворений и помет ученого на лермонтовских рисунках. Спрашивать в архиве, который я посещал впервые, нет ли там материалов П. А. Висковатого, стало для меня правилом.
И вот — это было в 1948 г. — в Ленинграде. Я занимаюсь в Пушкинском Доме в Рукописном отделе. На стол тихонько кладется какая-то папка. Раскрыл — листы, писанные рукой Висковатого. Довольно много листов: подготовительный материал к биографии Лермонтова. И в записях этих упоминаются даты, когда Висковатый слушал рассказы о Лермонтове людей, его знавших, и самые имена этих людей...
Спрашиваю у сотрудницы:
— Откуда это взялось?
— Это — дар.
— От кого?
— Даритель не пожелал назвать имени.
— Но мне нужно знать это имя!
— Спросите у Льва Борисовича.
А надо сказать, что Рукописным отделом заведовал тогда известный пушкинист Лев Борисович Модзалевский, сын пушкиниста старшего поколения — Модзалевского Бориса Львовича.
Я к нему в кабинет.
— Лев Борисович, откуда это взялось?
— Я положил.
— Ты?
— Да, это история долгая... Сестра моего отца была замужем за племянником Висковатова — Василием Васильевичем. Архив перешел к этому Василию Васильевичу. Его фамилия тоже Висковатов. Я сам стремлюсь добраться до этих бумаг, но, как ни странно, мне это сложно из-за родства. Между прочим, «твой» Висковатов взял на время из Архива Академии наук массу неопубликованных документов, в том числе ломоносовские бумаги, и умер, не вернув их. И Василий Васильевич не отдавал.
— Кто этот Василий Васильевич? Где он живет?
— Да он уже умер — не то в 36, не то в 37 году. Жил в Москве, был художником. К нему попали лермонтовские рисунки и какие-то рукописи лермонтовские — я думаю, копии... Архив еще недавно был цел. И я знаю примерно, у кого он находится.
Должен обязательно его разыскать. Меня прежде всего интересуют ломоносовские бумаги. Хочешь вместе? Тебе, москвичу, это проще, чем мне. Если можешь, приходи ко мне вечером. Расскажу тебе все подробно...
— Я уезжаю сегодня в Москву...
— Ну тогда до Москвы отложим. Я послезавтра еду туда, могу прийти к тебе, и мы решим, как нам действовать.
На том и расстались.
Через несколько дней я узнал, что, переходя по мосткам курьерского поезда из одного вагона «Стрелы» в другой, Модзалевский погиб. Вместе с ним исчезла тайна архива.
Я начал искать один. Четырнадцать лет искал без всякого результата. Ни загсы, ни кладбища, ни адресный стол ничего не открыли. Ходил в Союз художников, во «Всекохудожник» — не было у них Висковатова. Кого только не спрашивал про Василия Васильевича! Кого только не мучил!
Наконец, решил рассказать про Василия Васильевича по телевидению. А рассказав, попросил зрителей записать телефон студии или адрес. И сообщить, кто что знает. К концу передачи дежурная передала список — двадцать шесть человек звонили: хотят вам что-то сказать.
Через два дня я знал о Василии Васильевиче Висковатове больше, чем рассчитывал узнать.
Он родился в 1875 г. Служил в Петрограде в Государственном банке. В 1918 г. вместе с банком был эвакуирован в Москву. Продолжал работать на прежнем месте. Жил в Рыбном переулке, дом 3, квартира 12. В свободное время делал макеты для промышленных выставок. Умер в 1937 г.
Рассказ мой слышал по телевидению москвич Владимир Николаевич Кудрявцев. Мы встретились с ним, и от него я узнал имена людей, которые могли видеть В. В. Висковатова в последние годы жизни.
Снова начались поиски. Но Василию Васильевичу было бы сейчас более ста лет. Люди, с которыми он общался в то время, тоже принадлежали к числу пожилых. С тех пор прошли годы. Была война. Те умерли, другие погибли, третьих вовсе не удалось разыскать.
Но каковы были мои радость и огорчение, когда отыскалась одна из родственниц Висковатова и в разговоре по телефону сказала: «Как жаль, что в ту пору, когда я приезжала в Москву и заходила к Василию Васильевичу, так была поглощена своими делами, что не заглянула в папку с лермонтовскими рисунками! Если б они только нашлись!»
Да, если б нашлись! Но еще лучше, если бы в папке с рисунками лежали бумаги П. А. Висковатого, и мы, любуясь рисунками, нашли бы разгадку биографической тайны поэта — разгадку, которая так важна для понимания его трагического конца.
Сноски
1 Стасов В. В. Училище правоведения сорок лет тому назад в 1836 — 1842 годах. — Рус. старина, 1881, № 2, с. 410
2 «Un homme <...> qui avait toujours fait des romans au lieu d'en écrire» (Balsac O. de. Histoire des treize. Paris, 1840, p. 189).
3 Телескоп, 1834, ч. 24, с. 23 — 60, 88 — 148, 171 — 225, 253 — 282, 317 — 371, 389 — 404.
4 Шевырев С. П. Парижские эскизы. Визит к Бальзаку. — Москвитянин, 1841, № 2, с. 362.
5 См. статью Э. Г. Герштейн в настоящем сборнике (с. 182 — 187).
6 Korczak-Branicky X. Les nationalités slaves. Lettres au révérend P. Gagarin. Paris, 1879.
7 Цит. по: Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 304.
8 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 298.
9 Custine A. de. La Russie en 1839, vol. 1 — 4. Paris, 1843.
10 Цит. по: Герштейн Э. Судьба Лермонтова, с. 328.
11 Бальзак О. де. Собр. соч., т. 8. М. — Л., 1934, с. 47.
12 Там же, с. 50 — 51.
13 Там же, с. 51.
14 Висковатый (Висковатов) П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, с. 324 — 325.
15 Цит. по: Герштейн Э. Судьба Лермонтова, с. 139. — Слова «предназначенный властвовать над людьми» в рукописи зачеркнуты.
16 Пушкин. Полн. собр. соч., т. 16. [М. — Л.], 1949, с. 111.
17 Изв. отд. рус. яз. и лит: имп. Акад. наук, 1903, т. 14, кн. 1, с. 90.
18 С.-Петербургские ведомости, 1839, № 152.
19 Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. в 6-ти томах, т. 4. М., 1937, с. 451 — 452, 545.
20 Колмаков М. Н. Воспоминания. — Рус. старина, 1886, № 12, с. 532 — 533. См. также: Опись дел архива Государственного совета, т. 7. СПб., 1911, с. 348 (Дело об обыгрании в карты В. П. Никитиным князя Любомирского).
21 ЦГАОР, ф. 109, оп. 89 — 90 (Опись дел III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, 2-й экспедиции).
22 Сон юности. Записки дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской. Париж, 1963, с. 21 — 24.
23 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 155.
24 Грот Я. К., Плетнев П. А. Переписка, т. 1. СПб., 1896, с. 61.
25 ИРЛИ, Р. I, оп. 46, № 6, л. 182 об. (генеалогические материалы М. Я. Тюлина).
26 Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа — Рус. старина, 1889, № 7, с. 8.
27 Копии с собственноручных записок Николая I <...> к статс-секретарю А. С. Танееву с 1828 по 1854 г., ч. 2, 1839 — 1854.
28 Из записок сенатора К. Н. Лебедева. — Рус. арх., 1910, № 7, с. 396.
29 Сон юности..., с. 78 — 79.