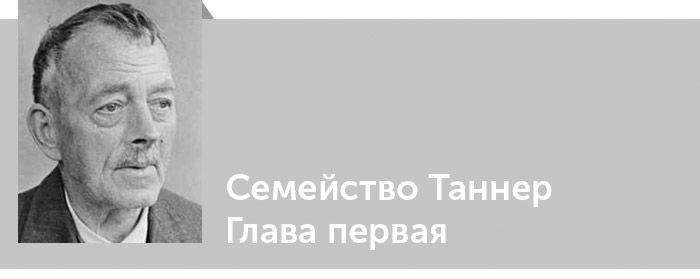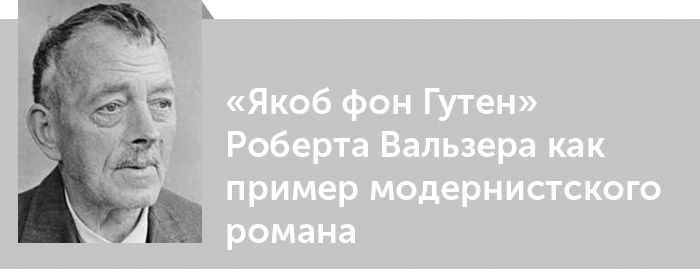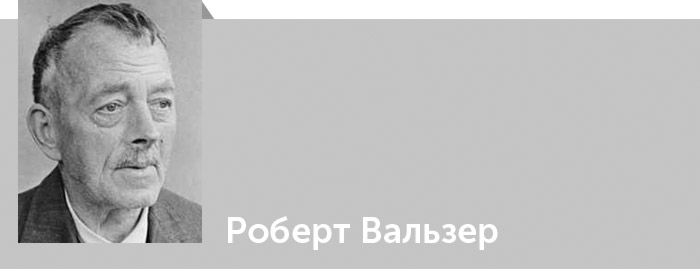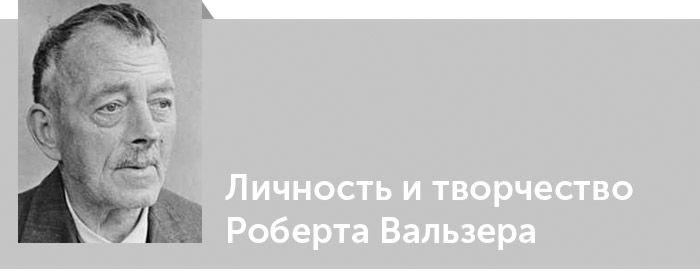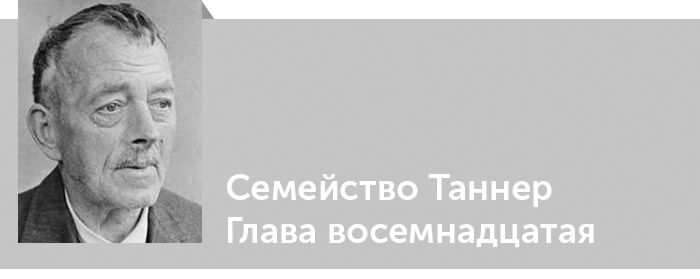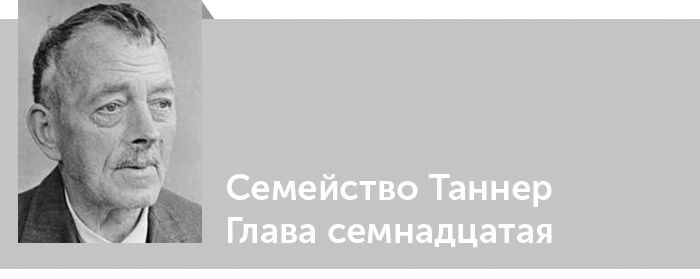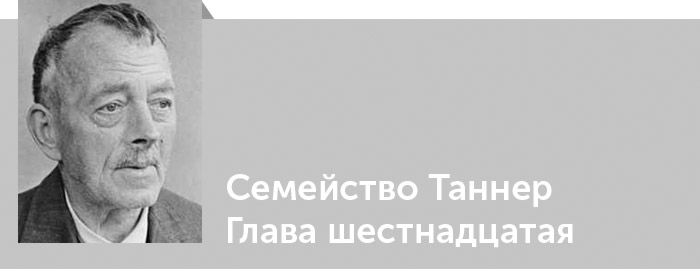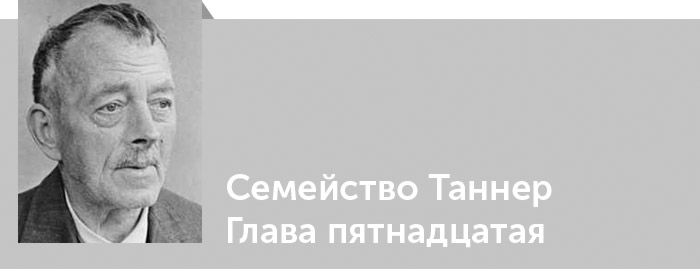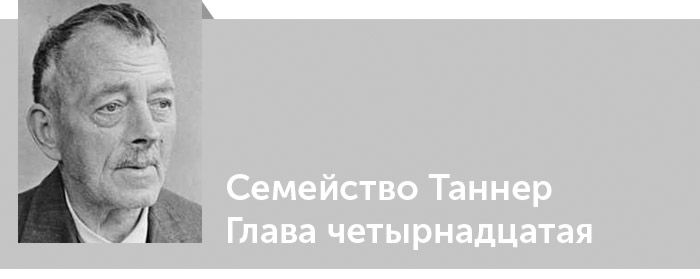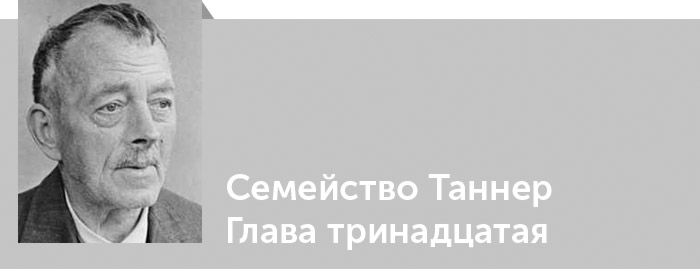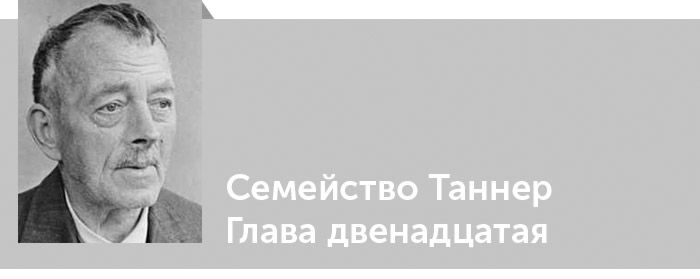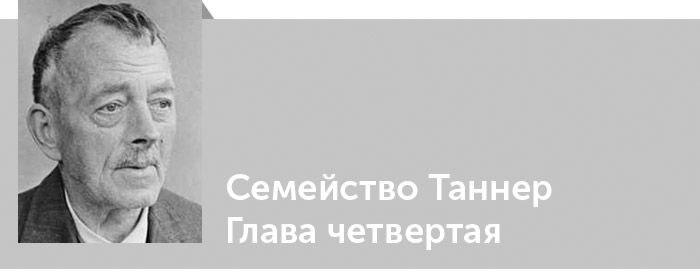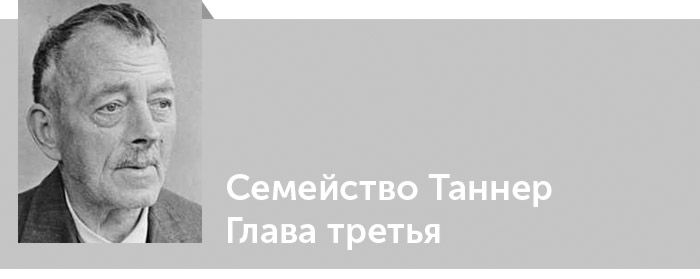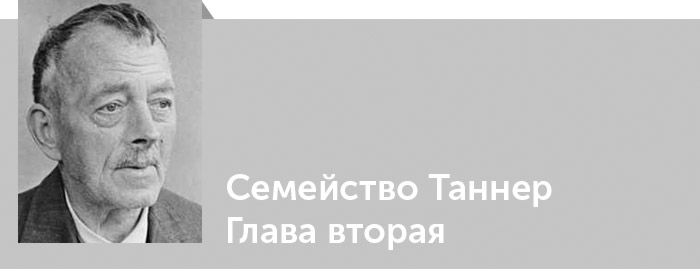Роберт Вальзер. Семейство Таннер. Глава 5
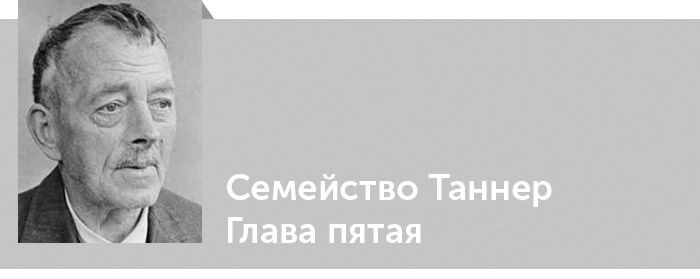
Себастиан – молодой поэт из тех, что декламируют свои стихи публике с небольших подмостков. При этом по причине излишней порывистости он обычно выглядел довольно смешно. В юные годы он сбежал от родителей, в шестнадцать лет очутился в Париже, а в двадцать вернулся. Отец его служил дирижером в городке, где жила сестра трех братьев Таннер, Хедвиг. Там Себастиан вел на удивление праздную жизнь, целыми днями сидел в своей пыльной мансардной каморке или валялся на узкой кровати, где ночами спал, не давая себе ни малейшего труда приготовить ее ко сну. Родители считали его безнадежным и позволяли делать все, что заблагорассудится. Денег они ему не давали, полагая, что им незачем оплачивать причуды сына, которыми он только и занимался. К серьезному учению Себастиана было уже не сподвигнуть; с какой-нибудь книгой под мышкой или в кармане он бродил в горах по лесам, часто по нескольку дней кряду не появляясь дома, ночевал, коли погода худо-бедно позволяла, в полуразрушенных хижинах, куда никто, даже нелюдимые суровые пастухи, не заглядывал, на пастбищах, расположенных ближе к небесам, чем к человеческой цивилизации. Ходил он все время в одном и том же затасканном костюме из светло-желтого сукна, отпустил бороду, но в остальном очень старался иметь вид приятный и опрятный. О своих ногтях пекся больше, чем об уме, который у него попросту одичал. Он был красив, а так как все знали, что он сочиняет стихи, вокруг его персоны распространялся полусмехотворный-полумеланхоличный волшебный ореол, и в городе хватало разумных людей, которые искренне сочувствовали этому молодому человеку и, по возможности, принимали в нем самое сердечное участие. Поскольку он отличался общительностью и был превосходным собеседником, его часто приглашали на вечеринки и таким манером немного вознаграждали за то, что мир не ставил перед ним иных задач, способных удовлетворить его стремление к действию. Этим стремлением Себастиан обладал в высокой степени, только вот он слишком уж выбился из колеи общепринятого и предписанного. Быть может, стремился чересчур неистово, а теперь, когда понял, что от его стремления мало толку, вовсе потерял охоту стремиться к чему-либо. Играл на лютне песни, которые сам сочинял, и пел приятным, мягким голосом. Единственная – правда, большая – несправедливость, которую ему причинили, заключалась в том, что еще в школе все осыпали его ласками и внушили ему, будто он чуть ли не гений. Как глубоко запечатлевается этакая гордая фантазия в восприимчивом мальчишеском сердце! Взрослые женщины любили общество рано повзрослевшего, всепонимающего отрока, который казался им невероятно привлекательным, и тем наносили ущерб его человеческому развитию. Себастиан часто говаривал: «Время моего блеска давно позади». Ужасно слышать такое от столь молодого человека. В самом деле, чем бы он ни занимался, к чему бы ни стремился, что бы ни начинал, все это он делал с усталым, холодным, безучастным сердцем, а потому не делал вовсе ничего, просто играл в игры сам с собою. Хедвиг однажды сказала ему: «Себастиан, послушайте, я думаю, вы часто сами себя оплакиваете». Он кивнул в подтверждение. Хедвиг сочувствовала ему и порой давала немного денег или еще что-нибудь, лишь бы чуточку скрасить его жизнь. Вот и на сей раз, отправившись к братьям, она взяла его с собой. В тот вечер, когда Клара блаженствовала, Клаус был печален и одинок, Симон – счастлив, а Каспар – взволнован и весел, оба они, Хедвиг и ее поэт, медленно и в молчании, тоже прогуливались по берегу. Что тут скажешь – вот они и молчали. Каспар подошел к ним:
– Я слыхал, вы работаете над стихотворением, в котором намереваетесь отразить содержание вашей жизни. Но как можете вы передать жизнь, ведь вы еще толком не жили. Посмотрите на себя: вы сильны и молоды, а хотите забиться за письменный стол и воспевать свою жизнь в стихах. Займитесь этим, когда вам стукнет пятьдесят. Я, между прочим, считаю постыдным для молодого человека кропать стихи. Это не работа, а всего-навсего пристанище для бездельников. Я бы слова не сказал, если бы ваша жизнь была прожита до конца и завершилась каким-нибудь большим умиротворяющим событием, которое дает человеку право оглянуться на ошибки, добродетели и заблуждения. Вы же как будто никогда еще не делали ошибок и опять-таки никогда не совершали добрых дел. Сочиняйте, только когда станете грешником или ангелом. А лучше не сочиняйте вовсе…
Каспару Себастиан не нравился, потому он и насмехался над ним. Трагические фигуры вообще не находили у него понимания, вернее, он понимал их слишком легко и слишком хорошо, а потому не уважал. Вдобавок сегодня он пребывал в чертовски желчном настроении.
Хедвиг вступилась за обиженного беднягу, который не мог постоять за себя.
– Нехорошо с твоей стороны этак говорить, Каспар, – сказала она брату с горячностью, каковую придала ей охота защитить Себастиана, – нехорошо и неумно. Тебе доставляет радость обидеть человека, которого надо бы щадить и оберегать из-за его несчастий. Смейся сколько хочешь. Ты ведь жалеешь о своих словах. Если б я тебя не знала, то сочла бы грубияном, мучителем. Обижать бедного, беззащитного человека все равно что мучить бедного зверька. Беззащитные слишком легко вводят сильных в соблазн причинить боль. Радуйся, коли можешь чувствовать себя сильным, и оставь в покое тех, кто слабее. Используя силу, чтобы терзать слабых, ты бросаешь на нее тень. Отчего тебе мало твердо стоять на ногах, неужто надобно еще и ставить ногу на шею неуверенных и ищущих, чтобы они вконец потеряли уверенность в себе и упали, да-да, упали в волны отчаяния? Неужто самоуверенность, храбрость и целеустремленность должны постоянно совершать грех жестокости, безжалостности и бестактности по отношению к ближним, которые вовсе не стоят у них на пути, просто жадно слушают звуки славы, почета и успеха, предназначенные другим? Благородно ли и хорошо ли обижать тоскующую душу? Поэты так легко уязвимы; о-о, не надо обижать поэтов. Кстати, я говорю сейчас вовсе не о тебе, Каспарик; ты ведь не такая уж крупная фигура в этом мире! Пожалуй, ты сам пока тоже никто и не имеешь причин насмехаться над людьми, тоже ничего до сих пор не достигшими. Коли ты борешься с судьбою, позволь и другим бороться, как они разумеют. Вы оба борцы и норовите побороть друг друга? Нелепо и неумно. Для вас обоих – в силу разных прихотей, и заблуждений, и соблазнов, и неудач – хватает боли в вашем искусстве, так неужто надобно ранить друг друга еще сильнее? Будь я художником, мне бы вправду хотелось быть братом поэту. Не спеши презрительно смотреть на ошибающегося или якобы вялого и бездеятельного. Ведь из долгих, смутных мечтаний может вмиг взойти его солнце, его поэзия! И как тогда будут выглядеть те, кто поспешил им пренебречь? Себастиан честно борется с жизнью, уже это достаточная причина, чтобы уважать его и любить. Как можно насмехаться над его мягким сердцем? Стыдись, Каспар, и, если ты хоть немного любишь свою сестру, никогда больше не давай мне повода этак тобою возмущаться. Мне это не в радость. Я ценю Себастиана, потому что знаю, ему хватает духу признавать свои многочисленные ошибки. Кстати, это все слова, только слова, ты можешь уйти, коли тебе не по вкусу идти с нами. Что за гримаса у тебя на лице, Каспар! Ты сердишься, оттого что девушка, имеющая счастье быть тебе сестрой, смеет читать тебе мораль? Не надо, не сердись. Пожалуйста. И конечно же ты можешь посмеяться над поэтом. Почему бы нет. Я приняла это чересчур всерьез. Прости.
Тонкая, застенчивая, но нежная улыбка играла в темноте на губах Себастиана. Хедвиг продолжала умасливать брата, пока тот вновь не развеселился. И тогда изобразил ее взволнованную речь, да так забавно, что все трое громко расхохотались. Себастиан прямо корчился от смеха. Мало-помалу под деревьями стало тихо и безлюдно; народ разошелся по домам, огоньки задремали, но многие уже погасли, и даль более не мерцала. Там, в сельском краю, свет словно бы гасили раньше; далекие горы лежали теперь безжизненными черными громадами, но кое-кто из гуляющих еще не ушел домой, а словно бы намеревался провести всю ночь под открытым небом, бодрствуя и ведя разговоры.
Симон и Клара сидели на скамье, погруженные в негромкую долгую беседу. Им хотелось так много сказать друг другу, что они могли бы говорить без конца. Клара говорила бы только о Каспаре, а Симон – только о той, что сидела рядом. У него была на редкость свободная, открытая манера говорить о людях, которые сопровождали его, сидели рядом или стояли, слушая его. Так получалось само собой, он всегда испытывал самые сильные чувства к тем, кто побуждал его говорить, и потому говорил о них, а не об отсутствующих.
– Тебе не обидно, что мы говорим только о нем? – спросила Клара.
– Нет, – отвечал Симон, – его любовь – это и моя любовь. Я всегда спрашивал себя: неужели ни один из нас никогда не полюбит? И всегда считал чудесным это чувство, которое словно бы гнушалось нами обоими. В книгах я много читал о любви, и любящие всегда мне нравились. Еще школьником я часами просиживал над такими книгами, дрожал и пугался вместе с моими любящими. Почти всегда там была гордая женщина и еще более несгибаемый мужчина, рабочий в блузе или простой солдат. А женщина – непременно благородная дама. Влюбленные пары из обычных людей меня тогда не интересовали. Мои чувства воспитывались на этих романах и пропадали в них, когда я закрывал книгу. Потом я шагнул в жизнь и забыл все это. Страстно увлекся идеями свободы, но мечтал изведать любовь. Какой прок мне сердиться, что любовь пришла, только адресована не мне? Сущая ребячливость. Я даже чуть ли не рад, что она выбрала не меня, а другого, сперва мне хотелось бы увидеть любовь, а уж потом пережить ее самому. Но мне ее не изведать. По-моему, жизнь хочет от меня иного, имеет на меня иные планы. Велит любить все, что мне подбрасывает. И все же я смею любить тебя, Клара, другим, быть может более глупым образом. Не глупо ли с моей стороны точно знать, что, если ты захочешь, я мог бы и хотел бы умереть за тебя? Разве я не могу умереть за тебя? Мне это кажется совершенно естественным. Я не дорожу своею жизнью, я дорожу жизнью других и тем не менее люблю жизнь, люблю, ибо надеюсь, она даст мне возможность достойно с нею расстаться. Опрометчиво сказано, не правда ли? Позволь мне поцеловать твои руки, тогда ты почувствуешь, что я принадлежу тебе. Конечно, я не твой, и ты никогда и ничего не станешь от меня требовать, – да и что ты могла бы от меня потребовать? Но я люблю женщин вроде тебя, а женщине, которую любишь, с удовольствием делаешь подарок, вот я и дарю тебе себя, так как лучшего подарка не знаю. Может статься, я тебе пригожусь, могу попрыгать за тебя на этих вот ногах, могу молчать, коли тебе угодно, чтобы кто-то за тебя молчал, могу солгать, коли у тебя возникнет нужда в бессовестном лжеце. Бывают ведь и благородные случаи такого рода. Я могу взять тебя на руки, коли ты устанешь, могу перенести через лужи, чтобы ты не замочила ног. Взгляни на мои руки. Тебе не кажется, будто они уже поднимают тебя и несут? Как бы ты улыбалась, если б я нес тебя, я бы тоже улыбался, потому что улыбка, коли она ласкова, непременно вызывает ответную улыбку. Подарок, какой я тебе делаю, подвижен и вечен; ведь человек, даже самый простой, вечен. Я буду принадлежать тебе и когда от тебя давным-давно не останется ничего, даже крупицы праха, ибо дар всегда переживает того, кому достался, – тогда он может горевать, что потерял своего владельца. Я рожден подарком и всегда кому-то принадлежал, меня раздражало, когда я целый день бродил и не находил никого, кому мог бы себя предложить. Отныне я принадлежу тебе, хотя и знаю, что мало для тебя значу. Так уж вышло. Иной раз подарками до поры до времени пренебрегают. Я, например, – с каким презрением я в душе отношусь к подаркам. Прямо-таки ненавижу получать подарки. Потому-то судьбе угодно, чтобы никто меня не любил; ведь судьба добра и всеведуща. Я не сумею вынести любовь, так как умею вынести ее отсутствие. Нельзя любить того, кто желает любить, в противном случае только помешаешь его благоговению. Я вовсе не хочу, чтобы ты любила меня. И счастлив, что ты любишь другого, ведь таким образом, пойми, ты разрешаешь мне любить тебя. Я люблю лица, которые отворачиваются от меня к другому предмету. Душа, вечная художница, любит волнение. Улыбка прекрасна, когда скользит по губам, которых не видишь, а только угадываешь. Вот так ты будешь мне нравиться. Думаешь, тебе незачем нравиться мне? А ведь и правда, тебе незачем мне нравиться, в самом деле незачем, ведь перед тобою я неспособен на суждение, разве что на просьбу; ах, сам не знаю, что я говорю.
От этих его слов Клара расплакалась. Она притянула его к себе и своими прекрасными руками, прохладными от ночного воздуха, гладила его горящие щеки.
– То, что ты мне сказал, незачем было и говорить, я и так знала, и так знала, да-да… и так… знала…
В ее голосе сквозила та ласка, с какою обращаются к животным, которым причинили легкую боль и хотят вновь внушить любовь и доверие. Она была счастлива, и голос ее лепетал протяжными, звонкими нотками радости. Все ее существо, казалось, говорило, когда она произнесла:
– Как хорошо, что ты любишь меня, теперь, когда я не могу не любить. Я теперь вновь полюблю с радостью. Может статься, я буду несчастлива, но с каким наслаждением испытаю это несчастье. Лишь раз в жизни мы, женщины, рады быть несчастливыми, однако ж мы умеем насладиться своим несчастьем. Но как я могу говорить тебе о боли! Заикнуться об этом уже возмутительно. Как я смею, находясь рядом с тобою, не верить в мое счастье? Ты заставляешь поверить, внушаешь веру, что это возможно. Оставайся навсегда моим другом. Ты мой милый мальчик. Твои волосы скользят сквозь мои пальцы, твоя голова, полная столь непостижимых мыслей о дружестве, лежит у меня на коленях. Я чувствую себя красивой, благодаря тебе. Ты должен меня поцеловать. В губы. Я сравню ваши поцелуи – твои и Каспаровы. А когда ты меня поцелуешь, буду думать, что меня целует он. Ведь поцелуй – это поистине чудо. Если ты сейчас меня поцелуешь, меня поцелует душа, а не губы. Каспар говорил тебе, как я целовала его и как просила, чтобы он меня поцеловал? Ему надобно целоваться по-другому, должно научиться целоваться так, как ты, хотя нет, с какой стати? Он целует так, что я тотчас должна вернуть поцелуй, когда же целуешь ты, хочется, чтобы ты поцеловал еще раз, вот как сейчас. Люби меня, оставайся таким же милым и поцелуй меня еще раз, чтобы я, как ты недавно сказал, почувствовала, что ты принадлежишь мне. Благодаря поцелую это становится совершенно ясно. Мы, женщины, нуждаемся именно в таких наставлениях. Кстати, ты, Симон, прекрасно понимаешь женщин. Кто бы мог подумать. Ну что ж, пора идти!
Они поднялись и уже через несколько минут наткнулись на остальных троих. Хедвиг попрощалась с братьями и госпожой Кларой. Себастиан последовал за нею. Когда эти двое удалились, Клара тихонько спросила Каспара:
– Допустимо ли поручать твою сестру этому господину?
– Разве я поступил бы так, коли бы думал иначе? – отвечал Каспар.
Когда они подошли к дому, в лесу грянул выстрел.
– Он опять стреляет, – негромко сказала Клара.
– Чего ради он стреляет? – полюбопытствовал Каспар, а Симон со смехом поспешил ответить:
– Он стреляет, оттого что по сию пору усматривает в этом чудачество. Пока что здесь кроется некая идея. Как только утратит к ней интерес, он прекратит пальбу.
Снова послышался выстрел. Клара наморщила лоб, вздохнула, а затем смешком попыталась унять свои предчувствия. Но смешок вышел пронзительный, братья даже слегка вздрогнули.
– Ты ведешь себя странно, – сказал жене Агаппея, внезапно возникший у крыльца, как раз когда они собирались войти. Клара промолчала, будто и не слышала. Потом все отправились спать.
Еще тою же ночью Клара, которой не спалось, написала Хедвиг письмо:
«Милая барышня, сестра моего Каспара! Я просто не могу не написать Вам. Сон бежит моих глаз, я не нахожу покоя. Сижу здесь полураздетая за письменным столом и невольно погружаюсь в сумбурные мечты. Мне мнится, что я могла бы написать письма всем людям, любому незнакомцу, любой душе; ведь все людские души, как мне кажется, трепещут от теплых чувств ко мне. Сегодня, когда протянули мне руку, Вы долго смотрели на меня, испытующе и с некой строгостью, будто уже знали, как со мною обстоит, будто сочли, что обстоит со мною скверно. В Ваших глазах со мною обстоит скверно? Нет, не думаю, что Вы проклянете меня, когда все узнаете. Вы ведь из тех девушек, от которых не хочется ничего утаивать, которым хочется сказать все, и я скажу Вам все, чтобы Вы все знали и могли полюбить меня; ведь Вы полюбите меня, когда узнаете, а я просто жажду, чтобы Вы меня любили. Я мечтаю видеть вокруг себя всех красивых и умных девушек – как подруг и советчиц, да и как учениц. Вы, как сказал Каспар, решили быть учительницей и посвятить себя воспитанию маленьких детишек. Я тоже хочу стать учительницей, потому что женщины – прирожденные воспитательницы. Вы хотите приобрести профессию, хотите чего-то добиться: это очень Вам под стать и вполне соответствует моему представлению о Вас. Под стать это и времени, в какое мы живем, и миру – детищу этого времени. Прекрасный план с Вашей стороны, и будь у меня ребенок, я бы послала его учиться к Вам, полностью доверила бы Вам, так что он бы привык почитать Вас как мать и любить. Дети станут смотреть на Вас, чтобы увидеть по Вашим глазам, строгая Вы или добрая. Как же будут горевать их маленькие юные души, заметив, что Вы входите в класс с заботой на лице; ведь детям понятна Ваша душа. Вам не придется долго иметь дело с непослушными детьми; мне кажется, даже самые непослушные и избалованные быстро устыдятся перед Вами своих проступков и пожалеют, что причинили Вам боль. Подчиняться Вам, Хедвиг, – как это, наверно, чудесно. Мне бы хотелось подчиняться Вам, хотелось бы стать ребенком и изведать удовольствие от покорности Вам. Вы намерены уехать в маленькую, тихую деревушку! Тем лучше. Тогда Вы будете учить деревенских ребятишек, а воспитывать деревенских детей куда лучше, нежели городских. Но Вы бы и в городе добились успеха. Вас влечет в деревню, к низким домикам, к садикам подле домов, к лицам людей, какие там видишь, к бурной реке, протекающей по соседству, к уединенному, прелестному берегу озера, к растениям, какие ищешь и находишь в лесном покое, к сельским животным, к сельскому миру. Вы все найдете, ибо все это под стать Вам. Человек под стать тому, к чему его влечет. Конечно же однажды Вы найдете там ответ на вопрос, как сделаться счастливой. Вы уже теперь счастливы, и мне так хочется обладать Вашей бодростью. Глядя на Вас, невольно веришь, что знаешь Вас с давних пор, знаешь даже, как выглядит Ваша маменька. Других девушек находишь хорошенькими, а то и красивыми, но с Вами иначе: едва увидев Вас, тотчас же хочешь быть для Вас знакомым и любимым. В Вашем юном, светлом лице есть что-то притягательное, прямо-таки родственное; может быть, это как раз сельское? Ваша маменька из крестьян? Наверно, она была красивая, милая крестьянка. В городе, как однажды сказал мне Каспар, она много страдала, и я этому верю, прямо воочию вижу Вашу маменьку. Она вела себя горделиво и сама же от этого страдала. Неудивительно, ведь в городе человеку нельзя вести себя так горделиво, как в деревне, где женщина легко видит себя свободной хозяйкой. Мне бы хотелось чуточку Вам угодить тем, что я говорю о Вашей маменьке, за которой Вы, когда бедняжка хворала и совершенно пала духом, заботливо ухаживали. Я видела и портрет Вашей маменьки и почитаю ее и люблю, коли Вы позволите. С Вашего позволения, я бы любила и почитала ее еще больше. Если б могла увидеть ее, я бы пала ей в ноги, взяла ее руку и прижалась к ней губами. Для меня это было бы сущим благодеянием. Сравнимым с частичной, далекой не полной уплатой давнего долга, ведь я ее должница, и Ваша, Хедвиг, тоже. Ваш брат Каспар часто, наверно, бывал с Вами равнодушен и груб; ведь к тем, кто их больше всего любит, молодые мужчины нередко жестоки, так они пробивают себе дорогу в широкий мир. Я понимаю, художник часто вынужден отбрасывать любовь как путы. Вы видели его совсем юным, мальчуганом, который ходил в школу, корили его за проказы, спорили с ним, сочувствовали ему и завидовали, защищали и остерегали, бранили и хвалили, разделяли его первые, просыпающиеся чувства и говорили ему, что они прекрасны; Вы отдалились от него, когда заметили, что на уме у него иные планы, нежели у Вас; позволили ему поступать, как он хочет, и надеялись, что с ним все будет хорошо и он не оступится. Когда он уехал, Вы тосковали по нем и бросились ему на шею, когда в один прекрасный день он вернулся, и тотчас снова взяли его под опеку; ведь он такой человек, которому нужна, прямо-таки необходима постоянная заботливая опека. Благодарю Вас. Мне недостает духу, недостает сердца и слов, чтобы поблагодарить Вас. И я не знаю, позволено ли мне Вас благодарить. Быть может, Вы и знать обо мне не желаете. Я грешница, но, может статься, грешницы заслуживают позволения узнать, что надобно делать, дабы стать смиренными. Я смиренна, не надломлена и не сломлена, но полна пылкого, просительного, умоляющего смирения. Смирением я хочу загладить то, что нарушила любовью. Коль скоро для Вас хоть что-то значит иметь сестру, которая рада быть Вам сестрою, то я повинуюсь Вам. Знаете, что Ваш брат Симон подарил мне? Себя самого – вот что он мне подарил, он бросил себя к моим ногам, а я хочу бросить себя к Вашим. Но, Хедвиг, бросить себя к Вашим ногам невозможно. Ведь это бы значило – дать Вам слишком мало. А я – это много, с тех пор как обнимала Каспара. Я начинаю зазнаваться, говорить горделиво, а этого я не хочу. Попробую теперь уснуть, может быть, получится. Лес ведь тоже спит, отчего бы и людям не спать. Но я знаю, что теперь смогу уснуть!..»
Пока Клара писала это письмо, Симон и Каспар сидели при зажженной лампе. Им еще не хотелось ложиться в постель, и они разговаривали друг с другом.
– В последние дни, – сказал Каспар, – я вообще не пишу, а коли так пойдет дальше, брошу искусство и заделаюсь крестьянином. Почему бы нет? Разве обязательно заниматься искусством? Разве нельзя жить иначе? Может, я просто по привычке воображаю, будто всенепременно должен заниматься искусством. Может, вернуться к нему через десяток лет? Тогда будешь на все смотреть по-другому, намного проще, намного менее фантастично, а это отнюдь не повредит. Надобно иметь мужество и доверие. Жизнь коротка, если не доверяешь, но длинна, если доверяешь. Что можно упустить? Я вот чувствую, что становлюсь день ото дня инертнее. Надо ли мне собраться с силами и, подобно школяру, заставить себя выполнять обязанности? А есть ли у меня обязанности перед искусством? Можно ведь повернуть все и так, и этак, смотря как заблагорассудится. Писать картины! Сейчас это представляется мне ужасной глупостью и совершенно безразлично. Надобно дать себе волю. Не все ли равно, сколько пейзажей я напишу – сотню или два? Можно писать не переставая и остаться дилетантом, которому в голову не приходит вложить в свои картины хоть чуточку собственного опыта, ибо он за всю жизнь опыта не накопил. Когда наберусь опыта, я и кистью стану водить разумнее и осмысленнее, и вот это для меня небезразлично. Дело-то не в количестве. И все же: некое чувство подсказывает мне, что нехорошо хотя бы и на один день забросить упражнение. Это леность, треклятая леность!..
Продолжать он не стал, потому что в этот миг они услыхали долгий страшный крик. Симон схватил лампу, и оба ринулись вниз по лестнице, в комнату, где, как они знали, спала она. Кричала Клара. Прибежал и Агаппея. Женщину они нашли распростертой на полу. Казалось, она собиралась раздеться и лечь в постель, но упала, внезапно сраженная припадком. Волосы распустились, прекрасные руки судорожно дергались на полу. Грудь бурно вздымалась и опускалась, на открытых губах металась неясная усмешка. Все трое мужчин, склонясь над нею, крепко держали ее за руки, пока судороги мало-помалу не прекратились. При падении она не поранилась, хотя легко могла бы. Потом они подняли бесчувственную Клару и полуодетую уложили на аккуратно приготовленную постель. Когда расшнуровали корсет, она стала спокойнее. Облегченно вздохнула и как будто бы уснула. Улыбка становилась все прекраснее, ей снился сон, она тихонько что-то лепетала, словно издалека долетал звон колокольчиков, чистый, но едва внятный. Они напряженно прислушивались, обсуждая, стоит ли призвать из города врача.
– Останьтесь, – спокойно сказал Агаппея Симону, который хотел было сей же час отправиться в дорогу, – все пройдет. Это не впервые.
Они сидели, по-прежнему прислушиваясь, многозначительно глядя друг на друга. С уст Клары слетали невразумительные, короткие, отрывочные, полупропетые-полупроизнесенные фразы:
– В воде, нет, смотри же, глубоко-глубоко. Потребовалось очень много времени, очень-очень много. А ты не плачешь. Если б ты знал. Вокруг меня все так черно, так мутно. Но смотри же. У меня изо рта растет фиалка. Она поет. Слышишь? Слышишь? Наверно, все думают, я утонула. Как хорошо, как хорошо. Нет ли подходящей песенки? Клара! Где она? Ищи ее, ищи же. Но тебе придется зайти в воду. Ух, тебе страшно, да? А мне уже вовсе не страшно. Фиалка. Я вижу, как плавают рыбки. Я совершенно спокойна, я ничего больше не делаю. Будь милым и добрым. Ты смотришь так сердито. Клара лежит вон там, вон там. Видишь, видишь? Я хотела сказать тебе кое-что еще, но я рада. Что я хотела тебе сказать? Не помню. Слышишь, как я звеню? Это звенит моя фиалка. Колокольчик. Я всегда это знала. Только не говори. Я ведь уже не слышу. Пожалуйста, пожалуйста…
– Идите-ка спать. Если станет хуже, я вас разбужу, – сказал Агаппея.
Хуже не стало. Наутро Клара снова была бодра и совершенно не помнила, что с нею случилось. У нее немножко побаливала голова, вот и все.
Клара чувствовала себя восхитительно. В темно-синем пеньюаре, который благородными складками облекал ее тело, она сидела на балконе, откуда открывался вид на ели, что нынче утром слегка покачивали верхушками от легкого ветерка. «Все ж таки лес прекрасен, – подумала она, перегнувшись через изящные резные перила, чтобы приблизиться к благоуханию хвои. – Как привольно раскинулся лес, будто уже сейчас дремлет в ожидании ночи. Днем, при ярком солнце, входишь в лес словно в вечерний сумрак, где шорохи отчетливее и тише, а запахи влажнее и ощутимее, где можно отдыхать и молиться. В лесу молишься непроизвольно, и это единственное место на свете, где Бог совсем близко; Бог словно бы создал леса, чтобы там молились как в священных храмах; один молится так, другой этак, но молятся все. Коли, лежа под елью, читаешь книгу, то молишься, ежели молитва то же самое, что глубокая задумчивость. Где бы ни был Бог, в лесу чутьем угадываешь Его и с тихим восторгом немножко в Него веришь. Бог не хочет, чтобы в Него слишком уж верили, Он хочет, чтобы Его забыли, и даже рад, когда Им пренебрегают, ведь Он несказанно благ и велик; Бог – самое уступчивое, что только есть в мировом пространстве. Он ни на чем не настаивает, ничего не хочет, ни в чем не нуждается. Хотеть чего-то предоставлено нам, людям, для Него это не значит ничего. Для Него вообще ничто не имеет значения. Он рад, когда Ему поклоняются. О, этот Бог придет в восхищение и от блаженства не сумеет собраться с мыслями, коли я сейчас пойду в лес и поблагодарю Его, чуть-чуть, совершенно беспечно поблагодарю. Бог так благодарен. Хотела бы я знать, кто благодарнее Его. Он дал нам все, неосторожный, добрый, и теперь поневоле рад, когда Его создания чуточку о Нем вспоминают. Уникально в нашем Боге то, что Он хочет быть Богом, только если мы соблаговолим возвысить Его до нашего Бога. Кто больше учит скромности, чем Он? Кто более прозорлив и более кроток? Быть может, Бог тоже лишь строит о нас догадки, как и мы о Нем, и, например, я сейчас высказываю всего лишь мои догадки о Нем. Догадывается ли Он, что я сижу сейчас здесь, на балконе, и нахожу Его лес чудесным? Ах, знал бы Он, как прекрасен Его лес. Но по-моему, Бог забыл Свое творение, не от скорби, ведь разве Он способен скорбеть, нет, Он просто забыл или, по крайней мере, кажется, что забыл нас. Отношение к Богу может быть каким угодно, ведь Он допускает любые мысли. Но Его легко потерять, размышляя о Нем, потому-то к Нему и возносят молитвы. Боже милостивый, не введи нас во искушение. Так я молилась ребенком, лежа в постельке, и, помолившись, всегда была собою довольна. Как же я нынче счастлива и радостна; все во мне улыбка, блаженная улыбка. Все мое сердце улыбается, воздух так свеж, по-моему, нынче воскресенье, приедут люди из города, станут гулять по лесу, а я выберу себе какого-нибудь ребенка, спрошу позволения у его родителей и немного с ним поиграю. Надо же, я могу просто сидеть здесь и радоваться, что существую, сижу здесь, перегибаюсь через перила! И при этом кажусь себе красивой. Впору забыть Каспара, забыть все. Теперь я не понимаю, как вообще могла о чем-то плакать, испытывать потрясения. Лес такой неколебимый и все же такой гибкий, теплый, живой и прелестный. Как дышат ели, как шумят! Шум деревьев упраздняет любую музыку. Вообще, мне бы хотелось слышать музыку только ночью, но не утром, утро для этого, по-моему, слишком торжественно. Я чувствую себя до странности свежей. Удивительно – лечь спать, нет, сперва устать, потом лечь спать, а потом проснуться и чувствовать себя так, будто заново родился. Каждый день для нас – день рождения. Словно ступаешь в купальню, вот точно так же из покровов ночи ступаешь в волны голубого дня. Скоро настанет полуденный зной, а затем солнце в томлении зайдет. Какое томление, какое чудо с вечера до утра, с полудня до вечера, с ночи до утра. Все показалось бы чудесным, если бы ты чувствовал все, ведь не может одно быть чудесным, а другое нет. По-моему, вчера я была больна, только мне этого не говорят. Как по-прежнему красиво и невинно выглядят мои руки. Будь у них глаза, я бы поднесла к ним зеркало, чтобы они полюбовались своею красой. Счастлив тот, кого я ласкаю моими руками. Что за странные мысли одолевают меня. Приди сейчас Каспар, я бы, наверно, расплакалась, что он видит меня такой. Я ведь не думала о нем, и он бы почувствовал, что я о нем не думала. Как же огорчает меня мысль, что я пренебрегла им. Я что же, его раба? Какое мне дело до него?»
Она заплакала. И тут вошел Каспар.
– Что с тобой, Клара?
– Ничего! Что со мной может случиться? Ты ведь здесь. Мне недоставало тебя. Я счастлива, но терпеть не могу быть счастливой в одиночку, без тебя. Потому и заплакала. Иди же ко мне. – И она крепко прижала его к себе.