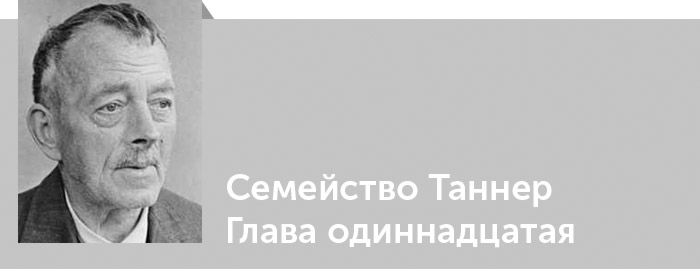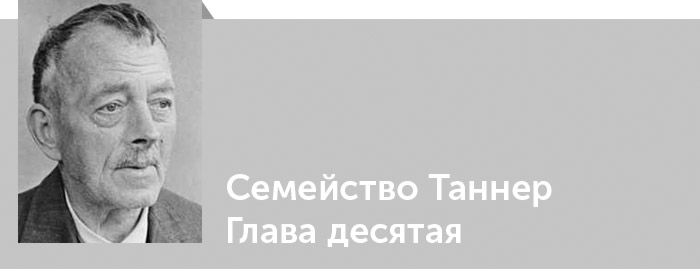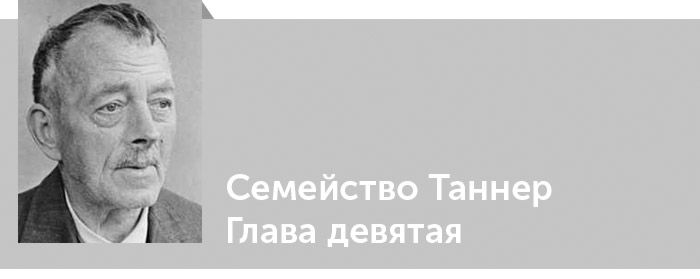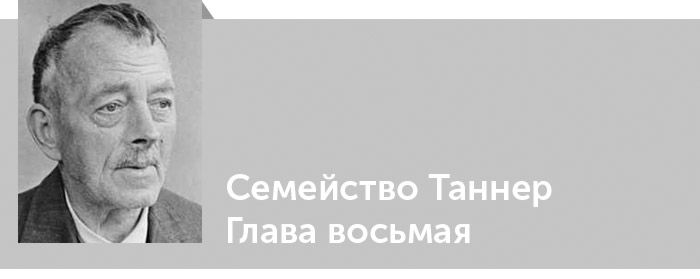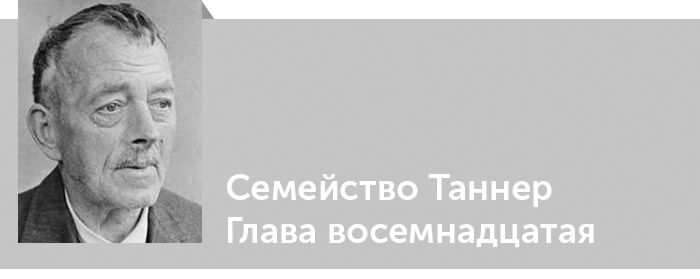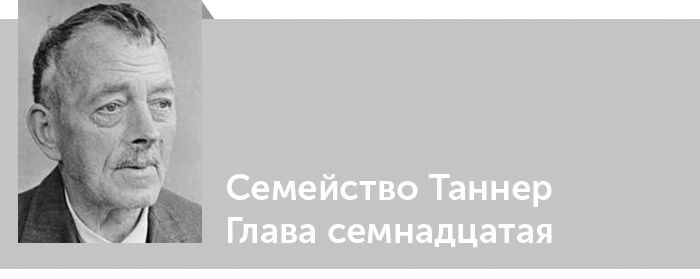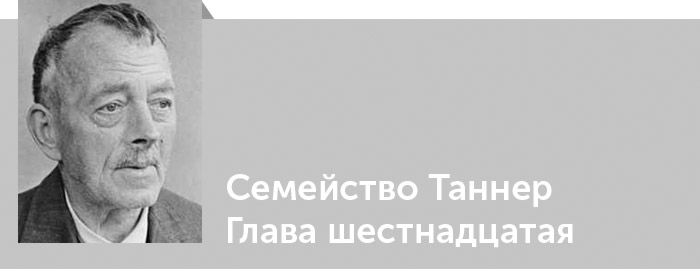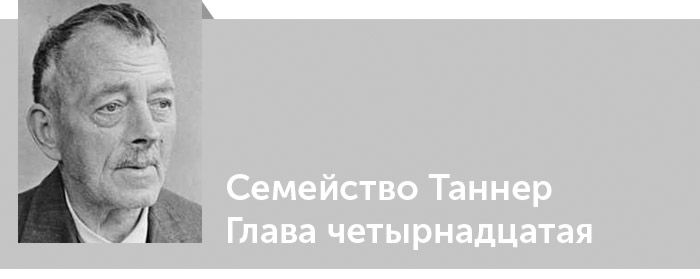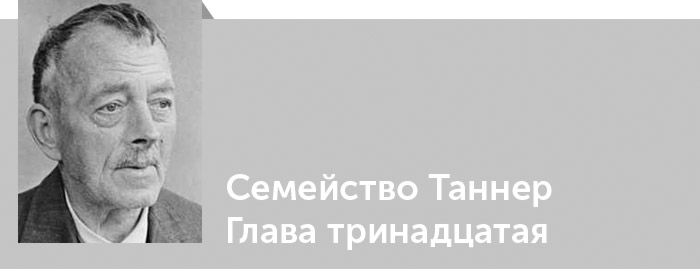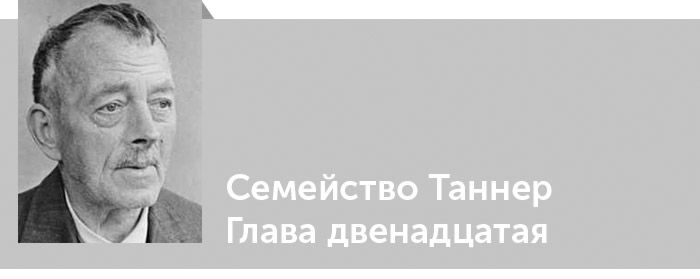Роберт Вальзер. Семейство Таннер. Глава 15
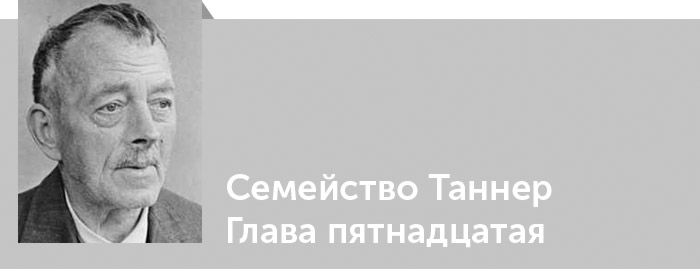
Наутро он проснулся, только когда зазвонили колокола. С постели заметил, что на дворе погожий яркий день. Оконные стекла так сверкали, что в вышине над переулком сразу представлялось чудесное утреннее небо. Посмотришь подольше на стену дома напротив – и угадываешь что-то светлое, золотистое. Ведь при пасмурном небе эта пятнистая стена казалась черной и унылой. Симон долго смотрел на нее и воображал, как теперь выглядит озеро с парусами на его глади, в такое вот голубое с золотом утро. Воображал лесные поляны, панорамы, скамейки под пышными зелеными деревьями, лес, дороги, променады, луга на вершине широкой горы, сплошь заросшей деревьями, склоны и лесистые овраги, полные буйной растительности, родник и лесной ручей с большими валунами в русле и тихонько журчащей водой – сядешь на берегу, и этот плеск убаюкает тебя. Все это виделось как наяву, когда Симон смотрел на стену дома, хотя была это всего-навсего стена, только нынче она отражала всю картину безмятежного людского воскресенья, потому что перед нею колыхалась легкая голубая небесная пелена. Вдобавок слышался знакомый напев колоколов, а колокола очень хорошо умеют будить всяческие образы.
Все еще лежа в постели, Симон решил отныне быть прилежнее, что-нибудь изучать, к примеру тот или иной язык, и вообще жить упорядоченнее. Как же много он упустил! А ведь учение определенно доставляет большую радость. Так замечательно – представлять себе, вполне искренне и живо, как все будет, когда станешь усердно учиться, учиться не переставая. Он ощущал в себе известную человеческую зрелость: ну что ж, учение тем приятнее, коли учишься со всею уже приобретенной зрелостью. Да, так он теперь решил: учиться, ставить себе задачи и находить прелесть в том, что ты учитель и ученик в одном лице. К примеру, как насчет звучного иностранного языка, скажем французского? «Я стану заучивать слова и накрепко их запоминать. Как мне тогда пригодится мое всегда живое воображение. Дерево – l’arbre. Я зримо увижу перед собою это дерево. Вспомню Клару. Под густым, тенистым, темно-зеленым деревом, в белом, широком платье в складку. И таким манером вспомню многое, почти совершенно забытое. Мой ум в постижении сделается сильнее и живее. Ведь когда ничему не учишься, тупеешь. Сколь сладостно детство, самое раннее, начальное! Теперь я вижу его высокую прелесть и не понимаю, как мог так долго, так долго быть упрямым и вялым. О, вялость целиком коренится лишь в упрямой уверенности, будто знаешь больше других, и мнимом всезнайстве. Только если вполне понимаешь, как мало знаешь, все еще может кончиться добром. Звук чужого слова заставит меня глубже вникнуть в слово немецкое и шире осмыслить его значение, таким образом, и родной язык зазвучит для меня по-новому, богаче, наполнится неведомыми прежде образами. Le jardin – сад, огород. Тут мне на ум придет деревенский огородик Хедвиг, который я весною помогал засаживать. Хедвиг! Мне мгновенно припомнится все, что она говорила, делала, выстрадала и помышляла, за все те дни, что я провел у нее. У меня нет повода быстро забывать людей и вещи, тем паче родную сестру. Когда мы с нею высадили в огороде все растения, ночью опять пошел снег, и мы ужасно огорчились, что ничегошеньки у нас не вырастет. Для нас это много значило, ведь мы обещали себе много прекрасных овощей. Замечательно все ж таки, когда можешь разделить огорчение с другим человеком. А уж каково разделить страдания и борения целого народа! Н-да, вот сколько всего пришло бы мне в голову при изучении чужого языка, да и не только это, а много-много больше, сейчас я даже представить себе не могу, что именно. Учиться, учиться, учиться, все равно чему! Мне хочется углубиться и в естественную историю, самому, без наставников, по дешевому учебнику, который я куплю завтра же, нынче-то воскресенье, все лавки, конечно, закрыты. И все у меня получится, я совершенно уверен. Иначе зачем бы я пришел на свет. Разве с некоторых пор я у себя вовсе не в долгу? Надобно в конце концов взять себя в руки, воистину самое время».
И он вскочил с постели, словно испытывая потребность немедля приступить к осуществлению новых планов. Быстро оделся. Зеркало сказало ему, что выглядит он недурно, чем он и удовлетворился.
Собираясь спуститься по лестнице, он столкнулся с госпожою Вайс, квартирной хозяйкой. Вся в черном, она сжимала в руках маленький молитвенник, возвращалась из церкви. При виде Симона она весьма бодро рассмеялась и спросила, не намерен ли и он пойти в церковь.
Симон отвечал, что уж много лет в церкви не бывал.
На добром лице хозяйки отразился испуг, когда она услыхала этакие слова, казавшиеся ей неподобающими в устах молодого человека. Она не рассердилась, так как отнюдь не принадлежала к числу нетерпимых богомолок, но не могла не сказать, что Симон все же поступает неправильно. Да ей и не верится. По ее мнению, он не таков. Но коли это правда, ему не мешает учесть, что он поступает неправильно, совершенно не посещая церковь.
Чтобы не портить хозяйке доброе настроение, Симон обещал на днях сходить в церковь, после чего она посмотрела на него вполне дружелюбно. А он, более не задерживаясь, поспешил вниз по лестнице. «Симпатичная женщина, – думал он, – и я ей нравлюсь, я всегда замечаю, когда нравлюсь женщине. Как забавно она журила меня из-за церкви. Лицо сделалось разобиженным, а женщин это всегда красит. И мне нравится. Вдобавок она меня уважает. Постараюсь и впредь сохранить ее уважение. Но не стану разговаривать с нею подолгу и часто. Тогда она захочет завести со мной разговор и будет рада каждому слову, каким я с ней перемолвлюсь. Мне по душе женщины вроде нее. Черный цвет ей очень к лицу. А какой хорошенький молитвенник она держала в пухлой руке. Женщина, которая молится, приобретает лишнюю чувственную прелесть. До чего красива эта бледная рука в обрамлении черного рукава. А лицо! Ну да ладно! Во всяком случае, весьма приятно иметь в запасе что-нибудь милое, словно бы приберечь. Тогда имеешь вроде как дом, кров, опору, обаяние, ведь без толики обаяния я жить не могу. На лестнице ей хотелось продолжить разговор. А я его оборвал, потому что люблю оставлять женщинам несбывшиеся желания. Таким манером не роняешь свое достоинство, а, наоборот, поднимаешь выше. Да и сами женщины, кстати, ожидают именно таких поступков».
Улица кишела по-воскресному нарядными людьми. Женщины сплошь в опрятных белых платьях, девушки украсили белые юбки яркими широкими бантами, мужчины одеты просто, в по-летнему светлые костюмы, мальчики – в матросках; кое-кто с собаками; в воде, за сетчатой оградой, плавали лебеди, несколько молодых людей, облокотясь на парапет моста, пристально наблюдали за ними, другие мужчины весьма торжественно шагали к избирательным урнам, бросали туда бюллетени; колокола звонили не то во второй, не то в третий раз, озеро сияло голубизной, а в вышине, над крышами, сверкающими на солнце, носились ласточки; солнце, во-первых, было утренне-воскресное, во-вторых, обыкновенное, а в-третьих, особенное, для глаз художников, которые, наверно, тоже попадались средь множества гуляющих. Меж людских толп пышно зеленели деревья городских парков и скверов; в их тенистом сумеречном мире опять-таки прохаживались женщины и мужчины; вдали ветер гнал по синей озерной глади парусные лодки, а у берега лениво покачивались пришвартованные к бочкам-буям суденышки; здесь и птицы были иные, и люди стояли тихо, глядя в белесо-голубую даль, на горные вершины у горизонта, похожие на драгоценное, почти незримое белое кружево на нежно-голубой утренней мантилье небес. Все чем-нибудь любовались, болтали, чувствовали, показывали, указывали, примечали и улыбались. Из беседки долетали теперь звуки музыкальной капеллы, точно щебет птиц, порхающих в зелени. Там, под зеленой сенью, прогуливался и Симон. Солнце бросало сквозь листву пятна света на дорожку, на лужайку, на скамью, где сидели няньки, покачивая туда-сюда колясочки с младенцами, на шляпы дам и плечи мужчин. Все вокруг говорили, смотрели, вглядывались, здоровались, фланируя мимо друг друга. Богатые экипажи катили по улице, временами проезжал электрический трамвай, свистели пароходы, и за деревьями виднелись густые тяжелые клубы их дыма. В озере купалась молодежь. Ее, правда, было не разглядеть, когда прогуливаешься под деревьями, но ты знал, что там, в текучей сини, плавают обнаженные тела, нет-нет взблескивая на поверхности. Да и что только нынче не блестело! Что не искрилось! Все перед глазами блестело, сверкало, светилось, купалось в красках и таяло в звуках. Симон несколько раз подряд сказал себе: «Как же прекрасен воскресный день!» Он смотрел в глаза детям и всем вокруг, все виделось ему благостным и взволнованным, то он вдруг подмечал красивое движение, то видел некую целостность. Он сел на скамью рядом с достаточно молодым мужчиной и посмотрел ему в глаза. Между ними завязался разговор, ведь когда кругом царит счастье, начать разговор проще простого.
Мужчина сказал Симону:
– Я вообще-то санитар, за больными ухаживаю, но в настоящее время просто бездельничаю. Воротился из Неаполя, ходил там за больными в госпитале для приезжих. Может, уже дней через десять окажусь где-нибудь в глуши Америки или в России, ведь меня посылают всюду, где есть нужда в санитаре, хоть на острова южных морей. Таким манером можно повидать мир, ничего не скажешь, только вот родина становится чужою, я не в состоянии достаточно себя здесь проявить. Вы, например, живете, поди, все время на родине, она постоянно окружает вас, вы чувствуете, что вокруг все знакомо, трудитесь здесь, здесь вы счастливы и здесь порой встречаете неудачу, все равно, по крайней мере вы привязаны к одной почве, к одной стране, к одному небу, если позволительно так выразиться. Прекрасно – быть привязанным к чему-то. Чувствуешь себя вольготно, притом по праву, можешь рассчитывать на понимание и любовь ближних. А я? Нет! Видите ли, я сделался слишком плох для малой своей родины, а может, слишком хорош, слишком хорошо все понимаю. Я более не умею сопереживать землякам. Их предпочтения мне столь же непонятны, сколь их гнев и отвращение. Словом, я чужак. И чувствую, что моя чуждость их обижает. И конечно же они вправе обижаться, а я неправ в своем отчуждении. Что проку, коли мои взгляды на многое шире и разумнее, ведь эти взгляды только обижают! А раз обижают, стало быть, они дурные. Обычаи и взгляды страны нужно свято хранить, не то однажды станешь там чужаком, как случилось со мной. Ну что ж, скоро я снова уеду к своим больным… – Он улыбнулся и спросил у Симона: – А чем занимаетесь вы?
– Я странная птица в родном краю, – отвечал Симон, – вообще-то я писарь, и вы легко можете представить себе, какую роль я играю в отечестве, где писарь пожалуй что распоследний человек в табели о рангах. Иные молодые люди, желая натореть в коммерции, едут учиться далеко за рубеж и с полным мешком знаний ворочаются оттуда домой, где им открыты почтенные должности. Я же, надобно вам знать, всегда остаюсь на родине. Будто опасаюсь, что в иных краях солнце светит тускло или не светит вовсе. Я тут как прикованный и все время примечаю новизну в старом, может, оттого и не стремлюсь уехать. Сам вижу, что качусь здесь по наклонной, и все же, кажется, должен дышать под небом родины, иначе вовсе не смогу жить. Конечно, уважением я не пользуюсь, слыву безалаберным, но для меня это ничего не значит, совершенно ничего. Я остаюсь здесь и, наверно, останусь и впредь. Оставаться – сущая услада. Разве природа ездит за границу? Разве деревья странствуют, чтобы в другом краю обзавестись листвой позеленее, а после вернуться и хвастать ею? Реки и облака движутся, уходят, но это иной уход, безвозвратный. Собственно, даже и не уход, просто летучий и текучий покой. Вот это, по-моему, прекрасно! Я все время смотрю на деревья и говорю себе: они ведь не уходят, так почему бы и тебе не остаться? Когда зимой я нахожусь в городе, мне любопытно увидеть его и весной, видеть дерево зимой, а по весне смотреть, как оно оживает, выгоняет первые, прелестные листочки. За весною всегда тихонько приходит лето, неизъяснимо прекрасное, как огромная, жаркая, зеленая волна из мировой бездны, и летом мне хочется насладиться опять-таки здесь, понимаете, сударь, здесь, где на моих глазах цвела весна. Вот, к примеру, эта полоска луга или газона. Как сладостно смотреть на нее ранней весною, когда под лучами солнца только-только стаял снег. И ведь это дерево, и эта полоска травы, и этот мир вокруг – вот что главное; думаю, в других краях я бы вовсе не заметил лета. Дело в том, что мне чертовски хочется оставаться здесь, а вдобавок есть масса невеселых причин, не позволяющих мне уехать за границу. К примеру, найдутся ли у меня деньги на поездку? Вам ли не знать, что поездка по железной дороге или на пароходе стоит денег. У меня еще хватит денег на два десятка трапез, но никак не на поездку. Да я и рад, что не имею денег. Пусть другие путешествуют и возвращаются, набравшись ума. А мне достанет ума благоприлично помереть здесь, дома.
Симон ненадолго погрузился в молчание, меж тем как санитар неотрывно смотрел на него, потом продолжил:
– К тому же меня совершенно не тянет делать карьеру. Главное для других – для меня пустяк. Видит Бог, я не могу считать делание карьеры достойным уважения. Мне нравится жить, но не нравится идти по карьерной стезе, загонять себя в колею, сколько бы ни твердили, как это замечательно. Ну что тут замечательного? Смолоду сгорбленные спины от стояния за не по росту низкими конторками, морщинистые руки, бледные лица, протертые чуть не до дыр будничные штаны, дрожащие ноги, толстые животы, испорченные желудки, плешивые макушки, хмурые, злющие, скучные, тусклые, выцветшие глаза, усталые лбы и сознание, что ты был исполнительным болваном. Благодарю покорно! Лучше я останусь бедным, зато здоровым, откажусь от казенной квартиры в пользу дешевой комнатушки, хотя бы и выходящей в темный переулок, лучше буду жить в денежных затруднениях, чем в затруднениях по поводу того, где бы летом поправить расстроенное здоровье; кстати, уважает меня один-единственный человек – я сам, но это уважение для меня важнее всего, я свободен и при необходимости могу на время продать свою свободу, чтобы затем снова быть вольным как птица. Ради свободы очень даже стоит оставаться бедняком. Мне надобно питаться, но я способен насытиться малым. Я прихожу в бешенство, коли от меня просят, даже требуют того, что заключено в словах «общественное положение». Я хочу остаться человеком. Короче говоря: мне по душе рискованное, непредвиденное, неопределенное, не поддающееся контролю!
– Вы мне нравитесь, – сказал санитар.
– Я отнюдь не стремился вам понравиться, но тем не менее рад, что вызвал симпатию, ведь говорил-то я довольно-таки откровенно. Между прочим, мне и серчать на других незачем. Глупое занятие, да и нет у меня права ругать обстоятельства оттого только, что они мне не по нраву. Можно ведь уйти, я вполне могу уйти! Хотя нет, мне-то все по нраву. Я доволен своим положением. И люди нравятся мне такими, как есть. Со своей стороны я всеми силами стараюсь понравиться ближним. Я прилежен и трудолюбив, когда надобно исполнить некое задание, однако ж своим восторгом перед миром я никому в угоду не пожертвую, ну, разве что священной отчизне, хотя до сих пор повода для этого не было да, Бог даст, и не будет. Пусть люди делают карьеру, я их понимаю, им хочется жить с комфортом, позаботиться, чтобы и дети кое-что имели, они ведь предусмотрительные отцы, и дела их достойны уважения, но пусть они оставят меня в покое, дадут мне жить по моему разумению, срывать цветы удовольствия, которые мне по душе, ведь так пытаются делать все-все, только по-разному. Так чудесно быть достаточно зрелым, чтобы позволять всем жить, как они хотят, как старается каждый. Нет, когда кто-нибудь три десятка лет верой-правдой исправлял свою должность и в конце жизненной стези был отнюдь не болваном, как я давеча вгорячах сказал, а честным человеком, он вполне заслуживает, чтобы на его могилу возложили венки. А я, видите ли, не хочу венков на могилу, вот и вся разница. Конец мой мне безразличен. Они, в смысле те другие, вечно твердят, что я еще ох как поплачусь за свою заносчивость. Ну и ладно, расплата так расплата, тогда я узнаю, что значит поплатиться. Я охотно готов изведать все, а потому не имею такого страха, как те, что озабочены бестревожным и безбедным будущим. Я всегда боюсь упустить даже самый малый жизненный опыт. Тут я честолюбив, как десяток Наполеонов. Однако сейчас я проголодался и хочу пойти закусить, не составите ли мне компанию? Буду рад.
И они пошли вместе.
После несколько сумбурных речей Симон вдруг стал мягким и кротким. Восторженно смотрел на прекрасный мир вокруг, на круглые густые кроны высоких деревьев и на улицы, где шли люди. «Милые, загадочные люди!» – подумал он, позволив новому другу тронуть его за плечо. Ему пришлось по душе, что тот стал с ним так доверителен, это было вполне уместно, связывало и расковывало. Он смотрел на все смеющимися, счастливыми глазами и думал: «До чего же замечательная штука – глаза!» Какой-то ребенок поднял на него взгляд. Идти с таким товарищем, как санитар, вдруг показалось ему чем-то совершенно новым, доселе неизведанным и по меньшей мере приятным. По дороге санитар купил у зеленщика какое-то кушанье из свежих бобов, а в мясной лавке – шпику и пригласил Симона на обед. Симон с удовольствием дал согласие.
– Я всегда стряпаю сам, – сказал санитар, когда они добрались до его жилья, – привык. Поверьте, это сущее удовольствие. Вот увидите, бобы с отличным шпиком будут вам весьма по вкусу. Я, к примеру, и чулки себе сам вяжу и белье стираю. Так можно изрядно сэкономить деньги. Я всему этому научился, и почему, собственно, такие работы в порядке исключения вполне подходят и мужчине, коли он прекрасно с ними справляется. Не вижу тут ничего зазорного. И домашние туфли – вот как эти – я сам себе тачаю. Этакая работа требует, конечно, известного внимания. Связать на зиму напульсники или жилеты мне особой трудности не составляет. Когда так часто бываешь один да в разъездах, как я, приходится заниматься диковинными вещами. Располагайтесь – или располагайся – поудобнее, Симон! Позволишь ли мне называть тебя на «ты»?
– Почему бы нет? Охотно! – И Симон, сам не зная почему, покраснел.
– Ты с первого взгляда очень мне понравился, – сказал санитар, который назвался Генрихом, – достаточно посмотреть на тебя – и сразу веришь, что ты хороший малый. Впору тебя расцеловать, Симон.
Симону вдруг стало душно в этой комнате. Он встал со стула. Догадывался уже, что за человек тот, кто так нежно на него смотрит. Но ведь от него не убудет. «Ладно, пусть, – подумал он. – В остальном Генрих очень милый, нельзя же из-за этого отвечать ему грубостью!» И он подставил губы, на которых тот запечатлел поцелуй.
Подумаешь, какой пустяк!
Кстати, нежное обращение ему понравилось и показалось вполне под стать состоянию размягченности, в коем он пребывал. Хотя бы и со стороны мужчины на сей раз! Он отчетливо чувствовал, что странная симпатия этого человека к нему нуждалась в деликатной и покуда не протестующей осмотрительности, и он просто не мог разрушить надежды этого человека, пусть даже и недостойные. Надо ли из-за этого выказывать возмущение? «Ни в коем случае, – думал Симон, – до поры до времени предоставлю ему свободу действий, так будет сейчас лучше всего!»
Вечер они провели, переходя из трактира в трактир; санитар весьма любил выпить, потому что особо не знал, чем еще занять свободное время. Симон почел за благо во всем участвовать. В маленьких, душных заведеньицах он знакомился с людьми, которые с невероятным упорством резались в карты. В карточной игре они, казалось, видели свой собственный мир, куда посторонним соваться незачем. Были там и такие, что целый вечер сидели за столом, зажав в зубах длинные сигары и перекатывая их из одного угла рта в другой, но более ничем не привлекали к себе внимания, разве только когда окурок становился так мал, что уже не держался в зубах, – тогда они накалывали его на острие перочинного ножа, чтобы докурить до возможно малых размеров. Изможденная беспутная пианистка рассказала ему, что ее сестра – скверная родственница, зато знаменитая концертная певица, правда, они давно уже прекратили близкое общение. Симон счел это понятным, но держался кротко и ничего ей не сказал. Женщина показалась ему скорее несчастной, нежели испорченной, а несчастье всегда вызывало у него уважение, испорченность же он полагал следствием несчастья, каковое по меньшей мере требовало порядочности. Он видел толстых, низеньких, до ужаса деятельных трактирщиц, которые обнаруживали в общении с посетителями большую предупредительность, меж тем как их мужья спали на диванах или в мягких креслах. Нет-нет раздавалась добрая старая народная песня, и пел ее сущий мастер по части старинных песен – и в тональности, и в переливах голоса. Звучали эти песни красиво и печально, всяк невольно угадывал, что некогда, давным-давно, их уже распевали иные хриплые и звонкие голоса. Один без конца рассказывал анекдоты, невысокий парень в большой широкополой шляпе с высокой тульей, купленной, поди, у старьевщика. Рот у него был сальный, и анекдоты такие же, однако они хочешь не хочешь вызывали смех. Кто-то сказал ему: «Восхищаюсь вашим остроумием!», но острослов с хорошо разыгранным удивлением отмел нелепый восторг, и вот это поистине свидетельствовало об уме, какому бы порадовался любой образованный человек. Санитар сообщал каждому, кто садился с ним рядом, что, по сути, слишком плох, но, если вдуматься, слишком хорош для своей родины. Симон думал: «Как глупо!» Зато о Неаполе Генрих рассказал куда лучше, поведал, например, что в тамошних музеях можно увидеть диковинные останки древних людей, судя по которым, давние люди превосходили нынешних и ростом, и шириною, и дородностью. Руки у них не уступали нашим ляжкам! Вот было племя! Что мы в сравнении с ним? Обессилевшее поколение, убогое, захиревшее, циничное, долговязое, истонченное, изорванное, искромсанное и захудалое. И Неаполитанский залив он сумел описать в изящных словах. Многие внимательно его слушали, но многие спали и во сне слышать ничего не могли.
Домой Симон воротился очень поздно, входная дверь оказалась заперта, ключа у него не было, и он весьма решительно позвонил в дверной колокольчик, так как находился в том состоянии, когда человек, как правило, действует бесцеремонно. На громкий трезвон немедля отворилось окно, и белая фигура – без сомнения, хозяйка в ночной кофте – сбросила ему завернутый в толстую бумагу ключ.
Наутро она, вовсе не гневаясь, с приветливейшей улыбкой сказала «доброе утро» и ни словом не обмолвилась о ночном шуме. Симон поэтому тоже счел неуместным упоминать означенный инцидент и оправдываться не стал – частью из деликатности, частью от лени.
Выйдя из дому, он отправился к санитару. Утро понедельника опять выдалось чудесное. Горожане уже занимались делами, а потому улицы были пустынны и светлы; он поднялся в комнату, где заспанный санитар еще лежал в постели. Нынче Симон заметил на стенах то, чего вчера не видел: множество весьма слащавых христианских украшений – вырезанных из бумаги розовых ангелочков да таблички с изречениями в рамках из загадочных засушенных цветов. Он прочел все изречения, среди которых были глубокомысленные, побуждавшие к раздумьям, стародавние, пожалуй что постарше восьмерых стариков, вместе взятых, были и выглаженные новые изречения, читавшиеся так, будто их тысячами штамповали на фабрике. «Как странно! – думал он. – Повсюду, во многих комнатах и комнатенках, куда бы ни пришел и каким бы делом ни занимался, видишь на стенах этакие свидетельства былой религиозности, отчасти много чего говорящие, отчасти мало, а то и вовсе ничего. Во что верит санитар? Наверняка ни во что! Пожалуй, для многих нынешних людей религия всего-навсего незначительное, поверхностное и неосознанное дело вкуса, вроде любопытства и привычки, по крайней мере для мужчин. Возможно, одна из сестер санитара украсила эту комнату таким манером. Думаю, да, ведь у девушек есть более глубокая причина для набожности и религиозных раздумий, нежели у мужчин, чья жизнь всегда, с незапамятных времен, спорила с религией, коль скоро они не были монахами. Однако убеленный сединами протестантский пастор с кроткой терпеливой улыбкой и благородной походкой, когда шагает по уединенным лесным прогалинам, неизменно являет собою прекрасное зрелище. В городе религия не так красива, как в деревне, где живут крестьяне, самому образу жизни которых уже присуще нечто глубоко религиозное. В городе религия похожа на машину, а в машине никакой красоты нет, в деревне, однако, вера в Бога пробуждает те же чувства, что и цветущее хлебное поле, или просторный пышный луг, или восхитительные волны отлогих холмов, где на вершине прячется уединенный дом с тихими обитателями, коим раздумье – близкий друг. Не знаю, мне кажется, в городе приходский священник чересчур близко соседствует с биржевым спекулянтом и с безбожным художником. В городе вере в Бога недостает надлежащего отдаления. Для религии здесь слишком мало неба и слишком мало аромата земли. Мне трудно подобрать слова, да, собственно, какая разница. Мой опыт говорит, что религия – это любовь к жизни, сердечная привязанность к земле, радость минуты, доверие к красоте, вера в людей, беззаботность на дружеской пирушке, удовольствие от размышлений и мечтаний и кротость в невзгодах, улыбка перед лицом смерти и мужество в любом предприятии, какое предлагает жизнь. В конечном счете нашей религией стала глубокая человеческая порядочность. Коль скоро люди доброжелательны друг к другу, они и к Богу относятся так же. А Богу, поди, ничего другого и не надобно? Сердце и чуткость могут сообща создать порядочность, которая Богу, поди, куда милее мрачной, фанатичной веры, наверное смущающей Всевышнего, так что Он в конце концов не желает и слушать молитвы, громогласно возносимые к небесам. На что Ему молитва, возносимая столь дерзко да грубо, будто Он туг на ухо? Не следует ли представлять Его себе как обладателя тончайшего слуха, коли вообще можно Его себе представить? Приятны ли Ему проповеди и звуки органа, Ему, Невыразимому? Что ж, Он, наверно, улыбается, глядя на наши по-прежнему сомнительные старания, и надеется, что однажды мы догадаемся поменьше ему докучать».
– Вы что-то очень задумчивы, Симон, – сказал санитар.
– Идемте? – спросил Симон.
Санитар меж тем был полностью готов, и оба не спеша зашагали по крутым улочкам в гору. Солнце жарко припекало. Они вошли в утопающий среди зелени дворик питейного заведения и заказали по кружке винца. А когда хотели уйти, хозяйка, хорошенькая женщина, уговорила их остаться, и они остались до вечера. «Вот так, не успеешь оглянуться, а весь летний день просидел за выпивкой», – подумал Симон со смешанным чувством хмельного довольства и кроткой, прелестной, мелодичной печали. Вечерние краски средь зелени дурманили ему голову. Приятель пристально и требовательно посмотрел ему в глаза, обнял его за шею. «По правде говоря, это противно», – подумал Симон. По дороге они оба в весьма вызывающей манере заговаривали со всеми женщинами и девушками. Рабочие возвращались домой с работы, шагали еще бодро, как-то странно поводя плечами, словно могли теперь облегченно вздохнуть. Симон высмотрел среди них замечательные фигуры. Когда они добрались до жаркого, уже сумеречного леса, венчавшего гору, внизу, в далеком мире, заходило солнце. Оба устроились средь зеленых кустов и просто молча дышали. Затем, как Симон и ожидал, товарищ приблизился к нему, отчего он аж похолодел.
– Это бессмысленно, – сказал он, – перестаньте. Или перестань.
Санитар угомонился, но настроение у него испортилось, мимо проходили люди, и они покинули это место. «Отчего я провожу день в обществе такого человека?» – подумал Симон. Но тотчас же признался себе, что чем-то этот человек ему симпатичен, невзирая на его странные, некрасивые наклонности. «Другой бы, верно, презирал санитара, – мысленно рассуждал он, когда они отправились в обратный путь, – но я из тех, кому интересен и мил всякий человек со всеми его хорошими и дурными обычаями. Я не дохожу до презрения к людям, вернее, презираю, собственно говоря, только трусость и апатию, однако ж в испорченности с легкостью нахожу кое-что интересное. И в самом деле, она во многом просвещает, позволяет глубже постичь мир, умудряет опытом, делает суждения мягче и точнее. Надобно знакомиться со всем, а познакомиться можно, лишь храбро прикоснувшись. Чураться кого-либо, просто из опасения, я бы почел для себя недостойным. Вдобавок иметь друга – это же бесценно! Что за беда, коли друг этот слегка странный…»
– Ты в обиде на меня, Генрих? – спросил Симон.
Но тот не ответил. Лицо его приняло хмурое выражение. Они снова подошли к давешнему питейному заведению, теперь окруженному темнотою. Разноцветные горящие лампионы кое-где освещали темную зелень, шум и смех доносились из зарослей, и оба, привлеченные веселой, огневой жизнью, снова зашли туда, где их дружелюбно встретила хозяйка.
Темно-красное вино искрилось в прозрачных бокалах, отблески света играли на разгоряченных лицах, листва кустов задевала платья женщин, и казалось вполне естественным провести жаркую летнюю ночь в шелестящем саду за бокалом вина, с песнями и смехом. От расположенного внизу вокзала до слуха мечтателей долетал шум железной дороги. Рослый краснощекий сын богатого виноторговца затеял с Симоном дерзкий философический разговор. Санитар противоречил во всем, оттого что был недоволен и сердит. Официантка, стройная черноволосая девушка, подсела к Симону и не возражала, когда он притянул ее к себе и поцеловал. Она охотно подставила горделиво изогнутые губы, словно созданные для того, чтобы пить вино, смеяться и целоваться. Санитар вконец осерчал и хотел уйти, однако ж позволил себя остановить. Тут послышалась песня, затянул ее молодой загорелый темноволосый парень в зеленой егерской шляпе, а девушка, которая тесно прильнула к его груди, подпевала тихим, счастливым голоском. Звучало это так пленительно, печально, по-южному. «Песни, – думал Симон, – всегда ведь печальны, во всяком случае красивые. Они призывают уходить!» Но он еще долго оставался в ночном саду.