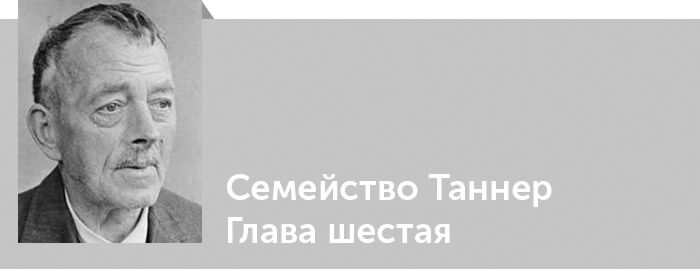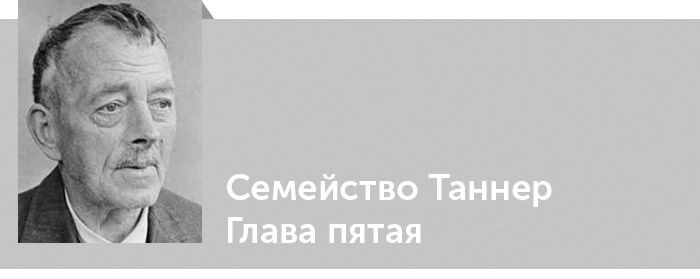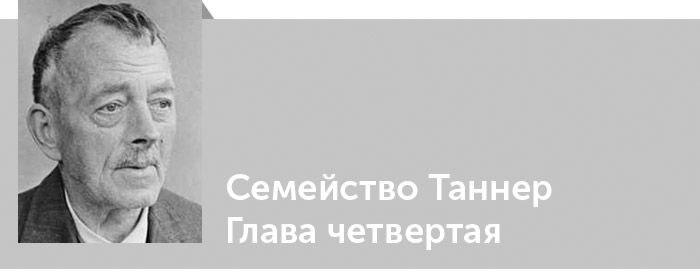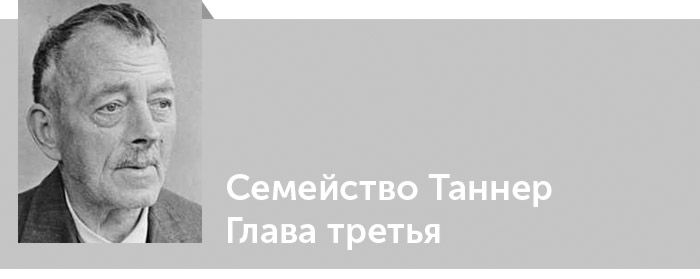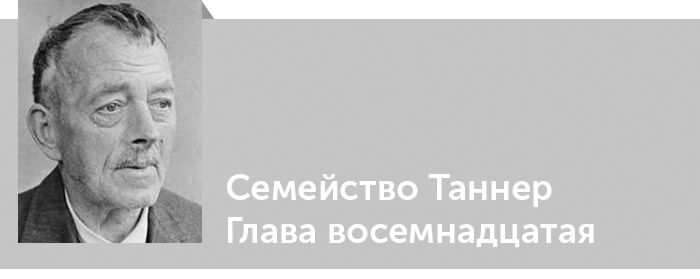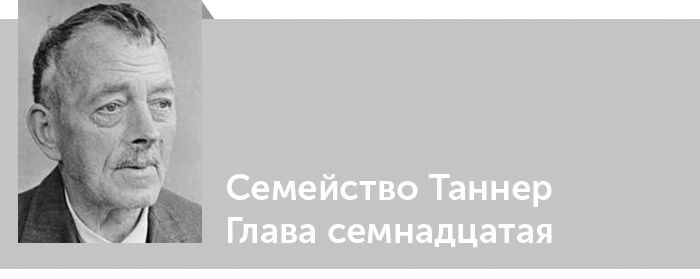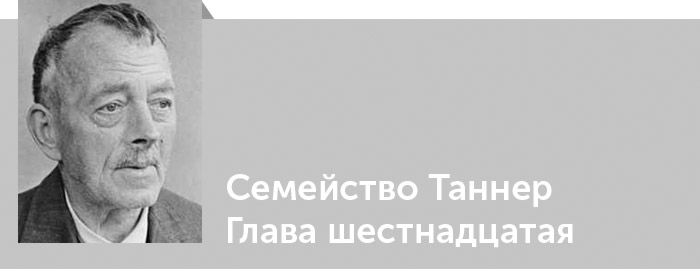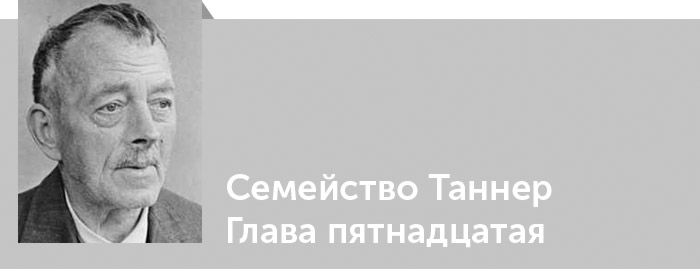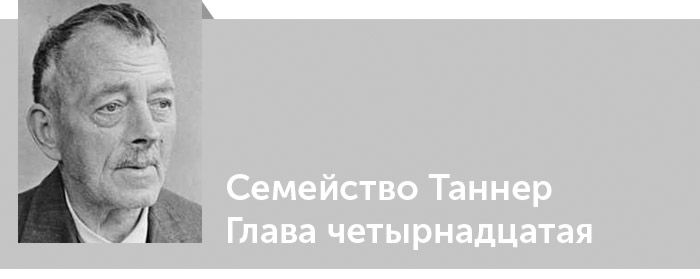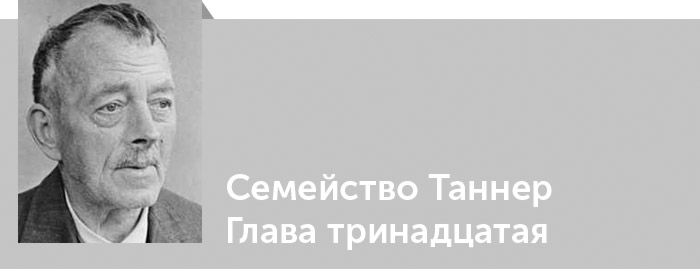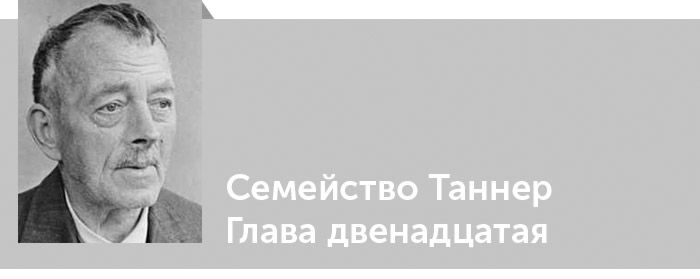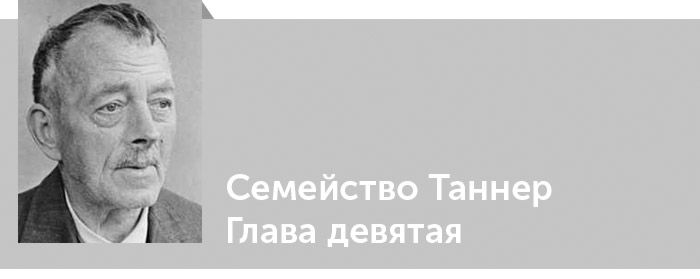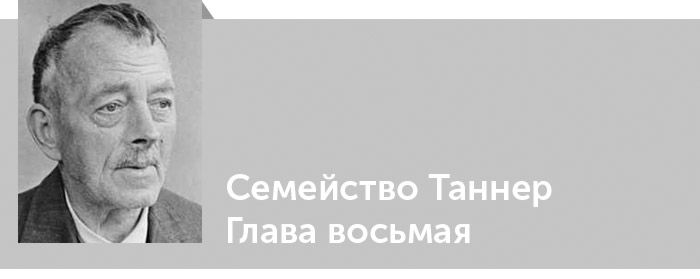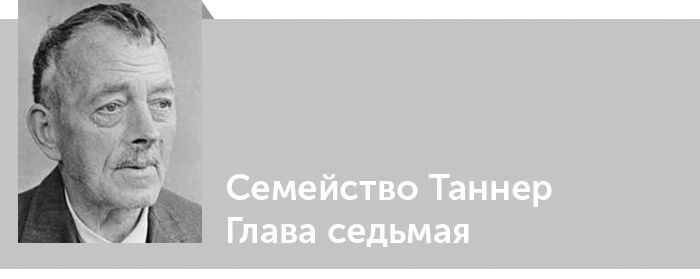Роберт Вальзер. Семейство Таннер. Глава 10
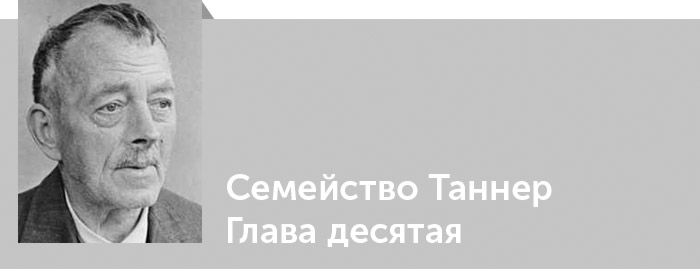
Однажды вечером Хедвиг сказала:
– Порой мне кажется, будто я отделена от жизни легкой, но непроглядной перегородкой. Она не печалит меня, просто наводит на размышления. Возможно, с другими девушками обстоит так же, не знаю. Возможно, я ошиблась с профессией, когда выбирала себе путь в жизни. Ведь мы, девушки, учимся вполсилы, учение для нас не главное. И как мне теперь странно, что я стала учительницей. Отчего не модисткой или еще кем-нибудь? Совершенно не могу себе представить, какие чувства побудили меня остановить выбор именно на этой профессии. Что удивительного и заманчивого я в ней тогда находила? Может быть, верила, что стану благодетельницей, что обязана ею стать, чувствовала, что это мой долг и призвание? Не имея опыта, многому веришь, хотя и с опытом тоже веришь, только другому. Странно. Смотреть на жизнь так серьезно, как смотрела на нее я, – жестоко по отношению к себе самому. Должна тебе сказать, Симон: я вправду смотрела на жизнь слишком серьезно и слишком трепетно; не подумала, что я девушка, когда взялась за то, что под стать лишь мужчинам. Никто не говорил мне, что я девушка. Никто не льстил мне подобным замечанием. Никто не задумывался обо мне с тою серьезностью, какая была необходима, чтобы сделать мне столь простенькое замечание, а ведь я бы к нему прислушалась, хотя в первую минуту и разыграла бы возмущение. Я бы прислушалась, если бы ко мне обратились от сердца. Но я слышала только слова, бесстрастные, брошенные невзначай: «Конечно, так и сделай. Хорошо, что ты хочешь приобрести профессию. Это делает тебе честь». И так далее. Странная честь – быть несчастной, душевно одинокой и исполненной надежд девушкой, как я теперь со своей почетной профессией. Профессия – пожизненное бремя для мужчины с крепкими плечами и целеустремленной волей, девушку вроде меня она подавляет. Радует ли меня моя профессия? Нисколько не радует, и прошу тебя, не пугайся моих признаний, просто ты из тех, кому делаешь признания поистине с удовольствием. Ты меня понимаешь, я знаю. Возможно, другие тоже бы меня поняли, однако нехотя, по той или иной причине. Ты понимаешь с охотою, потому что у тебя нет причин пугаться простых и откровенных признаний. Ты в душе проживаешь всю мою жизнь, жизнь родной сестры. Вообще-то ты слишком добрый, чтоб быть мне только братом. Жаль, ты не можешь стать для меня большим, хотя и стал бы с охотою, ведь ты киваешь. Позволь продолжить. Такому слушателю рассказываешь с удовольствием. Итак, слушай дальше: я решила отказаться от школьной карьеры, причем в скором времени; ведь силы мои уже на исходе. Я думала, будет так замечательно направлять детей в жизни, учить их, открывать их души для добродетелей, оберегать их и наставлять. Задача превосходная, в самом деле, но чересчур тяжкая для меня, слабой; мне она не по плечу, отнюдь не по плечу. Я думала, что по плечу, но теперь вижу совсем другое: я сгибаюсь под бременем этой задачи, которая должна бы стать мне ежедневным отдохновением, а стала непосильной и несправедливой тягостью. То, что тебя подавляет, ощущаешь как несправедливость. Но вправе ли я на такое чувство? Не содержится ли в моем ощущении мера причиненной мне несправедливости? И моя ли вина, что несправедливость, по сути своей, невинна и сладостна – дети? Дети! Я более не могу их терпеть. На первых порах все их лица, все их движения, старания и даже ошибки вызывали у меня радость. Я радовалась мысли, что посвятила себя этой юной, робкой и беспомощной людской стайке. Но можно ли всю жизнь обманываться одной-единственной подобной мыслью, можно ли ради одной-единственной идеи пренебречь всею жизнью? Горе тебе, коли эта идея и эта жертва однажды станут тебе безразличны, коли ты окажешься неспособен предаться мысли, заменившей тебе всё, с той же глубокой страстью, без которой невозможно оправдать в душе означенную подмену. Горе тебе, коли ты вообще заметишь подмену. Ведь тогда начнешь размышлять, проводить различия, оценивать, с тоскою и злостью сравнивать, и станешь горевать, что усомнился и потерял веру, и будешь рад, что очередной день подошел к концу и можно в тишине всплакнуть. Стоит закрасться крупице сомнения, и ты уже не хочешь иметь ничего общего с жизненным помыслом, который основан лишь на полной самоотдаче, и говоришь себе: я исполняю свою обязанность, вот и все! Детей я по-прежнему люблю и всегда любила. Кто может не любить детей? Но на уроках я думаю о другом, более далеком, нежели души ребятишек, а это по отношению к ним предательство, и я более не желаю его совершать. Школьная учительница должна отдавать детям всю свою любовь, иначе она не сможет применить власть, а без власти грош ей цена. Возможно, я преувеличиваю, но, по моему твердому убеждению, все, или по крайней мере большинство, кому я бы это сказала, сочли бы мои слова преувеличением. Однако ж эти слова отвечают моему отношению к жизни, а значит, говорить иначе я никак не могу. Я пока не научилась изображать приятность, довольство, доброе самочувствие, не испытывая их, и думаю, тот, кто предполагает, что я когда-либо этому научусь, сильно ошибается. Я слишком слаба, чтобы обманывать и лицемерить, и сколько ни размышляю, не вижу причин, которые оправдывают ложь. Разговаривая сейчас с тобой таким вот образом, я просто пользуюсь оказией, о которой так давно мечтала, чтобы излить всю мою слабость. Так приятно иметь возможность признаться в слабости, после долгих месяцев мучительной сдержанности, требовавшей сил, каких у меня нет. Я неспособна впредь исполнять обязанность, которая меня не прельщает, и теперь ищу работу под стать моей гордости и моей слабости. Только найду ли? В самом деле не знаю, знаю лишь, причем наверняка, что должна искать, пока не обрету уверенность, что существуют счастье и обязанность, сплавленные воедино! Я хочу стать бонной, воспитательницей и уже предложила письмом свои услуги одной богатой итальянской даме, пожалуй, письмо вышло чересчур длинное, я написала ей, что вполне могу обучать двоих детей, мальчика и девочку, всем желательным дисциплинам. В этом письме я чего только не понаписала, сказала, что с удовольствием поменяю школьный класс на детскую комнату, что люблю и уважаю детей, что умею играть на фортепиано и вышивать красивые вещицы и что я из тех девушек, которых для их же блага надобно держать в строгости. Я выбирала в письме очень горделивые слова, сказала этой даме, что умею любить и повиноваться, но не льстить, что могла бы, конечно, и польстить, но только по собственному приказу; что представляю себе свою будущую хозяйку скорее гордой и строгой, нежели уступчивой, что мне будет больно и причинит разочарование, ежели окажется, что при желании можно легко и дерзко ее обмануть; что я не имею намерения ехать к ней, чтобы отдохнуть, но надеюсь получить работу для сердца и для рук. Я призналась ей, что уже теперь, в предвкушении встречи, искренне люблю обоих ее детей, что в полной мере располагаю необходимым уважением к детям, дабы воспитывать их в строгости и одновременно беззаветно, что я надеюсь получить возможность служить ей в таком духе, что у меня пылкое и вместе спокойное представление о службе и ничто не заставит меня отступиться от него. Для изворотливой да подхалимской службы я не гожусь, а равно нет у меня таланта и к грубой, униженной предупредительности. Однако ж я охотно откажусь от мягкого обхождения в пользу холодного и сурового, коль скоро в нем не будет оскорбительности, и всегда отлично сумею соразмерить свое и ее положение, прошу не справедливости, но гордости, каковая не позволит ей допустить несправедливость, и я буду в душевном восторге, коли она, хотя бы раз в год, подаст мне знак доброй удовлетворенности, которую я ценю выше, чем доверительность, ведь эта последняя была бы для меня унижением, а не милостью, и я надеюсь в ее лице найти даму, которая станет мне примером того, как должно вести себя в разных обстоятельствах, а она может не опасаться, что возьмет на службу болтушку, которая со всею охотою примется разглашать ее секреты. Я написала ей, что не нахожу слов, чтобы выразить, как бы я хотела восхищаться ею и ей подчиняться и как бы хотела показать, что никогда не буду ей в тягость. Далее я высказала опасение, а попутно и надежду, что хотя сейчас и не владею языком ее страны, но определенно быстро его выучу, коли мне покажут, что надобно для этого сделать. И в конце написала, что иных препятствий, могущих помешать мне войти в ее дом, я не вижу, за исключением, пожалуй, робости, которая пока присуща моим манерам, но которую я надеюсь преодолеть; неуклюжесть и неловкость вообще-то моей натуре несвойственны…
– Ты уже отправила это письмо? – спросил Симон.
– Да, – отвечала Хедвиг, – а что могло бы мне помешать? Наверно, в скором времени я отсюда уеду, и отъезд меня огорчает; ведь я покидаю столь многое и, наверно, не получу взамен ничего, что позволит мне забыть брошенное и оставленное в беде. Тем не менее я твердо решила уехать; не могу я больше оставаться наедине с моими мечтами. Ты ведь тоже скоро уедешь, и что мне тогда здесь делать? Ты бросишь меня как обломок, как испорченную вещь, а вернее сказать, все это место, вся деревня с округою станет тогда обломком, брошенной, ненужной, отринутой вещью, и я посреди всего этого? Да, я слишком привыкла смотреть на здешнюю нашу жизнь твоими глазами, находить ее прекрасной, пока она видится такою тебе; ты находил ее прекрасной, а значит, и мне она виделась прекрасной. Но впредь я уже не смогу находить в ней красоту и простор, я стану ее презирать, потому что она станет тесной и тупой, а от моего равнодушного презрения она действительно станет тесной и тупой. Я не смогу жить, презирая собственную жизнь. Я должна искать себе новую жизнь, пусть даже весь мой срок уйдет на одни только поиски. Уважение окружающих, что оно значит в сравнении с другим – быть счастливой и удовлетворить гордость сердца? Даже быть несчастной и то лучше, чем пользоваться уважением. Я несчастна, несмотря на уважение, с каким ко мне относятся, а стало быть, я не заслуживаю этого уважения, ибо в моих глазах уважения достойно только счастье. Вот почему я должна попытаться быть счастливой, по возможности не претендуя на уважение. Быть может, существуют для меня такое счастье и уважение, каким дарят любовь и тоску, а не ум. Я не хочу быть несчастной, оттого что мне не хватило духу признаться себе: можно стать несчастной из-за попытки стать счастливой. Такое несчастье достойно уважения, иное же нет; ведь нехватку мужества уважать нельзя. Не могу я и впредь обрекать себя на жизнь, приносящую лишь уважение, причем лишь уважение других, которые всегда хотят видеть тебя таким, как им более всего подходит! Чего ради это нужно? И почему надобно убедиться на горьком опыте, что все, что ты снискал, в конечном счете ничего не стоит? Ты тревожился, берег, ожидал, а в итоге только обманулся. Ужасно глупо чего-то ждать; оно само не придет, надо пойти и добыть его. Конечно, трусы, вроде как пекущиеся о тебе, норовят тебя запугать. Я прямо-таки ненавижу тех, что качают головой, едва лишь услышат смелое слово. А уж как бы они себя повели, если б узнали, что ты совершил смелый поступок. Как все эти многочисленные советчики мельчают перед величием свободного деяния! И как они порабощают тебя своею приторной любовью, коли ты не находишь в себе этой смелости и покоряешься им. Здесь все с сожалением проводят меня взглядом и определенно не поймут, отчего я покидаю столь приятное и выгодное место; да и сама я покину этот край, чувствуя, что еще могу передумать и остаться. Я мечтала стать крестьянкой, иметь мужа, человека простого и ласкового, дом с участком земли и сад, а заодно и клочок неба, сеять и сажать, не требовать иной любви, кроме уважения, и с восторгом смотреть, как подрастают мои дети, что вознаградило бы мне утрату более глубокой любви. Небо и земля сливались бы в одно, дни за днями катились бы в вечность, я бы состарилась под грузом забот и солнечными воскресеньями стояла на крыльце, глядя на прохожих уже почти безучастно. Тогда бы я более не стремилась к счастью и забыла жаркие чувства, подчинялась бы мужу и его наказам и тому, что почитала бы обязанностью. И я бы знала, в чем обязанность крестьянки. Со временем мои мечты погрузились бы в вечернюю дрему и уже ничего бы не требовали. Я была бы довольна и весела, довольна, потому что не ведала бы ничего иного, весела, потому что нельзя показывать мужу хмурое лицо, омраченное заботами. Наверно, на первых порах, когда многое во мне еще кипело и бурлило, мужу моему хватило бы такта щадить меня и мягко воспитывать к будущим обязанностям, что я приняла бы с благодарностью; вот так бы оно и было, а в один прекрасный день я бы с удивлением заметила, что искренне недолюбливаю женщин с порывистым и мечтательным складом натуры, то бишь именно таких, как прежняя я, и считаю их опасными и вредными. Словом, я бы стала как все и относилась бы к жизни так, как относятся к ней другие. Но все это осталось просто мечтой. Кому-то другому, не тебе, я бы остереглась рассказывать об этом. Перед тобою мечтатели не становятся смешны, ты никого не презираешь за мечтания, ведь ты вообще никого не презираешь. Да и я в иных ситуациях вовсе не сумасбродка. С какой бы стати! Просто я теперь слишком уж увлеклась, а в таких случаях легко могу наговорить лишнего. Хочется разъяснить все свои чувства, да никак не выходит, только распаляешься. Ладно, пойдем-ка спать.
Она мягко и спокойно пожелала ему доброй ночи.
– Все же я рада, что пока остаюсь здесь, – сказала Хедвиг на следующее утро. – И как только можно так бурно рваться прочь. Будто все дело в этом! Мне едва ли не смешно и немного стыдно, что вчера я столько наговорила. И тем не менее я рада – ведь когда-нибудь надо выговориться. Как только у тебя хватило терпения слушать меня вчера, Симон! Чуть ли не благоговейно! Но я и этому рада. Вечером человек не таков, как утром, нет, он совсем другой, и в разговоре, и в чувствах. Спокойно проспав одну-единственную ночь, он, как я слыхала, может совершенно измениться. По-моему, так и есть. Все, что я вчера наговорила, нынче, светлым утром, кажется мне испуганным, преувеличенным, печальным сном. Ну что это такое! Надо ли воспринимать все с таким тягостным раздражением? Забудь! Пожалуй, я вчера устала, как обычно по вечерам, а сейчас я совершенно легкая, здоровая, гибкая, бодрая, словно вновь родилась. Такое ощущение, будто кто-то поднимает меня ввысь, будто что-то меня несет, как в паланкине. Открой окно, а я пока еще полежу. Так чудесно – лежать в постели, когда открывают окна, вот как ты открываешь их сейчас. Откуда только берется вся эта радость, переполняющая меня. Прелестный пейзаж за окном как бы танцует, свежий воздух обвевает меня. Сегодня воскресенье? Если нет, то нынешний день прямо-таки создан быть воскресным. Посмотри на герани у окна! Они такие красивые. Чего я хотела вчера? Счастья? Разве я не имею его уже теперь? Надобно ли искать его в неведомой дали, среди людей, у которых наверняка нет времени думать о счастье? Хорошо, когда для многого нет времени, очень даже хорошо, ведь если бы время было, недолго и умереть от тщеславия. Как светло и ясно у меня в голове. Ни единой мрачной мысли, все радостны и веселы, в точности как я. Не принесешь ли мне завтрак в постель, Симон? Мне было бы приятно, если б ты за мной поухаживал, будто я португальская аристократка, а ты – юный мавр, который ловит малейшее мое желание. Конечно же ты выполнишь мою просьбу. Разве у тебя есть причины отказать мне в небольшой любезности? Сколько ты пробыл здесь, у меня? Погоди, ты пришел зимою, шел снег, я хорошо помню, а с той поры минуло множество погожих и дождливых дней. Теперь ты скоро уйдешь, но сделай милость, погости у меня еще несколько дней, ладно? Через три дня я скажу тебе: «Останься еще на три денька», и возражений у тебя найдется не больше, чем сейчас, когда ты несешь мне завтрак в постель. Ты до странности пассивный и неосторожный человек. Исполняешь все, чего от тебя требуют. Согласен со всем, чего хочет другой. По-моему, от тебя можно бы потребовать и много неподобающего, прежде чем ты обидишься. К тебе волей-неволей испытываешь легкое презрение. Я чуть-чуть тебя презираю, Симон! Но знаю, ты не принимаешь такие слова близко к сердцу. Кстати, если хочешь знать, я считаю тебя способным на подвиг. Как видишь, я все же вполне хорошего о тебе мнения. С тобой можно позволять себе все. Твое поведение избавляет других от всякой несвободы в поступках. Раньше я давала тебе пощечины, всегда ябедничала маменьке, чтобы она наказала тебя за провинности, теперь же прошу: поцелуй меня! Или нет, лучше я сама тебя поцелую. В лоб, легонько! Вот так! Сегодня я просто святая по сравнению с вчерашним вечером. Предчувствую грядущие времена – и будь что будет. Только не смейся! Хотя я бы порадовалась, коли бы ты рассмеялся; ведь звуки смеха замечательно под стать раннему, голубому утру. А теперь выйди, пожалуйста, из комнаты, позволь мне одеться.
Симон оставил ее одну.
– Я давно взяла в привычку, – сказала Хедвиг в тот день Симону, – относиться к тебе свысока. Наверно, и другие смотрят на тебя так же. Ты не производишь впечатления человека большого ума, скорее кажешься любящим, а тебе известно, как примерно ценится это качество. Не думаю, чтобы твои помыслы и дела когда-нибудь принесли тебе успех среди людей, но ты и не станешь сокрушаться по этому поводу, во всяком случае, тебе, как я понимаю, такое несвойственно. Пожалуй, лишь те, кто хорошо тебя знает, сочтут тебя способным на глубокие чувства и дерзкие помыслы, другим это даже в голову не придет. Вот что главное, а равно и причина, по которой ты, очень может быть, не добьешься в жизни успеха: ведь, чтобы тебе поверить, надобно прежде хорошенько тебя узнать, а это требует времени. Первое впечатление, которое обеспечивает успех, всегда будет тебя подводить, хотя сей факт ничуть не поколеблет твоего спокойствия. Любить тебя будут немногие, зато кое-кто из них возложит на тебя все свои надежды. Симпатией к тебе проникнутся люди простые и добрые, ведь несуразность твоя может зайти очень далеко. Есть в тебе что-то несуразное, опрометчивое… беспечно-нелепое, что ли. Одни станут обижаться, называть тебя наглецом, и ты обзаведешься множеством неотесанных недругов, которые судят о тебе поспешно, однако ж могут тебя помучить; впрочем, тебя им не напугать. Другие всегда будут с тобою резки, бесцеремонны, третьи увидят в тебе заносчивость; стычек будет предостаточно, так что берегись! В большой компании, где как-никак важно показать себя и понравиться незаурядными речами, ты всегда станешь помалкивать, ибо тебя не прельщает открывать рот, когда столько народу говорит наперебой. Поэтому тебя оставят без внимания, а ты от строптивости поведешь себя неблагоприлично. Зато иные люди, хорошо тебя узнавшие, почтут за удовольствие сердечно побеседовать с тобою наедине, ведь ты умеешь слушать, что в беседе, пожалуй, важнее самих рассуждений. Человеку молчаливому вроде тебя охотно доверят секреты и душевные переживания, и в тактичном умолчании и немногословии ты покажешь себя сущим мастером, я имею в виду, неосознанно, не прилагая к этому нарочитых усилий. Говоришь ты несколько неуклюже, рот у тебя довольно-таки неловкий, ты еще и говорить не начал, а он уж открыт, будто ты ждешь, что слова прилетят откуда-нибудь прямиком к тебе в рот. Для большинства окружающих ты останешься неинтересен, для девушек – скучен, для женщин – незначителен, для мужчин – совершенно недостоин доверия и вял. Все же не мешало бы тебе чуточку изменить себя, коли возможно! Последи за собой, прояви толику честолюбия; ведь полное его отсутствие ты в скором времени и сам непременно сочтешь изъяном. К примеру, Симон, глянь-ка на свои брюки – понизу до лохмотьев обтрепались! Знаю, знаю: это всего-навсего брюки, но и брюки должно содержать в порядке, как и душу, ведь обтрепанные до лохмотьев, худые брюки свидетельствуют о небрежности, а небрежность идет из души. Стало быть, и душа у тебя обтрепанная. И еще я хотела тебе сказать: ты ведь не думаешь, что я говорила все это в шутку? Ишь, ему смешно! Разве, по-твоему, у меня не больше опыта, чем у тебя? Впрочем, нет! У тебя опыта больше, хотя, когда говорю, что тебе еще предстоит многое узнать, я как раз и доказываю свою опытность. Или нет?..
На миг она задумалась, потом продолжила:
– Когда ты уедешь, а вскоре так и случится, не пиши мне. Я не хочу. Ты не должен думать, будто обязан сообщать мне о своем дальнейшем житье-бытье. Оставь меня без внимания, как бывало раньше. Какой прок нам обоим от переписки? Я буду жить здесь по-прежнему, с удовольствием вспоминая, что ты провел со мною целых три месяца. Все вокруг станет навевать мне твой образ. Я наведаюсь во все те места, которые нам обоим казались прекрасными, и найду их еще прекраснее; ведь нехватка, урон делает вещи только краше. Мне и всей округе будет чего-то недоставать, но эта пустота, сама эта нехватка наполнит мою жизнь еще более милыми ощущениями. Я не склонна ощущать нехватку как гнет. С какой стати?! Наоборот, в ней заключено нечто избавительное, дарящее облегчение. Вдобавок пустоты существуют затем, чтобы наполнить их чем-нибудь новым. Утром, собираясь вставать, я вдруг подумаю, будто слышу твои шаги и твой голос, и улыбнусь своему заблуждению. Знаешь, я люблю заблуждения, и ты тоже их любишь, я уверена. Странно, сколько я наговорила за эти дни. Эти дни! По-моему, эти дни и сами должны чувствовать, как я ими дорожу, и из уважения ко мне им бы не мешало быть медлительнее, протяженнее, ленивее, спокойнее – и тише! Впрочем, они так и делают. Я ощущаю их приближение как поцелуй, а их таинственный уход – как рукопожатие, как приветный взмах милой, знакомой руки. Ночи! Сколько ночей ты провел здесь, у меня, и как крепко спал; ты мастер поспать – там, в каморке, на соломенном тюфяке, который скоро лишится хозяина и сна. Грядущие ночи станут приближаться ко мне робко, как набедокурившие ребятишки, потупив взор, подходят к отцу или к матери. Симон, когда ты уедешь, ночи станут менее спокойны, и я скажу тебе почему: ночью ты был так спокоен, своим сном умножал покой и тишину. Все эти ночи оба мы были тихими, спокойными людьми; теперь мне придется в одиночку быть тихой и спокойной, несколько принужденно, и тишины и покоя убавится; ведь я часто буду привставать в темноте, прислушиваться к чему-то. Вот тогда-то я почувствую, что вокруг уже далеко не так тихо и спокойно. Может статься, я и всплакну, но не из-за тебя, так что, будь добр, обойдись без домыслов. Нет, вы посмотрите, он сей же час принимается фантазировать. Нет-нет, Симон, из-за тебя никто плакать не станет. Уехал – и ладно. Всё. Думаешь, из-за тебя можно всплакнуть? Ничего подобного. Даже не думай. Чувствуется, что ты уехал, заметно, ну и что дальше? Тоска или что-нибудь вроде того? По таким людям, как ты, никто не тоскует. Ты не пробуждаешь тоску. Ничье сердце не затрепещет тебе вослед! Устремить к тебе помыслы? Да никогда! Иной раз о тебе вспомнят, небрежно, как ненароком роняют иголку. Большего ты и не заслуживаешь, доживи хоть до ста лет. Ты совершенно неспособен оставить по себе память. После тебя вообще ничего не остается. Даже не знаю, что ты мог бы оставить, у тебя ведь ничегошеньки нет. И нечего так нахально смеяться, я говорю всерьез. Прочь с моих глаз! Марш отсюда!..
В последующие дни погода испортилась, лил дождь, что опять-таки послужило поводом задержаться. Не мог же Симон отправиться в путь при этаком ненастье. Мог бы, конечно, да только зачем, не лучше ли дождаться хорошей погоды? Вот он и остался. На день-другой, не больше, думал он. Почти целый день он сидел в большом пустом классе, читал роман, который перед уходом хотел дочитать. Иногда прохаживался между рядами парт, не выпуская из рук книгу, которая так его увлекла, что он только о ней и думал. Но чтение не продвигалось, он все время застревал в собственных мыслях. Почитаю, пока идет дождь, а как только распогодится, уеду, в самом деле уеду.
В последний день Хедвиг сказала ему:
– Ну вот, пора тебе уезжать, все решено. Прощай. Подойди-ка поближе и дай мне руку. Может статься, очень скоро я отдам себя мужчине, который меня не заслуживает. Теперешней моей жизни придет конец. Я буду пользоваться большим уважением. Люди станут говорить: дельная женщина. Собственно, мне вовсе не хочется впредь слышать о тебе. Постарайся стать добрым, честным человеком. Участвуй в общественных делах, пусть о тебе заговорят, мне тогда будет приятно услышать о тебе от людей. Или живи как умеешь, оставайся в тени, сражайся в тени со множеством дней, какие еще наступят. Я не считаю тебя способным на малодушие. Что еще сказать, дабы пожелать тебе удачи? Ты хоть поблагодари. Ну же! Неужто не собираешься поблагодарить меня за приют, который я тебе предоставила? Хотя нет, не надо, тебе это не к лицу. Не умеешь ты поклониться и сказать, что просто не находишь слов, чтобы выразить свою благодарность. Само твое поведение было благодарностью. Время с тобой мчалось для меня во весь опор, его аж в жар бросало. В этом чемоданчике правда все твое достояние? Ты и впрямь беден. Дорожный чемоданчик – вот и все твое обзаведение. В этом есть что-то восхитительное, но и что-то жалкое. Ступай теперь. Я посмотрю в окно, как ты уходишь. Когда поднимешься на гребень холма, обернись и погляди в мою сторону. Какие еще нежности нам нужны? Брату и сестре? Что говорить, коли сестра никогда более не увидит брата? Я прощаюсь с тобой довольно холодно, потому что знаю тебя, знаю, что ты терпеть не можешь прощальных нежностей. Между нами они ничего не значат. Так что скажи мне «прощай» и уходи…