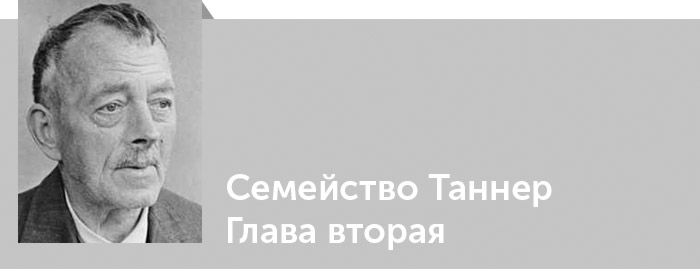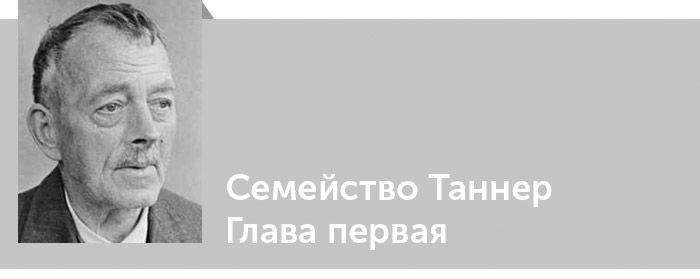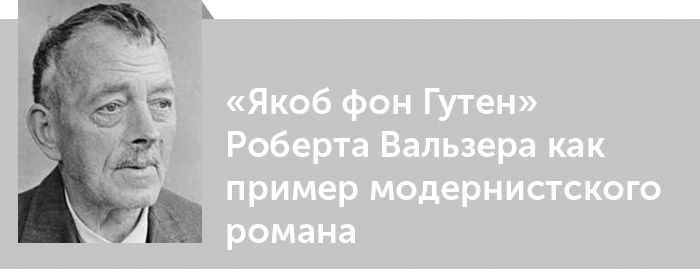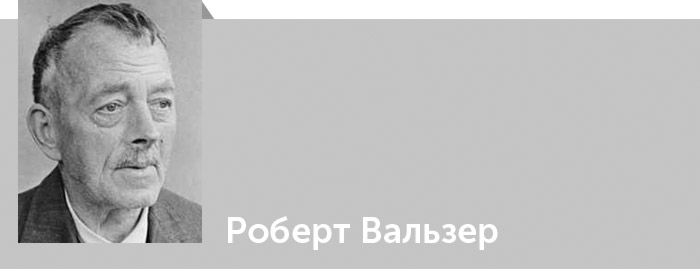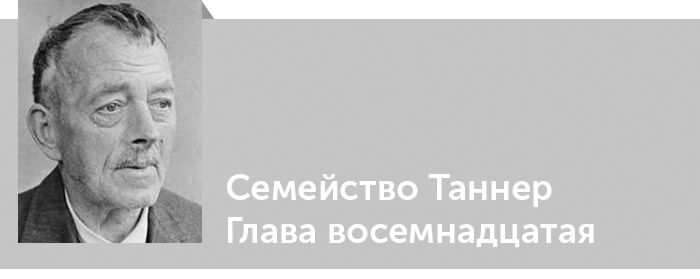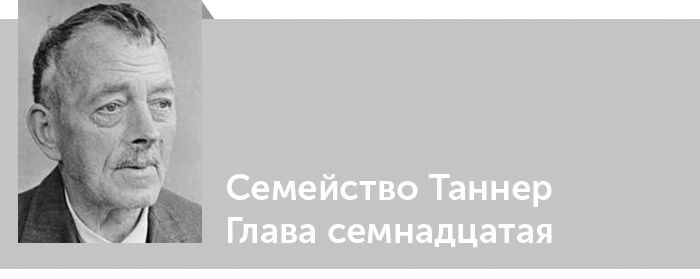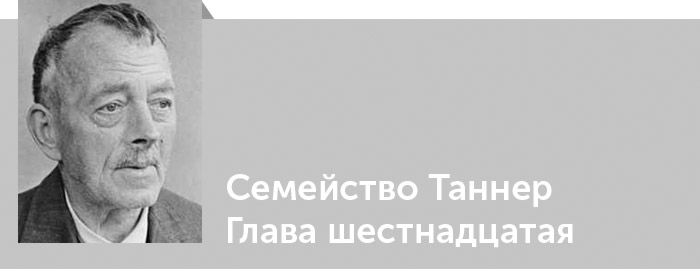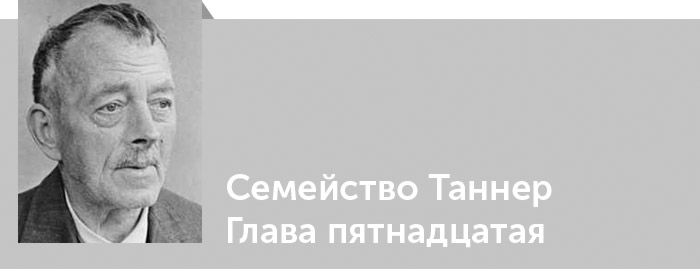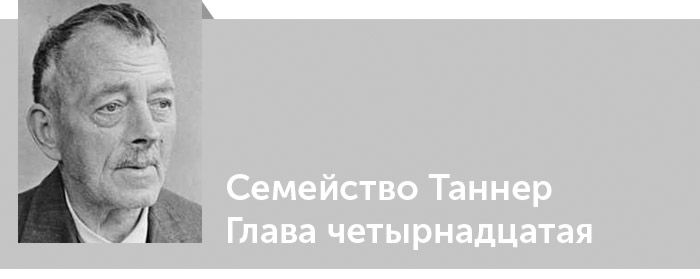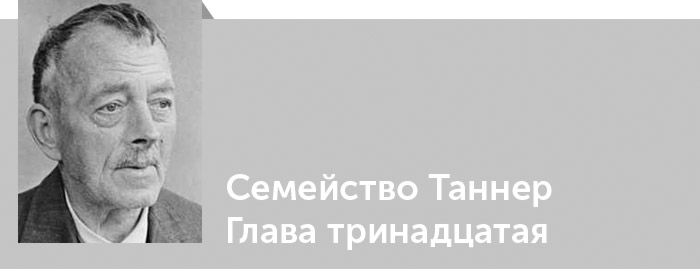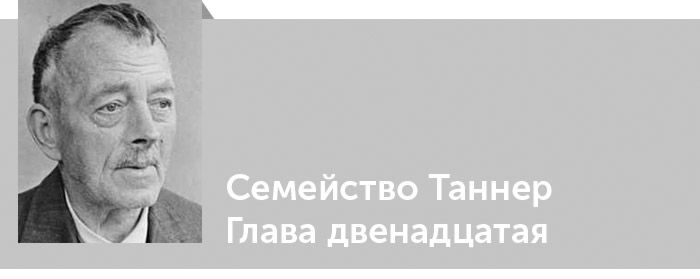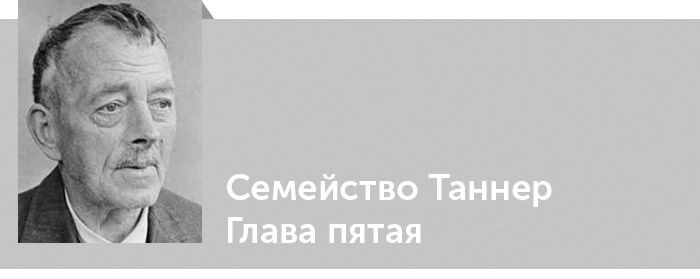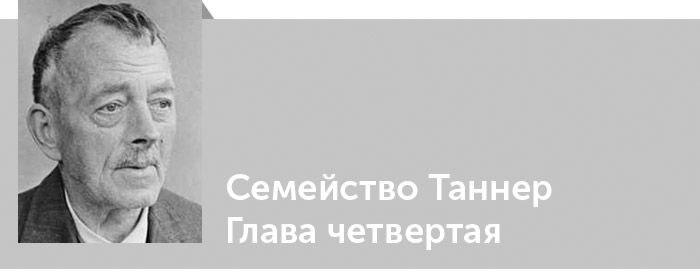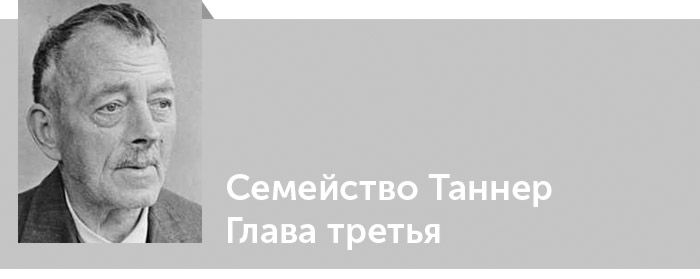Роберт Вальзер. Семейство Таннер. Глава 6
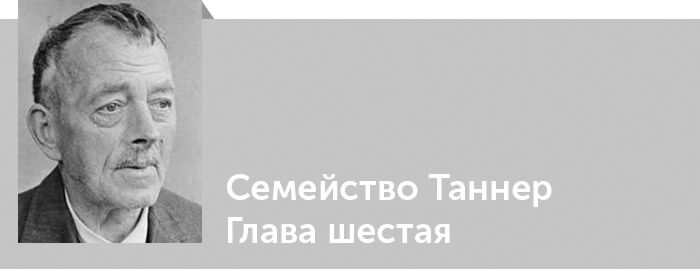
Мало-помалу неспешная, ленивая жизнь стала Симону совершенно невыносима. Он чувствовал, что скоро ему вновь придется ежедневно трудиться: «Все-таки жить как большинство совсем неплохо. Безделье и уединение начинают меня раздражать. Еда не доставляет мне удовольствия, прогулки утомляют, да и что уж такого значительного и возвышенного в том, чтобы на знойных сельских дорогах подставлять свою шкуру укусам мух и оводов, ходить по деревням, спрыгивать с обрывов, сидеть на эрратических валунах, подпирать рукой голову, открывать книгу и не иметь возможности дочитать ее до конца, потом купаться в хотя и красивом, но все же отдаленном озере, снова одеваться и отправляться в обратный путь, а потом заставать дома Каспара, который от вялости тоже знать не знает, на какой ноге стоять и каким носом думать или каким пальцем трогать свои носы. При такой жизни легко обзаведешься кучей носов и станешь целый день приставлять десять пальцев к десяти носам и размышлять. А собственные носы только высмеют тебя да еще и нос покажут. Ну-с, и что же такого божественного в том, что видишь, как десяток с лишним носов показывают тебе нос? Вообще-то я лишь иллюстрирую факт, что от этакой праздной жизни глупеешь. Нет, я опять начинаю совестить себя и думать, что продолжаться так не может, надобно что-то предпринять. Ходить по жаре – строго говоря, никакое не дело, не может быть делом, а книги читает только простофиля; ведь одни лишь простофили и бьют баклуши. Трудиться среди людей – вот в конечном счете единственный способ развить свой ум и характер. Что же делать? Может, сочинять стихи? Чтобы сочинять стихи в этакую жару, следовало бы сперва назваться Себастианом, вот тогда, наверно, я бы засел за стихи. Он-то сочиняет, я уверен. Этот человек первым делом идет на прогулку, подробно изучает озера, леса, горы, ручьи, лужи и солнечный свет, может, иной раз кое-что записывает, а воротившись домой, пишет про это статью, и ее потом печатают газеты, которые и суть весь мир. Подойдет ли мне такое занятие? Пожалуй, коли бы я во всем этом разбирался, но ведь не разбираюсь. Так что же, сызнова кропать цифры, подчищать счета да расходовать чернила? Думаю, придется, хотя невелика честь сызнова начинать уже оставленное. Но никуда не денешься. В данном случае думать надобно не о чести, а о необходимом и неизбежном. Мне двадцать лет. Как же я успел достичь этакого возраста? Иной, поди, вконец падет духом, ежели, дожив до двадцати годов, должен опять начинать с того места, где был, когда закончил школу. Ну а я, раз уж другого выхода нет, постараюсь найти в этом как можно больше удовольствия. Я ведь и не стремлюсь в жизни к преуспеянию, просто хочу, чтобы в моей жизни было хоть немного смысла. Вот и все. Собственно говоря, просто хочу дожить до новой зимы, а потом, зимой, когда валит снег, подумаю, как быть дальше, смекну, как жить лучше всего. Очень мне нравится разделять жизнь на маленькие, простые, легкие задачки, над которыми незачем ломать голову, они решаются сами собой. Кстати, зимой я всегда умнее и предприимчивее, чем летом. Этакая жара, цветенье да благоуханье особо к делу не побуждают, а вот холод и мороз уже сами собой подгоняют-пришпоривают. Стало быть, до зимы надобно скопить немножко денег, а прекрасной зимой употребить их на что-нибудь полезное. Я бы не хотел зимой учить языки, целыми днями, в нетопленых комнатах, пока пальцы не окоченеют, однако ж лето предназначено для тех, кто получает отпуск, для тех, кто любит провести время на даче и за милую душу босиком, даже нагишом побегать по жарким лугам, повязав на бедра разве что кожаный фартук, как Иоанн Креститель, который, говорят, вдобавок еще и кузнечиков ел. Так что я пока лягу на кровать будничных трудов и усну, а проснусь, только когда на землю посыплется снег, горы побелеют, а буйные северные ветра станут обжигать уши огнем мороза и льда. Холод для меня словно жар, неописуемый, невыразимый! Да, именно так я и поступлю, не будь я Симон. Клара зимой закутается в мягкие, теплые меха, я буду сопровождать ее на улице, на нас будут падать снежинки, тихие, уютные, беззвучные и – теплые. О, ходить за покупками, когда на темных улицах идет снег, а магазины освещены огнями. Входить в лавку вместе с Кларой или следом за нею и говорить: дама желает купить то-то и то-то. Клара благоухает в своих мехах, а ее лицо – каким красивым оно будет, когда мы снова выйдем на улицу. Может быть, зимой она станет работать в каком-нибудь изысканном магазине, как и я, и я смогу каждый вечер заходить за нею, если только она не запретит. Агаппея, возможно, прогонит свою жену, и тогда ей придется устроиться на работу, что для нее труда не составит, ведь выглядит она так благородно. Всё, пора остановиться. Может, господин Шпильхаген из акционерной компании электрического освещения и продолжил бы размышления, но не я; мне до него далеко, и я не беру на себя такого множества обязательств перед всем светом, которое бы вынудило меня продолжать. Ах, зима! Скорей бы уж она пришла…»
На следующий же день он работал на большой машиностроительной фабрике, где для проведения инвентаризации требовалось довольно много молодых людей. Вечерами он читал у окна, а не то продлевал путь домой с фабрики до дома Клары, делая большущий крюк вокруг всей горы, в темной зелени несчетных лесистых оврагов, прорезавших широкий склон. У источника, мимо которого неизменно проходил, он всякий раз утолял жестокую жажду и лежал затем на уединенном лугу, пока ночь не напоминала ему, что пора наконец идти домой. Он любил переход от летнего вечера к летней ночи, любил наблюдать, как краски леса медленно розовеют и гаснут, погружаясь в бездонный ночной мрак. Тогда он обыкновенно мечтал без слов и мыслей, более не корил себя, предавался блаженной усталости. Нередко ему чудилось, будто совсем рядом, в темных кустах, с шипением выныривает из спящей земли большой огненно-красный шар, а бросив туда взгляд, он видел луну, которая величаво выплывала из мирового пространства. И не мог оторвать глаз от бледного, легкого образа прекрасного небесного тела. Ему было так странно, что этот далекий мир, вроде бы вот только что прятался в кустах – только протяни руку и коснешься. Все казалось ему совсем рядом. Что значит здешняя даль по сравнению с этакими далями и близями. Бесконечное вдруг мнилось самым близким. А когда он добирался до дома, сквозь всю эту густую, певучую, благоуханную зелень ночи, навстречу ему всякий раз выходила Клара, и он ощущал ее появление как милую загадку. Глаза у нее, наверно от ожидания, выглядели заплаканными. Потом они до глубокой ночи сидели вдвоем на маленьком балконе, который превратился в подобие летней беседки, подвешенной в вышине, и играли в карты, или же Клара что-нибудь напевала, или он что-нибудь ей рассказывал. Когда она в конце концов желала ему покойной ночи, он спал так сладко, будто ее «доброй ночи» – волшебные слова, будто ими она навевала на него особенно глубокий и прекрасный сон. Утром, когда он спешил на работу, где усердно писал, помогая инвентаризировать машиностроительную фабрику, на кустах, травинках и листве искрилась серебряная роса. Однажды в воскресенье, воротившись с прогулки, он нашел Клару у себя в комнате, она спала на диване. Снаружи, из какого-то убогого домишка в горном предместье, где жили бедные работяги, долетали звуки маленькой арфы. Ставни были закрыты, в комнате царил жаркий, зеленый полумрак. Симон сел подле спящей, а она слегка коснулась его своею ножкой. Восхитительное прикосновение. Он неотрывно смотрел ей в лицо. До чего же она хороша во сне. Клара была из тех женщин, которые краше всего, когда их черты неподвижно-спокойны. Она дышала ровно, безмятежно; полуобнаженная грудь медленно вздымалась и опадала; из опущенных рук выпала книга. Симону хотелось стать на колени и молча целовать ее прекрасные руки, но он этого не сделал. Мог бы, пожалуй, если б она бодрствовала, но у спящей? Нет! Тайные, украденные, обманом добытые ласки не для меня, подумал он. Ее губы улыбались, будто она спала и знала, что спит. Улыбка спящей не допускала никакой грубой мысли, но заставляла смотреть на этот рот, на это лицо, на эти волосы, на округлые щеки. Во сне Клара вдруг сильнее оперлась ногами о Симона, потом проснулась, вопросительно огляделась по сторонам и долго, вроде как с недоумением, смотрела Симону в глаза.
– Ах, Симон! Послушай-ка, – наконец проговорила она.
– Что случилось?
– Нам недолго осталось жить в этом доме. Агаппея все проиграл, все потерял. Угодил в лапы мошенников. Дом уже продан, как раз твоему Женскому обществу народного благополучия и умеренности. Дамы решили устроить здесь лесной курзал для трудящихся. Агаппея примкнул к экспедиции Общества исследователей Азии и скоро уедет, чтобы отыскать где-нибудь в Индии затерянный греческий город. Обо мне он уже и думать забыл. Как ни странно, меня это ничуть не огорчает. Мой муж вообще никогда не был способен огорчить меня. Довольно! Я поселюсь в простой комнате, внизу, в городе, а вы с Каспаром будете меня навещать. Найду себе работу, по твоему примеру. Осенью мы отсюда съедем, и дом этот сразу же начнут перестраивать. Ну, что скажешь?
– Мне это весьма по душе. Я тоже подумывал начать новую жизнь. А теперь все получится само собой. Я очень рад, что смогу навещать тебя в твоем будущем доме.
Оба принялись со смехом рисовать себе будущее.
Каспар обретался теперь в маленьком провинциальном городке, где ему заказали декорировать танцевальный зал, то бишь расписать все стены снизу доверху. Между тем уже настала осень, и в один из субботних дней Симон, закончив работу, пустился в дорогу, чтобы за ночь одолеть расстояние, отделявшее его от Каспара. Чем плохо провести всю ночь в пешем странствии! Он заблаговременно изучил карту, в точности промерил на ней расстояние до того городка и определил, что вполне может добраться туда за одну ночь. Сначала путь лежал через предместье, где жила Роза, старая его приятельница, и он не преминул ненадолго заглянуть к ней. Роза очень обрадовалась, увидев Симона после столь продолжительной разлуки, обругала его вероломным злюкой, ведь он так надолго забросил ее, но говорила скорее с напускной обидой, нежели с подлинным раздражением, и не преминула угостить Симона бокалом красного вина, которое, как она выразилась, придаст ему сил для ночного странствия. Еще она быстро поджарила ему сосиску на газовой конфорке, а пока жарила, подтрунивала над ним, беззлобно, но вполне сознательно, сказала, что женщин у него, поди, полным-полно, и смеясь заметила, что вообще-то он не заслуживает сосиски, но все же ее получит, коли впредь будет регулярнее ее навещать. Поедая сосиску, Симон обещал ей это, а вскоре продолжил свое странствие, несколько побаиваясь предстоящих усилий. Однако ж трусливо поворачивать назад и садиться на поезд ему отнюдь не хотелось. И он зашагал вперед, снова и снова спрашивая встречных прохожих, не сбился ли он с пути, на всякий случай. Возле дорожных указателей непременно зажигал спичку, поднимал ее повыше и проверял, куда дорога ведет дальше. Шел он весьма проворно, словно опасался, что дорога ускользнет из-под ног и убежит прочь. Розино красное вино разгорячило его, и он желал только одного – поскорее добраться до гор, которые с легкостью и удовольствием преодолеет. Так он дошел до первой деревни, где никак не мог сориентироваться во множестве сельских дорог, разбегавшихся во всех направлениях. Поэтому он заглянул к кузнецу, который еще махал кувалдой, и от него узнал, что идет правильно. Дальше местность стала плохо обозримой, из-за обилия кустов; дорога поднималась в гору; потом он очутился вроде как на плато, почему-то наводившем страх. Кромешная тьма кругом, на небе ни звездочки, временами выглядывал месяц, но тотчас вновь скрывался в тучах. Теперь Симон шел через мрачный еловый лес, он с трудом переводил дух и стал внимательнее следить, куда ступает, так как то и дело спотыкался о камни и это ему слегка надоедало. Ельник кончился, Симон вздохнул свободнее, ведь идти темными лесами, в полном одиночестве, порой небезопасно. Внезапно перед ним словно из-под земли вырос большой крестьянский дом, закрывший почти весь обзор, откуда-то выскочила большая собака, метнулась к путнику, но кусать не стала. Симон стоял совершенно спокойно, не шевелясь, только пристально смотрел на собаку, и та укусить не рискнула. А он продолжил путь. Дальше, дальше! Через мосты, громыхавшие в тишине под быстрой поступью, ведь они были из дерева, старые крытые мосты с образами святых у входа и у выхода. Развлечения ради Симон принялся вышагивать то так, то этак. Как вдруг на совершенно открытом, но угрюмом поле перед ним возник дюжий мужичище, закричал на него и уставился страшным взглядом.
– Что вам нужно? – в свою очередь выкрикнул Симон, но живо обогнул мужика и побежал прочь, не желая слушать, что тому надобно. Сердце его билось учащенно, однако ж испугала его неожиданность, а не сам мужик. Потом он шел через спящую, бесконечно длинную деревню. Дорога снова вела в гору. Симон уже ни о чем не думал, растущее напряжение парализовало его мысли; тихие источники чередовались с одиночными купами деревьев, леса – с тучами, валуны – с родниками, все словно бы шагало вместе с ним и пропадало за спиною. Ночь выдалась сырая, темная и холодная, но у него горели щеки, а волосы взмокли от пота. Неожиданно Симон заметил внизу что-то вытянутое, просторное, поблескивающее, искристое – озеро; и он остановился. Отсюда путь лежал под гору, по прескверной дороге. Впервые у него разболелись ноги, но он не обращал внимания, шел дальше. Слышал, как с глухим стуком падали в луговую траву яблоки. До чего же волшебно красивы были эти луга, непроглядные, темные. Деревня, по которой он теперь шел, возбудила в нем любопытство своими изысканными домами. Но тут Симон уже знать не знал, куда идти дальше. Сколько ни искал, никак не мог найти нужную дорогу. От огорчения он недолго думая зашагал по большому тракту. И минуло, пожалуй, не меньше часа, когда чутье наконец отчетливо сказало ему, что он выбрал не то направление; он повернул обратно, едва не плача от злости и что есть силы топая ногами, будто они во всем виноваты. Воротился в деревню – два часа попусту потерял, стыд да и только! Теперь и нужная дорога мигом нашлась, стоило лишь присмотреться – вон она, под деревьями, что сбрасывают листву, узенькая боковая дорожка, сплошь усыпанная шуршащим опадом. Симон очутился в лесу, в горном лесу, который устремлялся вверх по круче, и, когда уже не видел перед собою тропы, двинулся напрямик, не разбирая дороги, все выше, выше, сквозь непролазный ельник, расцарапывая лицо, обдирая ладони, но, по крайней мере, на самом верху лес, через который он продрался со стонами и бранью, наконец-то кончился, и его взору открылись привольные луга. Минуту он стоял спокойно: «Господи, коли я опоздаю – какой позор!» Дальше! Он уже не шел, он бежал по мягкой полевой земле, не глядя под ноги. Бледный, робкий утренний свет порою ласкал глаза. Он перепрыгивал через огорожи, которые словно насмехались над ним. О дороге давно и думать забыл. Широкую солидную дорогу берег в фантазии как нечто бесценное, о чем мечтал всем сердцем. Теперь он спешил под гору, в узкие ущельица, где дома, точно игрушки, лепились к склонам. Чуял запах ореховых деревьев, под сенью которых бежал; внизу, в долине, вероятно, лежал город, но то было лишь алчное предчувствие. Наконец отыскалась дорога. Ноги и те словно возликовали, и он зашагал спокойнее, только когда приметил источник, ринулся к нему сломя голову. Внизу впрямь обнаружился маленький городок, Симон миновал чем-то похожий на монастырь белый, изящный дворец, ветхость которого растрогала его до глубины души, и снова очутился на открытом месте. Забрезжил день. Ночь как бы побледнела; долгая, тихая ночь легонько пошевелилась. Теперь Симон шел ходко, бодрым шагом. До чего же удобно идти по такой вот гладкой дороге, которая широкими витками вела сначала вверх, а потом отлого вниз. Туманы пали на луга, ухо внимало первым шорохам дня. Все-таки как долго длится ночь. Нынешней ночью, когда он шагал себе по земле, какой-нибудь ученый, к примеру его брат Клаус, сидел, наверно, под лампой у письменного стола и бодрствовал, так же хмуро и устало. Наверно, этакому домоседу пробуждающийся день видится не менее чудесным, чем ему, идущему сейчас по проселку. В домишках уже зажигались рассветные огоньки. Вот и второй город, покрупнее, сперва домики предместий, потом улочки, потом ворота и широкая главная улица, где Симону бросилось в глаза красивое здание с изваяниями из песчаника – старинный городской замок, ныне служивший почтамтом. На улицах уже появились прохожие, у которых можно спросить дорогу, как накануне вечером. За городской чертой снова открылась просторная равнина. Туман рассеялся, проступили краски, восхитительные, чарующие утренние краски! Похоже, будет прекрасное, голубое осеннее воскресенье. Навстречу Симону шли люди, преимущественно женщины, по-воскресному нарядные, вероятно проделавшие долгий путь, чтобы добраться до города, в церковь. День становился все ярче и многоцветнее. Теперь можно было разглядеть, что на лугу у дороги лежат огненно-красные фрукты, а с деревьев то и дело падают все новые спелые плоды. Поистине Симон очутился в плодовом краю. Попадались ему навстречу и неторопливые подмастерья, относившиеся к ходьбе не так серьезно, как он. Целая компания таких парней разлеглась в первых лучах солнца на краю лужайки – сколь уютная и покойная картина! Мимо провели корову, а женщины так мило здоровались. Симон на ходу грыз яблоки, теперь и он спокойно шагал по незнакомым, красивым, богатым местам. Дома у дороги выглядели так радушно, но еще краше и изящнее были те, что укрылись под деревьями подальше от тракта, среди зелени. Холмы прелестно и мягко поднимались вверх, вершины манили, все было голубым, все пронизано дивной, пламенной голубизной, на телегах ехали целые компании, и наконец Симон углядел возле дороги домишко, а за ним город, и из окна домишка высовывался его брат. Он пришел вовремя, задержался без малого на четверть часа супротив условленного времени. И торжествуя, вошел в дом.
В комнате у брата он принялся во все глаза рассматривать обстановку, хотя смотреть было особо не на что. В углу стояла кровать, правда весьма любопытная, ведь на ней спал Каспар, и окно тоже чудесное, хотя простенькое, деревянное, с незатейливыми занавесками, зато в него только что выглядывал Каспар. На полу, на столе, на кровати, на стульях лежали рисунки и картины. Гость перебрал пальцами все листы до единого – какая красота, какое совершенство. Симон поразился трудолюбию художника, сколь много тот успел сделать, можно часами рассматривать.
– Природа у тебя как живая! – вскричал он. – Прямо сердце замирает каждый раз, когда я гляжу на твои новые картины. Каждая так прекрасна, лучится чувством и верно передает природу, а ты пишешь снова и снова, хочешь добиться еще большего совершенства, поди, многое уничтожаешь, что, на твой взгляд, не удалось. А вот я не нахожу здесь ни одной неудачной картины, все они трогают меня и завораживают мою душу. Любой штрих, любой красочный мазок твердо и неколебимо убеждают меня в твоем абсолютно чудесном таланте. Глядя на твои пейзажи, писанные кистью с такой свободою и с таким теплом, я всегда вижу тебя и словно бы сочувствую тебе, поскольку догадываюсь, что искусство не ведает конца. Я хорошо понимаю искусство, и беспокойство, в какое оно повергает людей, и стремление вот так искать милости и любви природы. Чего мы желаем, когда с восторгом смотрим на изображенный пейзаж? Только ли наслаждения? Нет, мы желаем, чтобы он что-то нам объяснил, но это что-то определенно останется вовеки необъяснимым. Оно глубоко вторгается в душу, когда мы, лежа у окна, мечтательно созерцаем закатное солнце, но все равно не идет в сравнение с улицей под дождем, когда женщины изящно приподнимают юбки, или с видом сада либо озера под легким утренним небом, или с простой елью зимой, или с ночной прогулкой в гондоле, или с альпийской панорамой. Туман и снег восхищают нас не меньше, чем солнце и краски, ведь туман делает краски чище и утонченнее, а уж снег, например под теплой синью предвешнего неба, и вовсе штука загадочная, чудная, почти непостижимая. Как замечательно, Каспар, что ты пишешь картины, и пишешь превосходно. Я бы хотел быть частицей природы, чтобы ты любил меня так, как любишь всякую частицу природы. Ведь любовь художника к природе наверное невероятно сильна и мучительна, она куда жарче, и трепетнее, и искреннее, чем даже у поэта, к примеру у этакого Себастиана, о котором я слыхал, будто он устроил себе жилье в горной пастушеской хижине, чтобы без помех, словно отшельник в Японии, поклоняться природе. Поэты привязаны к природе наверное не столь крепко, как вы, художники, ведь они обыкновенно имеют о ней искаженные и косные представления. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и в этом случае мне хотелось бы ошибиться. Сколько же ты работал, Каспар! Уверен, у тебя нет причин корить себя. На твоем месте я бы не стал. Я-то себя не корю, хотя как раз мне это бы явно не повредило. Но я не корю себя потому, что укоры внушают тревогу, а тревога – состояние, недостойное человека…
– Тут ты прав, – вставил Каспар.
Потом они вдвоем прогулялись по городку, все там осмотрели – времени на прогулку ушло немного, но при большой восторженности, с какой они это делали, не так уж и мало, – встретили почтаря, который, скроивши гримасу, вручил Каспару письмо. Письмо было от Клары. Братья полюбовались церковью и величием городских башен, горделивыми городскими стенами, кое-где пробитыми, беседками, увитыми виноградом, и бельведерами на горе, где давным-давно никто не бывал. Высокие ели серьезно взирали на старинный городок, вдобавок небо сияло так ласково, и дома словно бы сердились и досадовали на свою приземистую неуклюжесть. Луга искрились, а холмы, поросшие золотым буковым лесом, манили ввысь и вдаль. Под вечер молодые люди отправились в лес. Шли большей частью молча. Каспар притих, брат догадывался, о чем он думает, и не хотел его отвлекать, ведь размышления казались ему важнее, нежели разговор. Они сели на скамью.
– Она не желает меня оставить, – сказал Каспар, – она несчастна.
Симон ничего не ответил, но в душе порадовался за брата, что эта женщина из-за него несчастна. «По-моему, замечательно, – думал он, – что она несчастна». Такая любовь восхищала его. Однако вскоре пришлось прощаться, так как Симону пора было в обратный путь, на сей раз поездом.