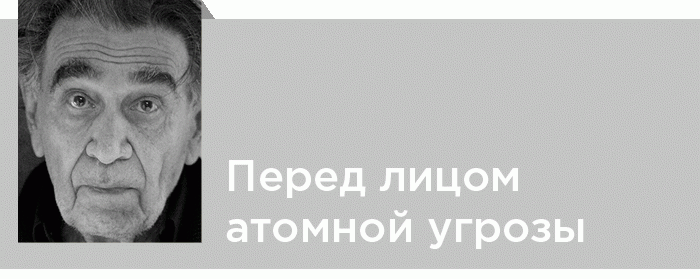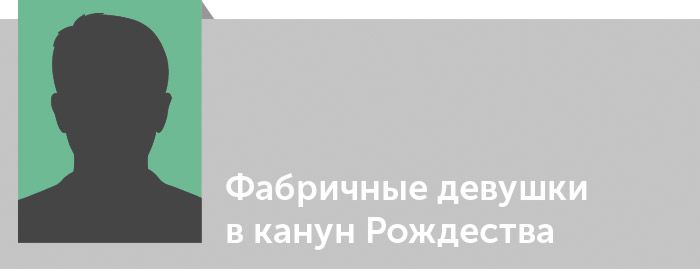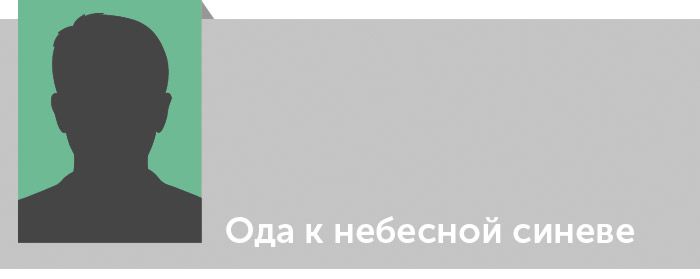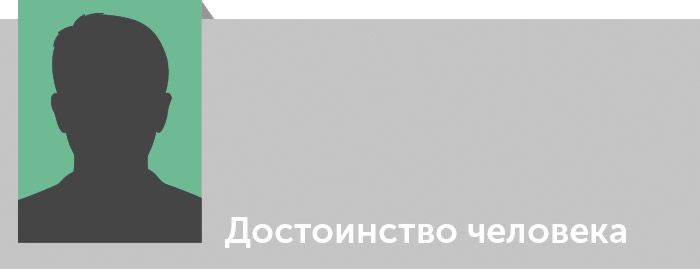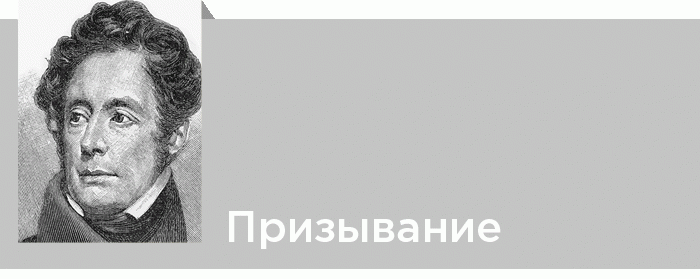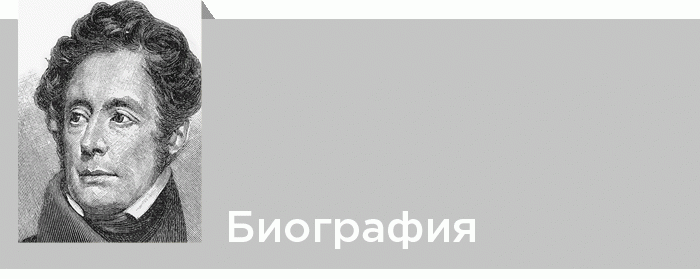А. де Ламартин. Вступление в «эру действия»
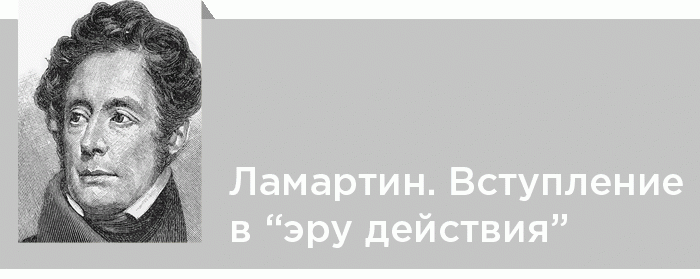
Т. В. Соколова
В апреле 1830 года Ламартин становится членом Французской академии. Так увенчалась его слава, укрепившаяся за ним с момента опубликования «Поэтических размышлений» (1820). Однако этим для Ламартина не исчерпываются итоги прошедшего десятилетия. Многое в его взглядах изменилось, и изменения были настолько серьезными, что вопреки своей славе католического и легитимистского поэта Ламартин без колебаний принимает монархию «короля-гражданина».
Накануне революции, в июне 1830 года, Ламартин опубликовал новый сборник — «Поэтические и религиозные созвучия». Эта книга как бы подвела итог эволюции в сознании Ламартина, эволюции, которая со времени первых «Размышлений» состояла прежде всего в переоценке традиционно ограниченных легитимистско-католических убеждений.
Первый шаг к переосмыслению католической догмы был сделан Ламартином еще в период «Поэтических размышлений», когда в своей индивидуальной вере он начинает преодолевать традиционный мистицизм католической религии. Единичный и неповторимый акт божественного откровения продолжается, по мысли Ламартина, в последовательном «рациональном» откровении. Верить «сердцем и разумом» — такова, по убеждению Ламартина, та возможная «индивидуальная» религия, которой следует удовольствоваться, если отсутствует ортодоксальная и нерассуждающая вера, дарованная свыше.
Прекрасен мир! Но восхищенью
В иссохшем сердце места нет!..
По чуждой мне земле скитаюсь сирой тенью,
И мертвого согреть бессилен солнца свет.
(«Одиночество». Перевод Тютчева)
Тихое озеро, скала или лесной ручей привлекают поэта тем, что это уголки, где можно остаться наедине с самим собой, изолироваться от всего постороннего, что вторгается в размышления устремленной к богу души.
Бесконечное многообразие Природы предстает его глазам как воплощение Бога:
Cet astre qui parait, cet astre qui s’enfuit,
Je les comprends, Seigneur! Tout chante, tout m’instruit.
Que l’abîme est comblé par ta magnificence,
Que les cieux sont vivants, et que ta providence
Remplit de sa vertu tout ce qu’elle fa produit! 2
(«Hymne de la nuit», 1824)
Мир как выражение божественной воли обретает внутреннее единство, величие и глубокий смысл, становится не только близким и понятным, но и родственным человеческой душе:
И в глубине души, бледнеющей как море,
Все звуки здешние смолкали с шумом дня,
И кто-то там, во мне, как в мире на просторе,
Рыдал, благословлял, молился за меня.
(«Запад». Перевод В. Брюсова).
Сборник «Поэтические и религиозные созвучия» выражает эти существенно новые черты видения окружающего мира, восприятия природы и самого себя по отношению к ней. От представления о боге как о совершенной личности, творце и законодателе мира мысль Ламартина движется к пониманию бога как некоего закона, высшей провиденциальной воли, руководящей природой и обществом. Этот путь лежит через деистическое отрицание трансцендентного божественного откровения, через рационалистический контроль над верой и элементы пантеистического мировосприятия. «Поэтические и религиозные созвучия» в целом выражают успокоение души, которая, пройдя через сомнение и ослабление веры, с радостью покоряется божественной воле как высшему принципу мирового порядка. Религиозное чувство укрепляется в сознании Ламартина благодаря тому, что оно выходит за рамки ортодоксальной догмы.
Согласно новым представлениям Ламартина, человек более самостоятелен и активен, чем позволяла догматическая вера, и даже миссия поэта, воспевающего «божественные истины», кажется ему менее привлекательной, чем возможность активной, социальной жизни. «Моя голова занята больше политикой, чем поэзией», — говорит он уже в 1826 году. Ламартин с нетерпением ждет октября 1830 года, когда ему исполнится 40 лет и в соответствии с существующим возрастным цензом он сможет начать, политическую деятельность. Ламартин мечтает стать, депутатом Национального собрания. Накануне революции он размышляет о той роли, которую он как представитель нового поколения государственных деятелей сможет сыграть в ликвидации затянувшегося политического кризиса. При известии о первых результатах революционного конфликта, вызванного королевскими ордонансами, он с досадой думает о том, что по возрасту еще не может быть депутатом.
Пересмотр вопросов веры у Ламартина непосредственно связан с эволюцией его взглядов на историю, социальный прогресс и современную политику. «В 1830 году я принадлежал к школе Лэнэ и Руайе-Колара», — вспоминает он позднее. Это была позиция доктринеров, умеренных либералов или монархистов-конституционалистов. Эволюция в сторону либеральных идей эпохи Реставрации предопределила отношение Ламартина к Июльской революции и новой монархии. Июльская революция как бы суммировала наиболее важные изменения во взглядах Ламартина и приблизила поворот, подготовлявшийся в его сознании уже в течение нескольких лет. Установленный ею новый порядок создал атмосферу, в которой окончательно определились результаты эволюции, происшедшей с Ламартином еще в 20-е годы. Практическим следствием этой эволюции стало убеждение Ламартина в необходимости политической деятельности. «Нейтральная позиция в 1830 году... на мой взгляд — преступление против самого себя, непоправимая моральная травма», — пишет он, отстаивая свои новые взгляды в письме к Вирье, давняя дружба с которым поколеблена теперь из-за расхождений в оценке Июльской революции. В 1831 году Ламартин получает, наконец, возможность выставить свою кандидатуру на выборах в июле и делает это одновременно в трех местах: Тулоне, Маконе, и Берге. «События никогда не бывают нейтральными, значит, и мы сами не имеем права придерживаться нейтралитета», — говорит Ламартин, указывая на эти слова как на возможный эпиграф к статье «О разумной политике», в которой излагается его кредо.
Ламартин приветствует Июльскую революцию, восприняв ее как акт, открывающий новую страницу общественной истории. Он убежден, что именно благодаря революции современное поколение осознает, наконец, что общество вступило в новую историческую эпоху, которая станет завершающим этапом социального прогресса. Называя этот конечный этап развития «евангельской» эпохой, Ламартин видит ее смысл в реализации божественных принципов свободы и равенства.
Согласно классификации Ламартина, человеческая цивилизация прошла три «века»: «теократический», или первобытный, «тиранический», закончившийся с появлением христианской религии, и «монархический», или феодальный. Современная, «евангельская» эпоха — это век «всеобщих прав и всеобщей активности». Эта классификация выражает, в сущности, ту же мысль о движении от теократии к демократии, о котором говорит В. Гюго. Отбросив предрассудки «трех отвратительных эпох прошлого», общество вступает в новый век, держа в своих руках Евангелие, в котором содержится разгадка тайны всей человеческой истории. Истолкованное в духе современных идей, Евангелие служит источником социального и исторического оптимизма Ламартина в период Июльской монархии.
Эти мысли Ламартина близки к воззрениям Гюго. «Равенство перед законом — это равенство перед богом, выраженное языком политики. Всякая хартия должна быть переводом с Евангелия», — говорит Гюго. И у Гюго, и у Ламартина вера в бога переосмысляется. Бог — это уже не личность, а прежде всего закон, провидение, руководящее человечеством. Такое представление о боге помогает им объяснить и принять современность.
После Июльской революции дальнейшее развитие получает и мысль Ламартина о последовательном «рациональном» откровении. Уже в раннюю историческую эпоху истолкователем божественной истины был сам человек, и этим, по мнению Ламартина, объясняются ошибки человечества. Ламартин ставит, по существу, знак равенства между божественным словом, воплощенным в Евангелии, и человеческим разумом. «...Человеческий разум, или божие слово, или евангельская истина», — говорит он. Таким образом, откровение перестает быть для него потусторонним, раз и навсегда совершившимся, неповторимым актом познания высшей истины Ламартин понимает теперь как бесконечные нравственные поиски и открытия человечества. Его новая вера — «католицизм в согласии с разумом» (catholicisme rationnel), и в свете ее он воспринимает современную ему эпоху, а также цели и задачи, стоящие перед ним самим. Исходя из принципа последовательного «рационального откровения», Ламартин подчеркивает нравственное содержание исторического процесса: это не просто автоматическое движение мира вперед, но развитие, определяемое соответствием человеческих усилий предначертанным богом законам. «Вечный закон, закон нравственный, который в античности называли роком, а в христианскую эпоху провидением, и который есть не что иное, как божественная воля, связывающая результаты с первоосновой и следствия с причинами, всегда действует за или против нас, согласно тому, исходим мы из истинных или ложных принципов. В частной жизни отдельных лиц, так же как в общественной жизни империй, этот закон непрестанно обнаруживается в зависимости от его применения к жизни: давая благо или карая за ошибки».
Оправданию Июльского режима у Ламартина служат не только идеи прогресса и исторической закономерности, но и доводы, почерпнутые из буржуазной «морали успеха». «Государственный переворот не противоречит нравственности и справедлив только тогда, когда он необходим, и всегда, когда он необходим, он удается; это первая аксиома всякой политики», — говорит Ламартин. Поскольку новая монархия стала свершившимся фактом, ее нужно принять как явление, продиктованное «силой вещей», т. е. как закономерное, справедливое. «Существующая власть всегда законна» (Tout pouvoir de fait est légitimе), — учил Ж. де Местр, оправдывая легитимизм. Ламартин же в своих доводах, внешне напоминающих тезис его прежнего учителя, на самом деле решительно расходится с ним: он следует идеям Кузена, Минье и Тьера, принимая «мораль успеха» для оправдания буржуазного политического режима.
С интересом и надеждой Ламартин встречает известие о назначении премьер-министром Казимира Перье, ожидая увидеть в нем мудрого политического деятеля. Он приветствует политическую программу, изложенную Перье с трибуны палаты депутатов, и оправдывает июльский режим как диктатуру, вызванную необходимостью противостоять анархическому возмущению и беспорядкам.
Таким образом, проблема отношения к июльскому режиму решается Ламартином без колебаний. Вопрос для него заключался не столько в том, чтобы принять или не принять новую монархию, сколько в том, как сделать ее воплощением идей, которые ему представлялись наиболее справедливыми и истинными. Вслед за доктринерами он признает основой власти разум, понимаемый как божественная воля (raison divine) и одновременно как общественное мнение (consentement commun). Божественная воля — это и есть высший закон, и от того, насколько человеческому разуму доступна закономерность событий, зависит правильная или ошибочная политика.
Смысл политической деятельности Ламартин видит в осуществлении социальной справедливости и свободы. Новая оценка возможностей демократических масс приводит его в 1831 году к отказу от прежнего принципа силы как единственного средства управления. Он присоединяется теперь к требованию всех демократических свобод, которые отстаивали передовые силы его эпохи: широкая свобода высказывания, допускающая критику и дискуссии, выборы вместо наследования власти, широко распространенное и бесплатное для бедных образование, отделение церкви от государства и свобода вероисповедания.
Однако, согласившись в принципе с идеей всеобщего избирательной права, Ламартин считает, что при современном уровне интеллектуального развития низших классов всеобщие, практически не имеющие ограничений выборы были бы фикцией, находит самым разумным предоставить каждому избирательное право «соразмерно и в зависимости от его социального положения». При всей своей ограниченности эта новая точка зрения Ламартина выражает, несомненно, прогрессивное движение его взглядов от требования абсолютного подчинения человека непререкаемому авторитету церкви и легитимизма к признанию индивидуальных прав личности. Таким образом, концепция правительства, находящего опору в просвещении масс, в приобщении их к идеям справедливости и истины, казавшаяся Ламартину утопической в 1814 году, становится одним из основных принципов его политической программы.
Гарантию личной свободы Ламартин видит в свободе коллективной: «Когда свобода принадлежит не всем, она — всего лишь притеснение». Понятие индивидуальной свободы, которое постепенно укрепляется в сознании Ламартина вопреки идеям первых учителей его юности, приобретает после 1830 года «позитивный» характер, что непосредственно связано с признанием относительности всех традиций, мнений, институтов. Такая индивидуальная свобода предполагает уважение к интересам другой личности, терпимость к чужому мнению. Неприятие крайнего индивидуализма прямо вытекает из усвоенного Ламартином принципа единства мира. Человеческая личность, будучи частицей единого целого и осознавая свою неразрывную связь с ним, обретает вместе с тем чувство своей индивидуальной ответственности за то, что происходит вокруг. Эгоистический индивидуализм служит, по мнению Ламартина, источником трагического мировосприятия. Индивидуализм и эгоизм трагичны потому, что они делают человека слабым, лишая его способности владеть своими желаниями и страстями, руководить собой. «Тот, кто никогда не может совладать с собой, слаб, даже если он торжествует над миром», — говорит Ламартин в январе 1831 года. Достоинство и свободу человеческой личности Ламартин видит не в противопоставлении своего «я» всему миру, а в обуздании разумом страстей и предрассудков, которые препятствуют взаимопониманию и объединению индивидуальностей.
Поскольку в мнении каждого может быть частица истины, то действительная свобода индивидуума не в том, чтобы отвергать любое мнение, кроме своего, или фанатически отстаивать всегда ограниченную «истину» своей партии, а в способности оценить и, может быть, частично разделить точку зрения, отличную от собственной, соединив в своей индивидуальной системе взглядов все то истинное и рациональное, что обнаруживается во всех современных моральных, религиозных, политических и философских идеях.
Ton Dieu n’est pas le mien, et je m’en glorifie,
J’en adore un plus grand qui ne te maudit pas, —
пишет Ламартин в «Ответе „Немезиде”», полемизируя с Бартелеми. В обращении к избирателям Тулона он говорит о своем идеале «универсальной» свободы, способной уважать противоположные интересы, мнения и права. Такая свобода должна стать принципом нового, современного либерализма, который Ламартин противопоставляет прежнему (т. е. якобинизму) как выражению «духа разрушения» (esprit destructeur).
Смысл, вкладываемый Ламартином в понятие свободы, исключает верность какой-либо одной политической партии, ибо эта преданность поставила бы Ламартина, как и всякого человека, в зависимость от предрассудков, которые влачит за собой любая из них; стараясь быть последовательным в этих взглядах, Ламартин отклоняет сделанное ему предложение сотрудничать в новом журнале «Revue européenne». Называя себя роялистом, он не разделяет точку зрения тех, кто фанатически требует возродить старый порядок. Желая оставить дипломатическую карьеру, он подает королю столь деликатно написанное прошение об отставке, что его невозможно заподозрить в высокомерном презрении аристократа к королю-выскочке, и Луи-Филипп даже ставит в пример лояльность этого прошения: «Я хотел бы показать его Шатобриану, чтобы он увидел, как нужно уходить в отставку». Отказавшись от непримиримости прежних убеждений, Ламартин ищет в многообразных и противоречивых тенденциях современности нечто общее, что могло бы подчинить разрозненные усилия единой цели. Эта цель важнее и благороднее честолюбивого стремления восторжествовать в запутанном споре, который ведут между собой современные ему партии. Эта цель прогресс, будущее страны, и во имя его можно пожертвовать даже преданностью какой-то одной партии, если ее интересы уже не совпадают с интересами нации.
При столь определенных намерениях сражаться за свои идеи Ламартину нужно было лишь выбрать средство борьбы: оставить поэзию, чтобы подняться на парламентскую трибуну, или научиться подкреплять красноречие политического деятеля аккомпанементом поэтической лиры. Признавая вместе со многими своими современниками божественный характер поэтического вдохновения, Ламартин не только не противопоставляет поэтическую мысль политической деятельности, но считает односторонней всякую личность, в которой не сочетаются мысль и действие. Ламартин говорит также о божественном смысле политической деятельности, не повторяя при этом, однако, легитимистского принципа «божественного права». Напротив, власть церкви и монарха «волею божией» он считает нарушением истинных заветов бога, чье царство не на земле, а на небе. Поэтому он требует независимости государственной власти от церкви и, приветствуя программу группы Ламенне и Монталамбера, готов согласиться с нею во всем, кроме вопроса о теократии.
Церковь не может определять политическую организацию общества. Ее задача — руководить душами людей, подсказывать им принципы нравственности, а не законы организации общества. Истолкование роли теократии как воплощения божественной власти в человеческом обществе породило, как считает Ламартин, легитимистский принцип короля — «помазанника божьего». Это заблуждение владело человечеством достаточно долго и не должно повториться.
Бог, создавший мир и подчинивший его определенным законам, уже не вмешивается в судьбы человека; сам человек должен открыть эти законы, понять их и следовать им. Задача тех, кто владеет политической властью, — вести страну к осуществлению евангельских заветов равенства, и эта цель, так же как и тройственный принцип современной политики — «мораль, добродетель, разум», выражает её божественный характер. Ламартин утверждает, что необходимо сочетать политическую деятельность с художественным творчеством, ибо только такое сочетание позволит приблизиться к замыслам божественной воли.
Во время «трех славных дней» Ламартин продолжает начатое им путешествие по юго-восточным провинциям Франции. Известие о событиях в Париже ничего не меняет в его планах посетить затем Швейцарские и Итальянские Альпы. Только вначале сентября он заканчивает свое путешествие. Однако революционный переворот в Париже в течение всего этого времени был предметом его размышлений и темой многих писем к друзьям. 16 сентября Ламартин подает прошение об отставке: после десяти лет службы он решает отказаться от продолжения дипломатической карьеры, так как дальнейшую жизнь намерен связать со своей будущей парламентской деятельностью. Его первая избирательная кампания состоится лишь в следующем году, но уже теперь в своих стихах Ламартин говорит как человек, который хочет активно участвовать в политической жизни страны.
В ответ на споры, разгоревшиеся вокруг процесса министров Карла X, Ламартин пишет оду «К народу» (ноябрь 1830 года). Народ требует самых жестоких мер. Ламартин же пытается доказать, что осуждение на смертную казнь по политическим мотивам всегда несправедливо. Обращая свои стихи к народу, он ищет средства сделать их более понятными и доступными для широких масс. Это необходимо для того, чтобы переубедить своих противников в споре и получить таким образом непосредственный эффект от этого вмешательства поэзии в общественные дела. В последний момент перед опубликованием своего стихотворения Ламартин отказывается назвать его одой, так как это «не в духе времени», и возмущается глупостью издателя, который украсил этот призыв к народу изображением распятия.
Еще когда конфликт между Реставрацией и передовыми силами нации не вылился в революцию, Ламартин пришел к выводу о несоответствии традиционных форм поэзии тем задачам и проблемам, в кругу которых вращался современный человек. «Время поэзии прошло», — говорил он, объясняя этим свое намерение включиться в активную политическую деятельность, отложив в сторону лиру. Теперь его мысль сосредоточивается на другой стороне проблемы: необходимо отказаться от старых поэтических методов и форм, а не от поэзии вообще. Ода «К народу» была для Ламартина первым поиском новых средств в поэзии, и эти средства он продолжает искать в своем творчестве, которое теперь неразрывно связано с общественной деятельностью.
Намерение Ламартина стать депутатом Национального собрания вызвало многочисленные насмешки и возражения в демократических кругах. В июле 1831 года в очередном номере «Немезиды» О. М. Бартелеми и Ж. Мери говорят о том, что надежды Ламартина на успех бессмысленны.
Mais qu’aujourd’hui, pour prix de tes hymnes dévotes
Aux hommes de juillet tu demandes leurs votes,
C’en est trop!...
On n’a point oublié tes oeuvres trop récentes,
Tes hymnes à Bonald en strophes caressantes,
Et sur l’autel Rémois ton vol du séraphin;
Ni tes vers courtisans pour les rois légitimes,
Pour les calamités des augustes victimes
Et pour ton seigneur le Dauphin.
Через несколько дней Ламартин публикует свой «Ответ „Немезиде”» в газете «L’Avenir» от 20 июля. Это стихотворение было злободневным и боевым выступлением поэта, приобщившегося к политической борьбе.
Honte à qui peut chanter pendant que
Je n’ai rien demandé que des chants à sa lyre,
Des soupirs pour une ombre et des hymnes pour Dieu.
По существу, «Ответ „Немезиде”», так же как и ода «К народу», — это произведения, приближающиеся по быстроте реакции поэта, конкретности и актуальности проблем к тому виду творчества, который, по мнению Ламартина, с неизбежностью должен возобладать над всеми остальными. «С сегодняшнего дня возможен единственный вид печатного слова: газета», — говорит он. Книга, поэзия уступают место периодической прессе, так как медлительность традиционных форм литературы не отвечает ритму общественной жизни в новую эпоху.
11 декабря 1831 года Ламартин посылает в издательство Ладвока только что написанную для III тома «Книги ста одного» оду «Революции», в которой резюмируется его восприятие современности.
Вновь и вновь обдумывая события 1830 года, Ламартин все более четко связывает их с общей закономерностью исторических судеб и тем более справедливым находит новый политический режим. Ложная политика и падение Реставрации убедили его в относительности легитимизма как формы политической власти. В стремлении Бурбонов возродить в неизменном виде старую Францию он видит трагическое непонимание провиденциальной воли, по которой эта королевская семья должна была возглавить французскую нацию в эпоху, когда Франция, а за нею весь цивилизованный мир вступили в полосу великого социального обновления. Злополучные июльские ордонансы оказались для легитимизма актом самоубийства, сопротивление предначертанному навсегда лишило его великой исторической роли. У легитимизма нет будущего. Подобно пророку Моисею, усомнившемуся в слове божьем, он никогда не увидит обетованной земли.
Конституционная монархия эпохи Реставрации была как будто мостом, перекинутым через бездну, которая разделяет прошлое и будущее. Этот мост рухнул, но это еще не значит, что будущее потеряно для Франции. Под руинами трона погибли лишь устаревшие и ложные теперь принципы. Нация отвергла вождей, которые утратили понимание смысла событий, но она продолжает свой истинный путь прогресса. Обращаясь в оде «Революции» к роялистам, Ламартин говорит:
Nous donc, si le sol tremble au vieux toit de nos pères,
Ensevelissons-nous sous des cendres si chères,
Tombons enveloppés de ces sacrés linceuls!
Mais ne ressemblons pas à se$ rois d’Assyrie
Qui traînaient au tombeau femmes, enfants, patrie
Et ne savaient pas mourir seuls!
Таким образом, проблема власти встает перед Ламартином в свободном от мистицизму виде. Он далек теперь от признания божественного характера и, следовательно, незыблемости легитимизма. Мысль об относительности социальных норм, принципов, условностей, традиций, которая торжествует в сознании Ламартина после революции 1830 года, примененная в первую очередь к объяснению гибели легитимизма, устремляет в будущее все надежды Ламартина и придает цельный и оптимистический характер его мировоззрению. В истории не может быть возвращения назад, а всякая кажущаяся остановка — это лишь отправная точка дальнейшего продвижения вперед.
Regardez en avant et non pas en arrière!
Эта идея становится главным мотивом всей деятельности Ламартина после 1830 года.
Marchez! L’humanité- ne vit pas d’une idée!
Elle éteint chaque soir
Elle en allume une autre à l’immortel flambeau.
Общественный прогресс — это ступень «святой эволюции» (saintes évolutions), которой подчинено все в мире. Это осуществление провиденциальной воли, выраженной в евангельских заветах:
Nos siècles page à page épellent l’Evangile.
Vous n’y lisiez qu’un mot et vous en lirez mille, — скажет он после Июльской революции в оправдание ее и революций вообще.
Подобное оправдание всех исторических эпох, в том числе Великой французской революции и современности, содержится и в теории идентичности Балланша, объясняющей откровение как постепенное раскрытие — путем самопроизвольного развития человеческого духа — того, что заложено в мире от его сотворения. В процессе истории лишь обнаруживается предначертанное, человеческое общество всегда остается идентичным самому себе, в него ничто не приносится извне, и в нем ничто не возникает заново, все предопределено и поэтому заранее оправдано. Революции закономерны как поворотные моменты в развитии общества. Они знаменуют вступление в новую, прогрессивную эпоху, и это то великое благо, которое в них заключено. Революция воспринимается многими как трагедия, катастрофа: насилие, террор или анархия, сметающая законную власть во имя новой формы деспотизма, и, следовательно, бессмыслица, безумие, зло. Но, чтобы понять и оправдать последние 40 лет французской истории, по мнению Ламартина, необходимо различать две стороны: «революцию — принцип» и «революцию — действие». «Великие принципы революции 89 года истинны и прекрасны, и только осуществление их было ужасным, несправедливым, постыдным, отвратительным». В свое время, на закате рабовладельческого общества, распространение христианства способствовало прогрессу человечества. Великая французская революция - следующий акт этого же процесса, так как ее принципы — свобода, равенство, братство — почерпнуты из евангельских заветов, считает Ламартин: В XIX веке настало время осуществить эти принципы, которые предыдущая эпоха лишь провозгласила. Видеть же в революции одно зло может только тот, кто судит ее с точки зрения отжившей свой век старой идеологии.
В сущности, вся история человечества, считает Ламартин, — это безумные метания индивидуумов и целых поколений, поиски и заблуждения, роковые ошибки и редкие счастливые озарения. Катастрофы, время от времени повергающие народы в состояние растерянности и отчаяния, — это святое безумие человечества, которое, не ведая этого, выполняет предначертанное и закономерное. Так и 1830 год является звеном в цепи катастроф, завершившим ложный путь, на который временно толкнуло Францию сопротивление Бурбонов и стоявших за ними общественных сил. Будущее зависит от того, какая политическая: система восторжествует в обществе: ретроградная, устаревшая, отбрасывающая его на столетия назад, или, напротив, прогрессивная. «Я вижу, что перед всей Европой стоит вопрос: „быть или не быть”. Речь идет не о способе существования, а о самом существовании социальных групп и политических учреждений».
Колебания и неуверенность, возникающие у Ламартина, касаются лишь частных моментов, тогда как преобладающей и неизменной остается вера в прогресс.
Включенная позднее в «Поэтические и религиозные созвучия», ода «Революции» вызвала «странный, но великолепный диссонанс» с другими стихотворениями этого сборника именно своими обобщениями в духе нового, «демократического» века.
Историзм, воспринятый Ламартином у доктринеров, позволяет ему оправдать революцию и в то же время открывает для него возможность опередить те политические идеалы, которые отстаивали доктринеры, будучи в оппозиции к реакционному правительству Реставрации. Ламартин принимает июльский режим не только как свершившийся факт, ставший закономерным следствием определенных причин, но и как исходный момент будущих социальных преобразований. Он приветствует в июльском режиме «смешанную республику», или «монархию на республиканской основе». Эта оценка выражает тот промежуточный этап, в котором нуждалась мысль Ламартина в своем движении от прежнего легитимизма к идеям второй половины 40-х годов.
Политический дебют Ламартина в 1831 году оказался неудачным. Он потерпел полное поражение на выборах, и этому немало способствовала его слава легитимистского поэта. Чувствуя себя уязвленным, Ламартин говорит о своем намерении оставить политику и принимается за поэму «Жослен. Дневник деревенского священника», задуманную как «эпопея внутренней жизни человека». Вскоре он отправляется в путешествие на Восток. Однако «отречение» Ламартина от политики было несерьезным и временным. В 1833 году по возвращении во Францию он вновь выставляет свою кандидатуру на выборах и на этот раз, наконец, избирается депутатом Национального собрания.
Именно здесь Ламартин видит свое настоящее место — в центре политической борьбы, среди людей, чьи силы и интеллект способны, по его мнению, внести в политику элемент истины и справедливости.
Так, лишь после июльских событий стали явными результаты эволюции, которую Ламартин пережил в течение 20-х годов. Его мысль — политическая, социальная, религиозная, философская — вливается в общий демократический подъем 1830 года. Выводы, сделанные под непосредственным влиянием Июля, определили лицо Ламартина как писателя и как политического деятеля на весь последующий период его литературной и общественной жизни, подготовили его «Историю жирондистов» (1847) и обусловили его роль в революции 1848 года. Точка зрения Ламартина по важнейшим вопросам политики, социальной жизни, литературы, назначения поэта в обществе, изложенная в статье «О разумной политике», осталась принципиально той же до конца его жизни, подвергнувшись лишь частным изменениям в соответствии с конкретными обстоятельствами разных периодов. Июльская революция увлекла Ламартина в политическую жизнь, обновила его поэтический талант и создала благоприятные условия для обогащения его творчества проблемами и методами, соответствующими его новым представлениям о роли поэта и смысле творчества.
Восприняв антилегитимистский пафос демократии начала 30-х годов и полностью разделяя идеи буржуазного либерализма со всей их ограниченностью, Ламартин именно теперь сделал свои первые шаги в сфере практической государственной деятельности.
К Ламартину полностью могут быть отнесены слова одного из его современников, который пытался объяснить роль Июльской революции в судьбе искусства: Июль «более точно определил несколько туманные взгляды. Мечтатели поняли, что существует нечто более славное и нужное, чем их мечтания, что думать — это еще не все, что необходимо действовать».
Л-ра: Соколова Т. В. Июльская революция и французская литература (1830-1831 гг.). – Ленинград, 1973. – С. 57-71.
Произведения
Критика