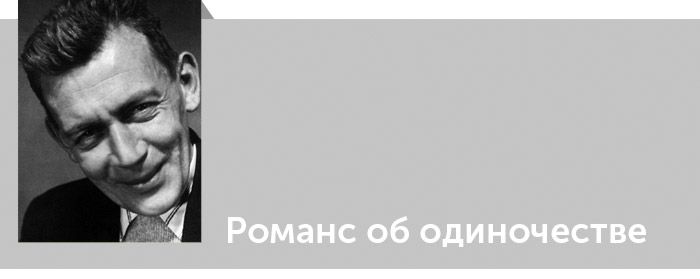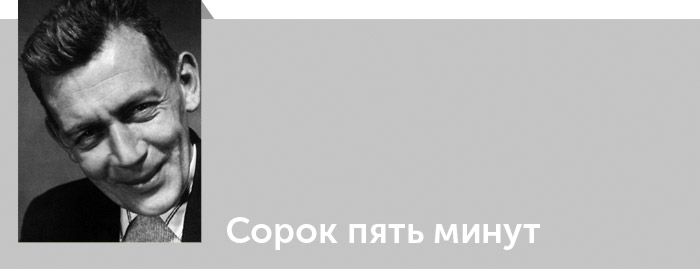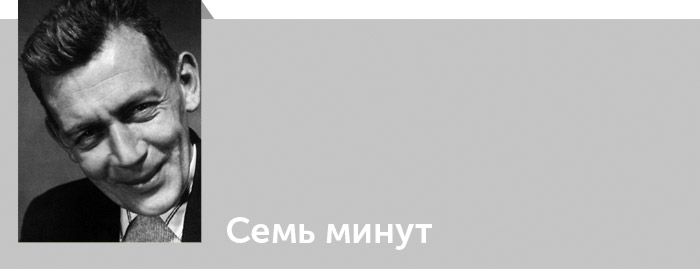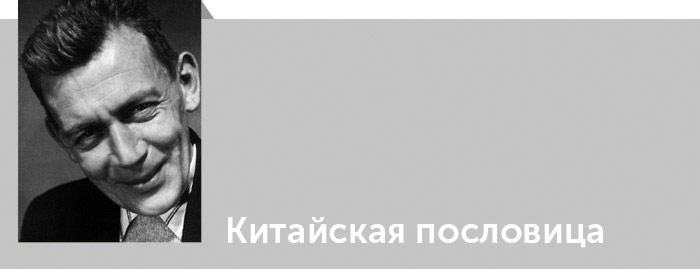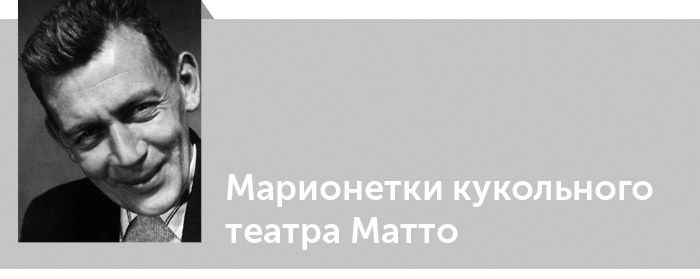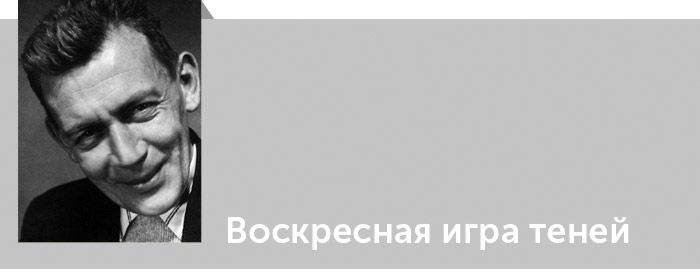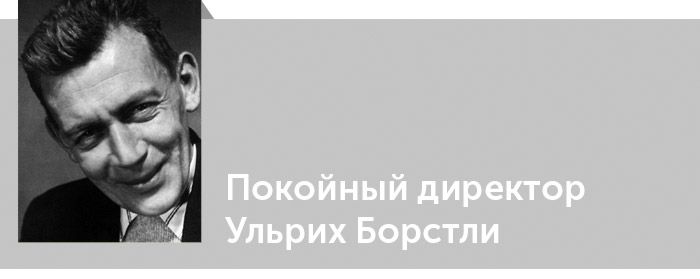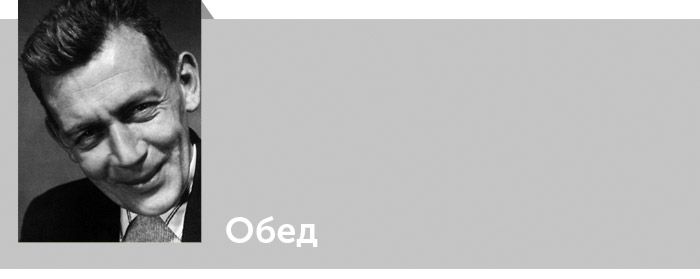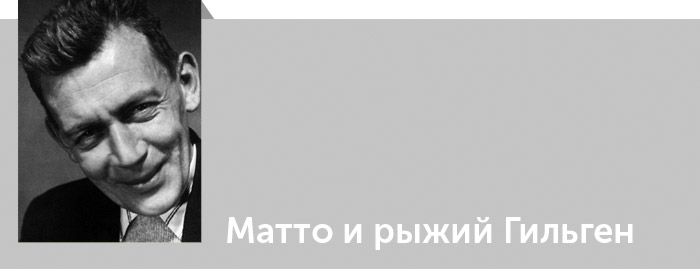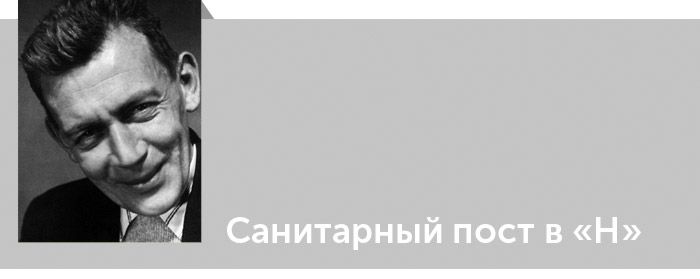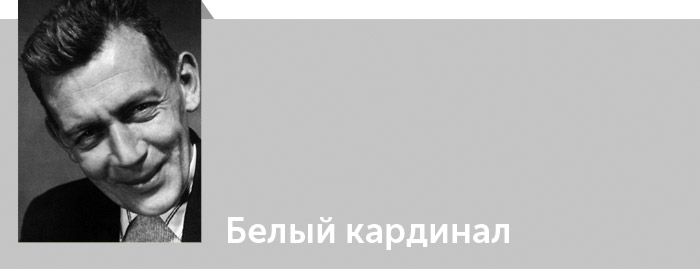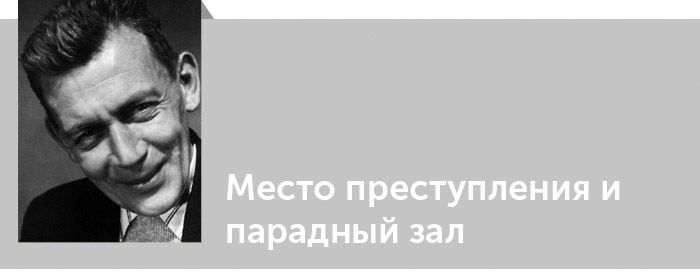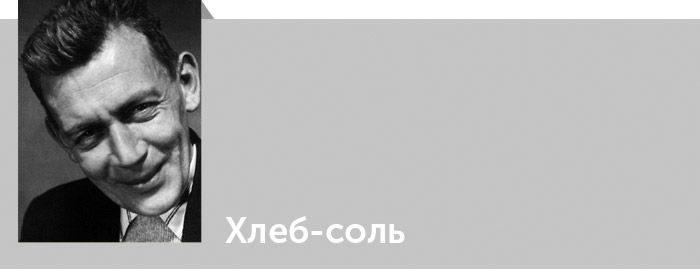Фридрих Глаузер. Власть безумия. Короткая интермедия в трех частях
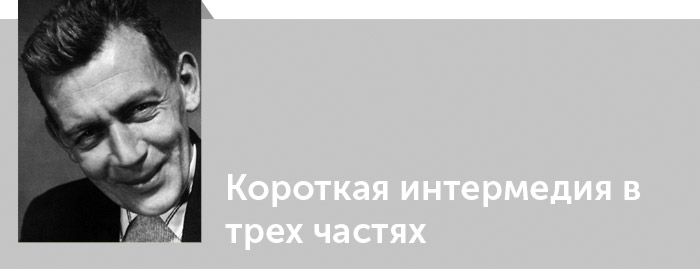
1
— Безо всякого поднимайтесь ко мне в квартиру и ждите меня там. Звонить не обязательно, — сказал доктор Ладунер.
И вот Штудер стоит в прохладном коридоре. Кто-то наигрывает на рояле простенькую мелодию. Штудер тихонько подошел поближе. Звуки доносились из-за двери, расположенной напротив столовой. Штудер прислушался. Бренчание было невыразительным, как пение дроздов в апрельское утро. Рояль умолк, потом мальчишеский голос сказал:
— Хватит, мамочка, теперь спой!
— Но, Хашперли, я же не умею петь…
— Ну что ты, мамочка! Знаешь, вот ту французскую песенку…
Задвигался стул. Несколько вступительных аккордов.
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment
Chagrin d'amour dure toute la vie… [7]
Низкий голос, меццо-сопрано… Штудер вдруг как отключился, голова его прислонилась к дверному косяку… Пропала куда-то психиатрическая больница в Рандлингене и старый человек, проломивший себе череп, пропал Пьер Питерлен, чьи особые приметы надо было объявить по стране, провалился куда-то доктор Ладунер со своей наклеенной улыбкой, над разгадкой которой Штудер сломал себе голову…
…И перед мысленным взором Штудера раскинулся внизу хаос из башенок и крыш, откуда исходило глухое гудение, прерываемое иногда короткими пронзительными звуками. Колыхались космы тумана, петляла между крышами домов, играя бликами, река. Он стоял на Монмартре и смотрел на Париж. Рядом с ним была женщина, она пела под гитару:
J'ai tout quitté pour ma charmante Sylvie… [8]
Ее низкий, полный тоски голос был далек от совершенства… Раздался резкий скрип, и Штудер обрел ощущение реальности — он стоит в коридоре квартиры Ладунера. Дверь вдруг подалась.
Шаги были совсем рядом, дверь распахнулась.
У госпожи Ладунер на носу сидело пенсне. Она заморгала, напрягаясь, вглядываясь в темноту, ее глаза вплотную приблизились к лицу Штудера, она засмеялась.
— Господин Штудер! Проходите в гостиную, зачем же стоять здесь за дверью, в коридоре, когда можно войти и посидеть с нами. Выпить чаю… Может, добавить немножко вишневого ликера? Да?.. Хашперли, поздоровайся с дядей! Это господин Штудер, он живет в гостевой комнате.
Вот он и стал опять господином Штудером. И можно было забыть, что он вахмистр уголовной полиции и отмечен печатью проклятия искать преступников и раскрывать преступления. Он опустился в зеленое кресло с подлокотниками, к нему подкатили чайный столик, налили ему темно-вишневого чая с ликером, он взял теплый ломтик поджаренного хрустящего хлеба, масло так и таяло на нем… Вроде гренок называется…
Не будет ли госпожа доктор так любезна и не споет ли она что-нибудь, попросил Штудер. Обои в комнате были золотистого цвета, и над черным роялем на стене играло солнечное пятно.
Госпожа Ладунер сказала, она вовсе не умеет петь, и произнесла это без всякого жеманства и ложного кокетства, так же как ответила сегодня утром на вопрос, как он ей нравится: да ничего… Что Штудеру отрадно было слышать.
Хашперли нетерпеливо сказал:
— Вот! Видишь, мама!
И госпожа Ладунер села к роялю. У нее были короткие, с подушечками на кончиках, толстые пальцы. Она спела одну песню, потом другую. Штудер пил чай.
Женщина встала. Ну хватит, сказала она, что новенького?
Он нашел директора…
— Мертвым?
Штудер молча кивнул, и госпожа Ладунер тут же выслала сына из комнаты.
— Так-так, — сказала она. — Собственно, так оно и должно было быть…
И Штудер согласился: да, так оно и должно было быть.
Она не знает, сказала госпожа Ладунер, может ли Штудер понять, что это означает для ее мужа. Сложилось ли у него уже представление об Эрнсте? О его характере? Манере поведения?.. Он очень страдал оттого, что ему приходилось брать на себя все дела. Боже, на что была похожа больница, когда он приехал в Рандлинген…
— Больные забились по отделениям… В «Н» они целыми днями резались в ясс, «П» выглядело как музей готических фигур ужасов… Всюду стояли больные с вывернутыми конечностями, один из них сидел неподвижно, как филин, целыми днями на батарее в коридоре. А вонь какая была!.. Все ванны постоянно заняты. В них сидели возбудившиеся больные. Боксовое отделение переполнено… По ночам кричали, я даже пугалась, такие громкие крики раздавались во дворе. Вы что-нибудь знаете о трудотерапии?
Штудер невольно улыбнулся, вспомнив «экспресс», встретившийся ему сегодня утром.
— Чему вы улыбаетесь? — спросила госпожа Ладунер, и Штудер рассказал ей.
— Это только часть общей программы, но я понимаю, что вам смешно. Надо искать пути, как привлечь больных к труду… У моего мужа огромный талант практика, он буквально «изобрел» многие формы труда. Он организовал для санитаров — их называли раньше больничными служителями — курсы, за день он пробегал по отделениям по пять, по шесть, по десять раз, он, который обычно, чуть что, бранится, если где не ладится, был безгранично терпелив… А директор каждый вечер уходил в трактир пить свою тройную порцию вина, женился потом на своей кухарке, крестил в шестьдесят лет сына… А когда все уже было налажено, когда больница действительно была приведена в порядок, когда стали приезжать люди, посмотреть, что да как, когда пациенты стали спать спокойно по ночам, а отделения, похожие раньше на сумасшедший дом, превратились в мастерские, где клеят бумажные мешки и плетут маты, и больных, считавшихся раньше неизлечимыми, стали отпускать домой, кто присвоил себе всю славу? Я как-то случайно прочитала однажды в директорском кабинете одно письмо… Какой-то немец, профессор, писал директору: он поражен, насколько современно поставлено дело в больнице, и он поздравляет директора, что тот внедрил в своем лечебном заведении новейшие достижения психотерапии…
Госпожа Ладунер разошлась и разгорячилась. Наконец она умолкла. Руки ее опустились, юбка поползла вверх, оголив икры. Даже ноги у госпожи Ладунер, подумал Штудер, выглядят очень по-домашнему. По-домашнему уютно и надежно.
Он вспомнил: «Батальон!.. Слушай мою команду!» — и тут же спрятал в усах свою улыбку.
— И вот теперь директор умер! — сказала госпожа Ладунер. Она сделала глубокий вдох, и блузка натянулась у нее на груди. Точно такой же вдох сделал доктор Ладунер, там, в аллее под яблоневыми деревьями, на ветках которых висели крошечные ядовито-зеленые плоды, кислые и вяжущие, вызывающие оскомину во рту, как удары колокола на больничной башенке.
Послышался звук поворачиваемой дверной ручки, дверь рванули.
— Госпожа доктор, мне кажется, пришел господин доктор, — сказал Штудер и поднялся.
Одна из дверей в квартире с треском захлопнулась. Она должна пойти посмотреть, сказала госпожа Ладунер. И, извинившись перед вахмистром, покинула его.
2
На двери квартиры на втором этаже была прикреплена жестяная табличка с выбитыми на ней автоматом, что стояли раньше на любом вокзале, буквами.
«Профессор медицины Ульрих Борстли» — можно было прочитать на табличке.
Штудер осторожно попробовал открыть дверь, она не была заперта; он очутился в коридоре, очень похожем на тот, что был в квартире доктора Ладунера. На душе у него было прескверно. Но потом он подумал, что в конце концов ему поручили установить «коннексию» (как выражался доктор Ладунер) между исчезновением пациента Питерлена и смертью старого директора.
— Эй! — громко крикнул он. — Есть тут кто?
Тишина. Стоял застарелый запах сигарного дыма. Штудер вошел в первую комнату.
Рояль, пюпитр для нот, курительный столик, на нем переполненная пепельница, кресло с подлокотниками, камин без решетки, перед ним обшарпанное кожаное кресло. Над роялем висела увеличенная женская фотография. Штудер подошел поближе. Заостренное лицо, большие глаза, на затылке искусно уложены тяжелые косы… Старая фотография… Первая жена?
Рояль был заперт, весь покрылся пылью. По обеим сторонам окна висели красные плюшевые портьеры, за окном белел ствол березы. На ее тонких ветвях дрожали сморщенные листочки… В соседней комнате письменный стол, на нем бутылка коньяку и рядом рюмка, из которой пили. Штудер вспомнил, что директор давал заключения по случаям хронического алкоголизма, и посмеялся про себя. Рядом с бутылкой лежала раскрытая книга. Штудер посмотрел на обложку.
«Мемуары Казановы».
Несколько странное чтение! Ну что ж… Но надо бы проверить ящики письменного стола.
Тоже не заперты. Денег нет. Тысячи двухсот франков, полученных вчера директором от больничной кассы, как не было. Выходит, он носил их с собой? Но карманы-то были пусты… А мешок с песком?..
Спальня: две кровати, одна не застелена, вторая явно без употребления — на подушке нет следа от головы, покрывало ровно натянуто…
Что это такое, что как печать лежит на всем? Не только спертый сигарный дух, пропитавший всю квартиру, и не легкая примесь запаха коньяка, хотя он тоже чувствовался. И не открытый Казанова, и не незастеленная пустая кровать, и не пыль, и не запертый рояль, и не плюшевые портьеры, и не береза со сморщенными листочками…
Штудер постоял посреди кабинета перед открытым шкафом, в котором в беспорядке валялось несколько книг. На письменном столе стояла тройная рамка: фотографии. Девочки, мужчины, жених с невестой, дети… Внуки старого директора.
— А-а-а… — сказал вдруг Штудер в полный голос.
Вот теперь он точно знал, что пронизывало квартиру.
Одиночество.
Старый человек, который ищет забвения в трактире, потому что не может больше выдержать одиночества. У него умерли две жены. Дети далеко… Внуки приезжают только на каникулы… А молоденькие сиделки, с которыми он ходил гулять?.. Старый человек борется с одиночеством, и борьба эта безнадежна…
Штудер бесшумно покинул квартиру, проскользнул на лестничную площадку, поспешил на третий этаж, открыл дверь. Навстречу ему вышла госпожа Ладунер. Его ждет санитар, она проводила его в гостевую комнату.
Войдя, Штудер увидел сидящего на краешке стула маленького Гильгена, бледного, с выражением страха на лице.
3
Гильген почесал лысину. На нем был пиджак, весь в бесчисленных заплатках. Из кармана он вытащил листок бумаги, сложенный вчетверо, и подал его Штудеру. Красивым круглым почерком был тщательно выписан заголовок, представлявший собой нечто вроде посвящения:
«Глубокоуважаемому и самому доброму и самому мудрому инспектору Якобу Штудеру посвящается инвалидом войны по поручению Матто, Великого Духа, чья власть простирается на весь земной шар».
И затем следовал тот странный прозаический текст, который Штудер прочитал еще утром, но начинался он сейчас несколько иначе:
«Когда туман плетет длинные тонкие пряди дождя…» И так далее и так далее… Потом шел абзац про пестрые гирлянды бумажных цветов, развевавшиеся по всему миру, потом вспыхивали войны, стояла фраза про красные шары, взметывавшиеся к небу красными языками пламени революции… Все вроде было похоже, однако как-то не так. На сей раз это странным образом будоражило Штудера, даже мурашки забегали по коже. За прошедшие часы столько всего случилось… Он нашел директора у железной лестницы. Видел его квартиру и ощутил одиночество старого человека. Видел, как вздохнул с облегчением доктор Ладунер и как точно так же облегченно вздохнула его жена.
И вахмистр Штудер стал читать последний абзац нерифмованного стихотворения Шюля. Там было написано:
«Матто! Он могуч. Он может принимать любые образы — то он маленький и толстый, то высокий и изящный, и весь мир для него как кукольный театр. Они, люди, не знают что он играет ими, как кукловод своими марионетками… А ногти у него на пальцах длинные, как у китайского мудреца, стеклянные и зеленые…»
Чудак Шюль! Похоже, ногти Матто не дают ему покоя… Что, однако, происходит? Штудеру стало как-то не по себе, но причина была уже не в «поэзии» Шюля, тут крылось что-то другое…
— Кто это все время играет на аккордеоне? — спросил он с раздражением. Невозможно было понять, откуда идет звук. Он еще внизу в ординаторской слышал музыку — тихую и далекую, здесь она была громче, казалось, проникала сквозь стены и сочилась с потолка.
Он посмотрел на рыжего Гильгена и заметил, что маленький санитар побелел. Это выглядело комично — веснушки проступили так отчетливо, как пятна ржавчины на матовой стали.
— В чем дело, Гильген? — спросил Штудер.
— Нет, ничего, господин вахмистр… — Штудер действительно хочет знать, кто играет на аккордеоне? Это невозможно установить. У них в больнице так много пациентов, играющих на аккордеоне. Доносится откуда-нибудь из отделения…
Штудер удовлетворился ответом, хотя аккордеон продолжал раздражать его. Он не мог сказать почему. Попытался припомнить, что ему утром бросилось в глаза, что было связано с игрой на аккордеоне, но так и не смог вспомнить.
— Вахмистр, — сказал маленький Гильген и запнулся. Но после того, как Штудер ободряюще кивнул ему, он изложил свою просьбу: пусть Штудер попросит доктора Ладунера, чтоб тот его не увольнял… Увольнял? Почему он должен его уволить?
Гильген рассказал печальную историю. Он купил маленький домик, четыре года назад… За восемнадцать тысяч франков. Семь тысяч он сразу выплатил, остаток — первая закладная. И все шло хорошо. Но вот заболела жена, она сейчас в горах, в Хайлигеншвенди, у нее опухоль в груди… Долги, конечно!.. И тогда он начал постоянно замещать палатного Юцелера, когда тот был выходной, пару раз ему пришлось заставить молоденьких санитаров и сиделок отнестись к нему с уважением, а они потом невзлюбили его за это… Обвинили, что он носит белье и обувь пациентов. Старый директор расследовал дело и встал на их сторону. Он намеревался уволить Гильгена. Тогда палатный Юцелер стал ему угрожать, старому директору, хочет он сказать, что в больнице будет объявлена забастовка, если Гильгена уволят. Директор только посмеялся. И он был, конечно, прав, что смеялся, между санитарами в больнице нет согласия. И дюжины не наберется политически сознательных. Остальные до смерти рады, что имеют постоянное место в такое время, когда кругом кризис…
Ну и что дальше? — спросил Штудер. Ему было жалко Гильгена.
Ну а сегодня в обед, когда он пришел домой, он нашел квитанцию о принудительном взыскании суммы… И если его лишат постоянного заработка, тогда все пропало. Его жена не член больничной кассы… Он уже все перепробовал, сказал Гильген, в свободное от работы время портняжил для своих коллег, хотя в общем это запрещено, получается двойной заработок. Санитарам, во всяком случае, не разрешается. Вот если жена доктора Блуменштайна в деревне учительница, а ее муж зарабатывает деньги б больнице, так это ничего, можно…
Штудер кивнул. Несправедливо устроено все в этом мире. Он мог бы рассказать маленькому Гильгену о тысяче двухстах франках, полученных директором от больничной кассы. Но зачем еще подливать масла в огонь…
Странно, однако, что маленький Гильген испытывал к нему такое доверие — обыкновенный санитар, которого он вчера еще даже и не знал, ну сыграл с ним сегодня утром разок в ясс, ну поручил ему, возможно по чистой случайности, доктор Ладунер, чтобы он поводил вахмистра по отделению «Н»…
Штудер успокоил Гильгена, как только мог. Он сделает все, что в его силах. Пока ведь больницей руководит доктор Ладунер, он замолвит перед ним за Гильгена словечко.
Санитар Гильген ушел от него несколько успокоенный. Штудеру бросилось в глаза, что, уходя, он еще раз поднял испуганный взгляд к потолку, но вахмистр тут же опять забыл про это. Аккордеон умолк…
На обратном пути от входной двери, до которой он проводил маленького Гильгена, Штудер остановился перед кабинетом доктора Ладунера. Он вспомнил, что хотел позвонить жене.
Он громко постучал и открыл дверь и тут же отпрянул назад.
На кушетке, лицом к двери, лежал молодой человек с широко раскрытыми в страхе глазами. Он скрестил руки под головой, по щекам его текли слезы. В головах у него сидел доктор Ладунер, удобно откинувшись в кресле, и курил. Увидев Штудера, он вскочил, подошел к двери и прошептал возбужденно:
— Через полчаса… Я сейчас занят… — И защелкнул дверь на замок.
Штудер постоял немного в задумчивости. Молодой человек на кушетке был Герберт Каплаун, сын полковника…
Почему Герберт лежал на кушетке и плакал?
По коридору к нему спешила взволнованная госпожа Ладунер. Сейчас нельзя беспокоить ее мужа, у него анализ, там его частный пациент…
— Анализ? Это еще что за штука?
Госпожа Ладунер только махнула рукой. Очень сложно объяснить. А Штудер подумал: так же сложно, как и навязчивый страх.
Штудер тихонько отправился к себе в комнату и принялся выгружать свои карманы. Потом вытащил свой сильно потрепанный кожаный баул и поставил его на стол. Засунул под белье мешок с песком, конверт с пылью, вычесанной из волос мертвого директора, и лоскут грубой ткани, найденный под матрацем Питерлена.
Потом достал из кармана свой блокнотик, открыл страничку с фамилиями и начал их учить наизусть, как прилежный гимназист учит латинские глаголы:
«Юцелер Макс, палатный санитар,
Вайраух Карл, старший санитар,
Вазем Ирма, сиделка, 22-х лет…»
Тут ему пришло на ум, что он забыл записать маленького Гильгена, и Шюля тоже, лучшего друга Матто, его он тоже забыл, и девицы Кёлла, поварихи, в блокнотике тоже не было. Но этих троих он записывать, однако, не стал, они никакого отношения к делу не имели.
Несколько раз он тихо прошептал:
— Питерлен Пьер, убийство ребенка. — И еще: — Каплаун Герберт, навязчивый страх.
Захлопнув блокнот, он сложил руки на груди и закрыл глаза. В полусне он еще вспоминал:
«Доктор Блуменштайн, четвертый ординатор, производит сейчас вскрытие, он свояк директора, его жена сестра второй жены и учительница в Рандлингене…»
Обилие «жен» путало его, он потряс головой, как будто у него на носу сидела муха, и задремал.
Ему снилось: доктор Ладунер заставляет его записывать в огромную книгу фамилии всех пациентов, санитаров и сиделок, всех девушек с кухни, подсобных рабочих, служащих конторы и врачей.
«Когда вы выучите все фамилии наизусть, — изрек доктор Ладунер, — тогда вы сможете стать вместо меня директором. Ко-нечно…»
И Штудер весь покрылся во сне потом…
- Беспризорники
- Хлеб-соль
- Место преступления и парадный зал
- Белый кардинал
- Санитарный пост в «Н»
- Матто и рыжий Гильген
- Обед
- Покойный директор Ульрих Борстли
- Показательный больной Питерлен
- Ночные размышления
- Разговор с ночным санитаром Боненблустом
- Штудер в роли психотерапевта
- Бумажник
- Два небольших испытания
- Конфликт Штрудера с совестью
- «Люди, они милы и добры...»
- Кража со взломом
- Коллеги
- Появление Матто
- Воскресная игра теней
- Марионетки кукольного театра Матто
- Китайская пословица
- Семь минут
- Сорок пять минут
- Романс об одиночестве