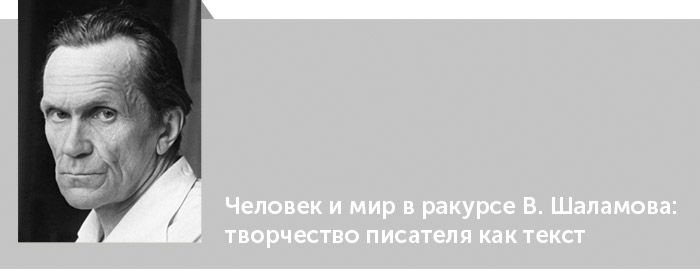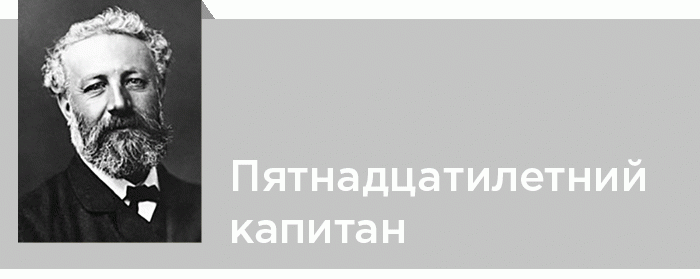Братья Гонкуры. Актриса Фостен

(Отрывок)
I
Под звездным небом, над фосфоресцирующим морем было совсем темно.
В углублении берегового утеса, о который с тихим ропотом бился океан, лежали, распростершись на земле, какие-то человеческие существа — неясные силуэты, бесформенные, безликие.
Смутно виднелись фигуры двух женщин. Одна растянулась во весь рост на спине, закинув руки за голову, подняв глаза к звездам. Другая, свернувшись в клубок у ног первой, нежно согревала их теплом своего тела.
В нескольких шагах от женщин сидели во мраке, на песке, спиной к спине, трое мужчин; лица их на мгновенье освещались вспышкой сигары.
Время от времени ветер с моря, шевеля мягкие платья неподвижных и словно уснувших женщин, на миг обрисовывал своим мощным дыханием выпуклые очертания их тел, и легкая зыбь пробегала по колеблющейся ткани.
Величественное зрелище темного неба и темного моря, ритмичный плеск ленивой волны, вялая теплота ночи — все это повергало души в какое-то томное изнеможение, и разговор между мужчинами и женщинами замер.
Внезапно, среди молчания и мрака, раздался голос одной из женщин, той, что лежала, вытянувшись во весь рост, — голос, прозвучавший как страстное воспоминание о прошлом, как признание, которое вырвалось во сне; она вдруг снова заговорила о человеке, чье имя уже называла с четверть часа назад.
— Нет… Между нами еще не было ничего, кроме поцелуя… одного поцелуя. Помню, я поцеловала его, стоя на цыпочках, в моей уборной, поверх ширмы, за которой одевалась… Вечером он должен был уехать в свое посольство. Эти англичане, когда они некрасивы, то уж совсем уроды… зато когда красивы… И потом, в нем было что-то от матери, француженки… И только через три месяца, когда я поехала в Брюссель, в театральное турне… Он приготовил мне номер в отеле, в отеле «Фландрия»… Да, именно там… Ах, мне никогда не забыть эту ночь!.. Любовь, уверяю вас, создает не только сам любовник… Разве иной раз мы не любим мужчину за то, как, когда, при каких обстоятельствах мы его полюбили?.. Право же, эта гостиница была какой-то странной… Из стен исходила музыка необычайной, невыразимой нежности… и его поцелуи пробегали по моей коже вместе с волнами звуков, которые как будто щекотали меня… с волнами звуков, лившихся из-под подушки… а где-то вдалеке гремел ураган гармонических созвучий, казалось, уносивших меня в его объятиях прямо на небо… И я чувствовала, как что-то божественное примешивается к его ласкам… Эта первая ночь навсегда сохранилась в моей памяти, как… — то, что я сейчас скажу, глупо, я знаю, — как воспоминание о такой любви, какой представляешь себе разве только любовь между существами неземными… Да, гостиница «Фландрия» сообщается с церковью святого Иакова, и на следующий день я узнала, что орган вделан в ту стену, у которой стояла наша кровать. Словом, я и сама не знаю, как все это получилось, но несомненно одно, что он — единственный мужчина, которого я любила настоящей любовью… единственный!
— Обожаемая Жюльетта, не пощадите ли вы хоть немного слух вашего патрона? Он ревнив!.. — произнес мужской голос, шутливая интонация которого выдавала сердечную рану.
— Друг мой, — ответила Фостен с откровенной иронией, — морской воздух отнял у вас способность здраво смотреть на вещи… Вы биржевик, и такой практический человек… Будьте же тем благоразумным парижанином, каким вы были до сих пор… Мы ведь с вами не любовники, мы скорее супруги, не так ли?
И, слегка отвернувшись, она бросила взгляд на небо, где изорванная гряда маленьких темных облаков, казалось, протянула совсем низко, прямо над бледно светящейся линией океана, бесконечную цепь Химер, словно вырезанных из черного дерева; потом, взволнованная этой чудесной ночью, напоенной любовью, женщина продолжала свои излияния:
— У этого эпизода было продолжение… Спустя некоторое время Уильям увез меня в какой-то замок в Шотландии… не припомню теперь, что это было за графство, да мне никогда и не хотелось напоминать себе. Мое воспоминание нравится мне именно таким — неясным, окутанным дымкой тумана, своего рода сомнамбулизма, в котором я жила в то время… Полуразрушенный замок в глубине парка, обступавшего его все теснее с каждым годом, настоящая лесная сторожка… и бледная зелень деревьев, — такие, должно быть, растут в чистилище, — колеблемых долгими, печальными, осенними ветрами… Но что было там просто очаровательно, это стая белых павлинов — они появлялись вместе с сумерками и рассаживались на лестницах, на террасах, на окнах… Нет, вы не можете вообразить, какое впечатление производили в сгущавшейся темноте, на фоне старых каменных, поросших мохом стен, эти большие неподвижные, совершенно белые птицы… А когда всходила луна, казалось, что в амбразурах всех окон появляются души усопших девушек, облаченных в подвенечные платья из белого атласа… Знаете, даже в феериях я никогда не видела подобных декораций!.. Да, странным было тогда мое существование… В иные минуты я, кажется, была не вполне уверена в том, что живу… И все-таки это был самый счастливый месяц в моей жизни… Время остановилось, у дней больше не было часов…
— А лучше всего были ночки, — уронила женщина, лежавшая у ног говорившей.
Легкий удар каблука был ей ответом, и женщина сейчас же поцеловала толкнувшую ее ногу, сказав со смехом:
— Полно, сестренка, дай нам немного подурачиться.
— И правда, милая Жюльетта, — произнес молодой и веселый мужской голос, — ты что-то долго донимаешь нас сегодня душещипательными историями.
— В таком случае, мой друг, они кончены! — ответила Фостен, упругим движением поднимаясь с земли. — И, по-моему, нам пора идти пить чай.
— Сударыня, — произнес мужчина, до сих пор не сказавший ни слова, — когда все-таки состоится ваш дебют в «Федре», во Французском театре?.. Газета хотела бы объявить об этом заблаговременно.
— Думаю, через два, самое большее — через два с половиной месяца.
— Нет ли каких-нибудь поручений к Карсонаку? — спросил он, кланяясь дамам.
— Благодарю, никаких, — ответила сестра Жюльетты. — Послезавтра мой возлюбленный получит меня в полное распоряжение.
— До свидания, Бланшерон, до свидания, маленький Люзи… Да, я сейчас же возвращаюсь в Гавр, ночным поездом…
Фостен взяла сестру под руку и в сопровождении двух приятелей стала подниматься по узкому неровному переулку Бельвю в Сент-Андрессе, направляясь к каменной дачке, как видно, построенной совсем недавно…
II
На маленьком круглом столике, между двумя мешочками конфет, — один был с этикеткой от Буасье, а другой от Сиродена, — стояло блюдо куропаток с капустой и салат, от которого пахло уксусом.
В будуаре, где происходил завтрак, на огибавшем всю комнату диване валялись разные принадлежности женского туалета, а по углам, в стеклянных шкафчиках стиля Буль современной работы, виднелась вперемешку с фарфором и другими дорогими вещицами целая куча грошового хлама, как, например, стеклянная банка, в которой фигурка Пьеро из дутого стекла в черной шапочке то и дело кувыркалась под ленивым ударом хвоста крупной золотой рыбки, не перестававшей кружиться.
Позади каминных часов — прелестной вещицы минувшего столетия, со статуэткой, оживающей под влюбленным взглядом Пигмалиона, который преклонял колена на белом мраморе у ее ног, — торчала за зеркалом визитная карточка какого-то актера из Пале-Рояля: частый гребень из слоновой кости со сломанными зубьями, гнидами и раздавленными вшами, неподражаемо воспроизведенными на гладком картоне.
Сквозь полуоткрытую дверь смутно виднелась в подозрительном полумраке еще не прибранная туалетная комната — скомканные полотенца, старые, засохшие половинки лимонов; и аромат духов, среди которых преобладал мускус, врывался в столовую, смешиваясь с запахом капусты и погасших окурков.
Три женщины сидели, тесно сдвинувшись вокруг сестры Жюльетты Фостен, — одна на стуле, другая на пуфе, третья на скамеечке, — и ели куропаток, то и дело вытаскивая кончиками пальцев листок салата из салатницы или конфетку из мешочка. Чтобы удобнее было набивать желудок, самая полногрудая из всей компании сняла корсет и, бросив его на спинку стула, сидела теперь в растерзанном виде, даже не застегнув хорошенько платье.
Это была толстуха Брюхатая. В прошлом — дама легкого поведения, мечтавшая о мещанском уюте и в конце концов женившая на себе какого-то дирижера оркестра с бульвара Преступлений; эта сорокалетняя женщина сохранила, несмотря на избыток жира, кроткие глаза ребенка.
У самой юной из всех, девочки лет семнадцати — восемнадцати, был носик заядлой лакомки, хитрая мордочка с отпечатком парижской испорченности и чисто парижского ума, ботинки, которые просили каши, манеры маленькой потаскушки из Латинского квартала и хриплый голос. Свою беседу она уснащала медицинскими терминами, зарабатывала на жизнь переводами из Дарвина для журналов и газет и откликалась на детское имя — Лилетта.
Третья женщина, двадцатишестилетняя, молчаливая, время от времени вздрагивала всем телом, словно от какого-то тайного возбуждения. Ее бледное лицо то и дело розовело от мимолетного волнения крови, сумеречная синева глаз была такой густой, что синими казались и белки, пышная шевелюра не скрывала изящной линии висков и прозрачных, словно выточенных, ушей. На ней было платье, в котором она весь день ходила и дома и в гостях, — будничное платье из белого пике с темно-красной шелковой косынкой, закрывавшей плечи и по-детски завязанной бантом сзади, — туалет, в котором сияла ее бледная, но живая красота и на который утром, выехав в открытой коляске, она набросила меховую накидку. Жозефина в течение нескольких лет занималась тем, что объезжала лошадей для светских дам, а теперь была на содержании у одного крупного барышника с Елисейских нолей.
Вокруг столика ходила взад и вперед, поминутно останавливаясь и непринужденно опираясь коленом о край пуфа, молоденькая беременная служанка с жалким личиком, напоминавшим изображения женщин средневековья, переживших сильный голод. Щеки ее были покрыты румянами, украденными у хозяйки, длинная царапина шла наискось через все лицо. В крохотном чепчике, еле державшемся на затылке, тяжело волоча ноги в алжирских комнатных туфлях без задков, она громко ворчала и хлопала дверью в ответ на каждое приказание или звонок, ежеминутно заставлявший ее выбегать в прихожую.
— Ну, как пьеса? Держится еще? — отважилась спросить толстуха, на секунду перестав жевать.
— Еще как! — ответила хозяйка дома.
— По-прежнему пять тысяч сбора… Он сам сказал мне это… вчера… новый режиссер… я бегал к нему за кулисы, — пропел тонкий, как флейта, детский голосок, принадлежавший семилетнему мальчику, почти совершенно закрытому накидкой из кружев Шантильи.
Лежа в углу дивана, наклонив голову и задрав кверху скрещенные ноги, он крохотной пилочкой отделывал себе ногти. Стоячий воротничок, носовой платок, засунутый за вырез жилета, — все в этом мальчугане, от безукоризненно чистой подошвы ботинок и до ровного пробора посередине головы, отзывалось солидностью старого франта, старого смешного модника. Маленький старичок, который уже приобщился к жизни этого мирка, принимая участие во всех разговорах, подслушивая интимные признания, присутствуя при всевозможных препирательствах — деловых и не только деловых. Несчастный ребенок, которого таскают с собой, словно хорошенькую собачонку, на ужины в отдельных кабинетах, где о нем тут же забывают и откуда на рассвете, совсем сонного, его приводит к матери официант кафе.
— Видишь ли, Брюхатая, — сказала мать, — теперь, благодаря электрическому освещению, которое производит такой эффект в сцене с отравившейся в четвертом акте, сто спектаклей у нас все равно что в кармане.
— А как с другой пьесой? Когда она снова пойдет в Шатле?
— На будущей неделе… Стало быть, он будет должен мне семьсот франков… Да, он так мил, что дает мне по пятьсот франков с каждой премьеры и по двести — с повторных спектаклей. И все-таки жить с этим Маккавеем не слишком сладко… В сущности говоря, козочки мои, я родилась для того, чтобы выйти замуж за какого-нибудь Ларюэтта и держать в провинции ресторанчик для актерской братии… Знаете что, мне хочется поехать в Турин, — сказала она вдруг, убегая в другой конец будуара; потом сделала крутой поворот и, столь же внезапно вернувшись к своим подругам, крикнула, потрясая вилкой с торчавшим на кончике куском куропатки:
— Я, может быть, переспала бы там с самим королем!
И тут же:
— Лилетта, красней или убирайся отсюда!
— Предпочитаю покраснеть, — ответила Лилетта с поистине многообещающим чистосердечием бесстыдства.
Сестра Жюльетты снова уселась на свое место, задумчиво поглаживая себя по шее сзади.
— Какая скверная, какая зловещая штука выросла у Брюхатой вот здесь — там, где я держу сейчас руку… Да, это горб сорокалетних, и по временам мне кажется, что он растет и у меня десятью годами раньше срока… Что же ты, Растрепа, ведь звонят!
— Сударыня… доктор с Гомбургских вод, — доложила служанка, полуоткрыв дверь будуара.
— Скажи ему: «Брысь в Германию!» — крикнула хозяйка дома, хлопнув в ладоши.
— А! Вот и Рагаш! — продолжала она, когда вслед за служанкой появился мужчина. Он шел, согнув ноги в коленях и простирая руки, словно призывая всех к молчанию.
— Рагаш, Рагаш, Рагаш! — как эхо, откликнулись все три женщины, каждая на свой лад.
Рагаш был сорокалетний мужчина, вечно страдавший желудком; он с перекошенным лицом отпускал непристойные словечки, вымученные остроты, парадоксы, каламбуры, не имевшие ни конца, ни начала, копировал актеров. За свои бесконечные потуги на остроумие он получил в этом доме прозвище «понос Бобеша».
— Тсс… Тсс… Тсс… — повторил Рагаш, входя в будуар, словно на подмостки театра. — В нашей столице распространился слух, будто некто по имени Понсар обнимается сейчас с Титанией… Ах, дети мои, что за шедевр должен родиться от этого флирта! Но мы сохраним тайну… и будем говорить piano, pianissimo… Тсс! Тсс!
Внезапно брови Рагаша взлетели вверх, губы приняли форму огромного «О», и, с алчным видом прижав к ним палец, он шутовски изогнулся в позе обожания перед толстухой с вывалившейся грудью:
— О маленькие зенщины, маленькие зенщины… а впрочем, даже и толстухи… Брюхатая, Брюхатая… как бы я хотел написать на твоем белом, трепещущем пюпитре одну-единственную статейку в двести пятьдесят строчек… ни строчкой больше! Говори, приказывай… Что тебе угодно за это? Хочешь, я растопчу перед тобой принципы восемьдесят девятого года? Скажи… Право же, сударыня, это, по-моему, было бы вполне уместно… Нет, ты не хочешь, Брюхатая, ты отвергаешь мой пыл… Ну и не надо!
Он сделал вид, будто сморкается и обливает паркет слезами.
— Да, плоть наша была и есть слаба, но в то же время мы протухли от стремления к добродетели… Моим учителем был аббат Пуалу… Но я не посылаю его к тебе, не хочу, чтобы он изрек: «Католицизм и Марковский — вот мой девиз», — заявил Рагаш с интонацией а lа Грассо.
— Послушай-ка ты, полоумный из Виши, дай нам немного передохнуть! У нас просто мозги заболели! Скоро ли ты кончишь свои номера для провинциалов? — крикнула ему Лилетта, питавшая неприязнь к этому человеку.
— А ты лучше сама замолчи, юная воспитанница из пансиона «Непорочное зачатие».
— Сударыня… Сударыня… Комиссионер по доставке аранхуэсской спаржи для Центрального рынка.
— Где, черт возьми, я могла познакомиться с этим субъектом? — пробормотала, перебирая в памяти свои давнишние дорожные встречи, сестра Жюльетты. — Что ж, на этот раз — брысь в Испанию!
— Ах, Испания! — произнес Рагаш, устремляя вдаль бессмысленный взгляд лунатика. — Страна солнца, поэзии, Сида и сварливых любовниц!
Карсонак, хозяин дома, автор популярного «Преступления Пюидарье», вышел из внутренних комнат в черном фраке и в пальто, которое он застегивал на ходу.
Большой живот, седые, остриженные бобриком волосы, крашеные усы, торчащие по углам рта, сонные, прикрытые морщинистыми веками глаза, загоравшиеся, однако, металлическим блеском, когда он отпускал злую шутку, — таков был Карсонак, тип толстяка, но толстяка злого.
— Что это, Щедрая Душа? Вы завтракаете здесь? Отчего же не в столовой?
— Здесь как-то уютнее, и мы чувствуем себя более свободно, не так ли, козочки? — ответила любовница Карсонака.
— Правда, правда, понимаю… И потом здесь у вас под рукой туалетная комната на случай несварения желудка или нервного припадка после «дружеских бесед»… Ах, дорогая моя, прикройся, прикройся! — с гримасой отвращения крикнул Карсонак той, что завтракала без корсета. — Ну до чего натурально выглядела бы ты в роли Гаргамель!
И он обратился к другой подруге своей любовницы:
— Ну, а тебе, беспечная Сарра, известно ли тебе, что человек, который платит за твою любовь такие большие деньги, уже готов поддаться чарам Провансальки? Я счастлив первый сообщить тебе об этом.
Медленно и грациозно изогнув шею, Жозефина, к которой он подошел, подняла голову и, оказавшись на уровне его жирного плеча, вдруг впилась в него сквозь пальто своими белыми зубами.
— Да ведь больно же! Какое идиотство!
В глубоких глазах женщины промелькнула улыбка, и, закурив толстую сигару, она соскользнула со стула на пол; окутанная широкими складками белого пеньюара и красной шали, она застыла без движения, но эту неподвижность но временам нарушал сладострастный трепет насытившейся пантеры.
— А знаешь, Щедрая Душа, кажется, во Французском театре дело плохо. Говорят, там готовится хорошенький провал.
— Ты мне надоел… Знаешь ведь, что я не люблю, когда ты вмешиваешься в дела моей сестры, — весьма выразительно проговорила Щедрая Душа.
— Ну, как? Идем? — спросил Карсонак, поворачиваясь к Рагашу, которого до сих пор точно не замечал.
— А ложа бенуара при возобновлении твоей пьесы мне будет?
— Откидную скамеечку на сквозняке — вот все, что могу тебе предложить.
Рагаш с полной невозмутимостью подошел к любовнице Карсонака, что-то тихо сказал ей, встав за ее спиной, и все приятельницы услышали ее ответ:
— Не обращай внимания, сегодня утром он не в духе, но если ты мило, ну, очень мило, отнесешься к его пьесе, то я устрою так, что следующую пьесу вы будете писать вместе, а ты ведь знаешь, голубчик, что когда он начинает с кем-нибудь работать, то потом уж и слышать не может ни о ком другом… Хочешь выпить рюмочку чего-нибудь?
Рагаш подцепил штопором настоянный на водке абрикос и, откусывая прямо со штопора желтый плод, вскричал:
— Stupendum! — как выражаются древние. Мне кажется, что я укусил тунику мадемуазель Дюшенуа!
— Не понимаю, — сухо отрезал Карсонак.
Рагаш, по-прежнему невозмутимо серьезный, нагнув голову, словно осел, пьющий из ведра, стал пятиться к двери, подражая китайцу, играющему на железном треугольнике, и обратился к Карсонаку с такой прощальной речью:
— Прославленный драмодел! Думал ли ты когда-нибудь об угрызениях совести, которые могут возникнуть у привратника, совершившего преступление?.. Так вот, заметь себе для одной из твоих будущих пьес, что каждый звонок, раздающийся ночью, должен пробуждать в нем раскаянье!
На смену Рагашу сразу же явился долговязый молодой человек, белобрысый, бескровный, с черепом мистика, напоминавшим по форме сахарную голову; прижимая к груди засаленную шляпу, он с каким-то отсутствующим видом совал каждому руку, и во всем его облике было нечто от раболепной фигуры сына Диафуаруса.
Карсонак резко оттолкнул его безжизненные пальцы и грубо сказал:
— Знаешь, Планшмоль, тебе бы следовало заняться осушкой рук… в них столько сырости, что ты награждаешь ею и других!
Планшмоль испуганно отошел от Карсонака и, надеясь найти убежище возле женщин, сел рядом с хозяйкой дома, которая тут же сказала ему:
— Он теперь твой близкий друг, правда? Так вот, если ты добьешься от него такой рецензии, какая нам нужна, я заставлю Карсонака писать новую пьесу вместе с тобой, а ты ведь знаешь, мой милый, что когда он…
— Сударь! Пришел тот молодой человек, который приходил уже три раза, чтобы переговорить с вами.
— Пусть войдет.
— Господин Грежелю! — провозгласила служанка.
Близорукий начинающий литератор, наделенный двумя видами застенчивости — застенчивостью близоруких и застенчивостью начинающих, — вошел в комнату и страшно смутился, увидев великого человека, а также весьма непринужденные позы четырех дам.
— Послушайте, молодой человек, — сказал ему Карсонак, не предлагая сесть, — сюжеты всех пьес, которые мне приносят, сначала кажутся мне отвратительными. Проходит три месяца, четыре… Предложенный сюжет вдруг приходит мне на память, и — странная вещь! — теперь он уже нравится мне… Но к этому времени я успеваю совершенно забыть о лице, которое его предложило, и мне начинает казаться, что идея принадлежит мне, только мне. Я вас предупредил.
Бедный молодой человек начал искать дверь.
— Сюда, молодой человек, сюда, не то вы попадете в туалетную комнату этих дам.
— Послушай, Лилетта, — сказал через несколько секунд Карсонак, — я был бы тебе весьма признателен, если бы ты, когда я оказываю тебе честь и отдаю на твое попечение солидных шестидесятилетних старцев, которым поручаю отвезти тебя к твоему папа, — если бы ты в этих случаях садилась не на колени этих самых стариков, а на сиденье фиакра!
— О, будьте покойны! Если мне и случится сесть на колени к мужчине, то уж, во всяком случае, не к одному из подписчиков «Руководства для импотентов», вроде вас.
— Недурно, детка, — бросил Карсонак, который почти развеселился, услышав этот злобный выпад, так похожий на его собственные.
Затем, прерывая конфиденциальную беседу своей возлюбленной с Планшмолем, он спросил:
— Ну как, Планшмоль, не удалось ли тебе опять с помощью ночного столика вызвать дух Мюрже? Не поделился ли он с тобой своими последними загробными похождениями?
— О да, и я мог бы рассказать тебе одно из них, но это неудобно при дамах.
— Ну и ну! Как видно, неплохо живется на том свете, если даже этим дамам нельзя послушать твой рассказ.
Планшмоль подошел совсем близко к Карсонаку и, брызгая слюной, шепнул ему на ухо несколько слов.
— Простофиля!.. Да ведь эту непристойность сочинил я!
— Прежний слуга пришел за рекомендацией, которую ему обещал хозяин, — сказала горничная.
— Возьми на камине и отдай ему.
— Как? Вы, значит, рассчитали его? Почему же? — глуповато спросил Планшмоль, вмешиваясь в разговор и пытаясь хоть этим вернуть себе утраченный авторитет.
— Превосходный слуга… — сказал Карсонак язвительно, — но он перешел ко мне от господина Рикора… и, открывая двери, он, кажется, позволял себе фамильярничать с подругами Щедрой Души.
Лазурные глаза Щедрой Души приняли зеленоватый оттенок, а губы дрогнули, не вымолвив, однако, ни слова; машинально опрокинув свой стакан, где еще оставалось несколько капель, она начала размазывать их по клеенке пальцем, на котором блестело старинное кольцо с изображением сладострастной сцены.
Господин, вызывавший дух Мюрже, ушел, а Карсонак, стоя у камина, стал закутывать себе шею белым шелковым кашне.
— Что с тобой, Щедрая Душа? — не удержался Карсонак, заметивший сосредоточенность своей любовницы.
— Ничего… нет, право же, ничего… но все-таки как-то странно… Мне вдруг вспомнилась одна глупость… я уж как будто совсем забыла о ней… Так ты хочешь, дружок, чтобы я рассказала?
И проникновенным голосом, нежным голосом, исходившим, казалось, из самых глубин ее существа, любовница Карсонака рассказала, почти пропела ему следующую историю:
— Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я была в саду… в таком саду, какие бывают только в сновидениях. Вдруг я увидела, как ко мне приближается белый призрак, и сразу узнала в нем Милочку Розу. Через секунду она подошла совсем близко и сказала мне: «Мы были подругами на земле, зачем же ты убегаешь от меня? Здесь так хорошо, и скоро, скоро ты придешь к нам…» Позади нее я увидела призраки двух-трех дорогих мне людей, которые уже умерли или должны скоро умереть, и они тоже говорили со мной… Тут я проснулась, скорее радостная, чем грустная… И я подумала — настолько реален был этот сон, — что господь бог позволил Милочке Розе предупредить меня, чтобы дать мне время приготовиться… Однако закутайся хорошенько, сегодня холодный ветер… а то после воспаления легких, которое ты перенес два года назад…
Карсонак помрачнел. Он бесконечно долго натягивал перчатки, потом снял их, засунул в карман, двинулся к выходу, вернулся к камину, наконец решился подойти к двери, открыл ее, вышел, закрыл за собой, опять открыл, просунул голову в щель и, подавшись вперед на одной ноге, спросил любовницу:
— Скажи, ведь меня-то ты не видела в том саду, позади Милочки Розы, а?
Женщина, не оборачиваясь, покачала головой, что означало не слишком определенное «нет», а когда шаги любовника замерли в отдалении, разразилась хохотом, прерываемым отрывистыми фразами:
— Козочки, посмейтесь же со мной… Теперь он будет целую педелю трястись от страха… Такая сволочь… И до чего боится смерти… Ах, что это за человек… никто и не подозревает, какие гадости заставляет он меня проделывать с моим телом ради успеха своих махинаций… Ведь это черт знает что… Они уверены, эти господа, что если они дают нам деньги… Полно! Эти деньги наши, и наши по праву. Торговля белыми рабынями — вот что это такое! Да, они ежедневно торгуют нашей молодостью, нашей красотой. Идет ли речь о том, чтобы получить субсидию, выхлопотать отмену запрещения цензуры, добиться получения льготы, ордена, словом, чего угодно, — они бросают нас в постель к власть имущим — к министру, секретарю, лакею. Не будь Пламени Пунша, вы думаете, господин Икс сумел бы продлить свой контракт еще на десять лет? А господин Игрек — разве смог бы он добиться помощи одного из превосходительств, если бы не Слониха?.. Ах, эти старые паралитики из министерств, золотушные юнцы из отделения Печати и несносные театральные рецензенты, — сколько таких господ мне приказано было ублажать!.. Он ведь забрал себе в голову непременно стать кавалером ордена Почетного легиона! И с кем еще придется мне переспать, чтобы это получилось?
Вскочив с места и порывисто бегая по маленькому будуару, она так и сыпала страшными признаниями, раскрывая ненависть — ненависть, нередко существующую между мужчиной и женщиной, которые связаны бесчестными поступками, связаны «общей грязью», как говорят в народе, и напоминают двух каторжников, прикованных к одному ядру и готовых растерзать друг друга.
Мало-помалу яростное волнение, искажавшее лицо любовницы Карсонака, утихло. Теперь оно выражало лукавую кротость. Бросившись на диван, она удобно вытянулась на спине и, утонув в подушках, сказала, поводя глазами, что придавало ее затуманенному взгляду какую-то особую прелесть:
— Но, видите ли, козочки, всякий раз, как он навязывает мне нового любовника для успеха своих коммерческих предприятий, я мщу… мщу тем, что беру еще одного — для себя… еще одного — на мой вкус, тут уж на мой собственный вкус.
— О да, какого-нибудь молоденького офицерика, — вздохнула, икая, толстуха Брюхатая, позабывшая в эту минуту о своем муже и вообще о замужестве. — Такие мужчины очаровательны… у них всегда найдешь бисквиты, шоколад, вышитые туфли и халат с хлястиком на спине.
— Как можно говорить об офицерах! — с глубоким презрением возразила сестра Жюльетты. — Они годятся для маленьких девочек, которые еще засушивают в книгах листочки, сорванные в долинах альпийских гор. Нет, офицеры слишком наивны… им не хватает порока!
И этот ужасный профессор скептицизма, эта женщина, еще молодая, с голубыми глазами и золотистыми, как спелая рожь, волосами, начала приводить циничные, жестокие, гнусные подробности, с радостью оплевывая своими розовыми губками все то, чего влюбленные даже и не видят в любви, если любят по-настоящему.
— Сударыня, какой-то господин с польской фамилией, — крупье из Монако!
— Так вот, на этот раз — «брысь в Италию и в Польшу»!
— И потом переписчик молитв только что передал для вас, сударыня, этот маленький сверток.
— А, это те молитвы, которыми я особенно дорожу… молитвы из моих толстых книг. Теперь я смогу взять их с собой на воды, — с некоторым смущением проговорила любовница Карсонака, пряча сверток.
— Вот оно что! — пропела своим тонким насмешливым голоском Лилетта, шаловливо указывая пальцем на потолок. — Ты, стало быть, еще веришь в того старика, который там, наверху?
— Ах ты, дрянцо! — вскричала Щедрая Душа, бросаясь на нее и словно собираясь ударить. — Какова бы я ни была, но я запрещаю тебе отпускать в моем доме подобные шутки, негодяйка ты эдакая!.. Теперь ты не получишь старого бархатного платья, которое я тебе обещала.
Отчаянно громкий звонок зазвенел в прихожей.
— Боже милостивый! Пресвятая дева! Сегодня, видно, конца им не будет, этим гостям! — с отчаянием вскричала Растрепа, решившись наконец пойти открыть.
— Этот звонок я знаю: так звонит моя сестра в дни своих душевных бурь, — прошептала Щедрая Душа, по-видимому, немного струсив.
Почти тотчас же на пороге появилась Фостен в необычайно изысканном черном туалете. Посмотрев на трех женщин, она поздоровалась с ними, можно сказать, только движением век и просто сказала сестре:
— Я за тобой.
С приходом Фостен в обществе воцарилось неловкое молчание, и не отличавшаяся робостью Щедрая Душа, как бы укрощенная повелительной краткостью сестры, сейчас же начала снимать с вешалки свою шляпу растерянными жестами актера из пантомимы.
Фостен облокотилась на камин и рассеянно протянула ботинок к остывшему очагу.
— Ах, тетя, это мой любимый корсаж — корсаж от мадам Гродесс! — сказал проснувшийся малыш. — Скажи, скажи, тетя, что ты надела его для меня… твой блестящий жилет.
Он свесил с дивана головку, и глаза его, которые сейчас ярко блестели, восторженно любовались шикарным видом тетки.
Фостен не ответила племяннику.
— Мне что-то пить хочется, — вдруг сказала она.
— Хочешь шампанского? — крикнула ей сестра из туалетной комнаты.
— Нет.
— Так чего же ты хочешь?
Взгляд Фостен обежал откупоренные бутылки, потом бессознательно перенесся к окну, выходившему на набережную Межиссери, и там на чем-то остановился. Она подошла к столу, выбрала из груды разнокалиберных рюмок всех эпох венецианский бокал с молочно-белыми спиральными линиями и сказала служанке:
— Видишь там внизу человека? Пойди и возьми у него стакан лакричной водки, принесешь мне прямо в карету.
— Ну вот и я! Господи благослови! — вскричала Щедрая Душа, употребляя выражение, которым актриса обычно заменяет слова «я готова», выходя на сцену.
И Фостен вместе с сестрой направилась к двери.
— Так ты едешь завтра со мной? — спросила Жозефина, удерживая Щедрую Душу за рукав, когда та проходила мимо.
— Завтра никак не могу, дорогая, — хоронят старого режиссера… Для приличия и мне придется сделать вид, будто я приехала помолиться за эту старую клячу!
Произведения
Критика