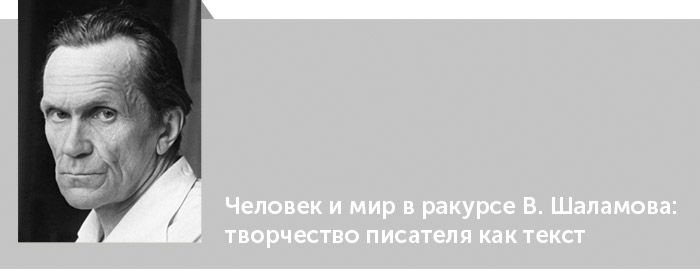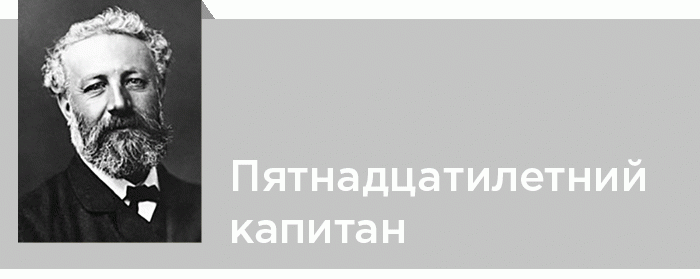Братья Гонкуры. Жермини Ласерте

(Отрывок)
I
— Вы поправитесь, барышня, теперь вы непременно поправитесь! — захлопнув дверь за врачом, радостно воскликнула служанка и бросилась к постели, где лежала ее госпожа. Вне себя от счастья, она начала осыпать градом поцелуев одеяло, под которым жалкое, исхудалое тело старухи, такое маленькое в огромной кровати, казалось телом ребенка.
Старуха, сжав ладонями голову служанки, молча притянула ее к груди, потом вздохнула и прошептала:
— Что ж… Видно, придется еще пожить…
В окно маленькой спальни, где происходила эта сцена, был виден клочок неба, на котором рисовались силуэты трех черных железных труб, зигзаги крыш и вдали, в просвете между двумя домами, очертания обнаженной ветки невидимого дерева.
На каминной доске стояли в четырехугольном футляре красного дерева часы с большим циферблатом, с крупными цифрами и тяжелыми гирями. Рядом с ними поблескивали под стеклянным колпаком два подсвечника, — на каждом из них три посеребренных лебедя обвивали длинными шеями позолоченный колчан. Возле камина протягивало свои праздные теперь подлокотники вольтеровское кресло, покрытое тканью, вышитой по канве крестиком, — так обычно вышивают лишь маленькие девочки и старые женщины. На стенах висели два небольших пейзажа в стиле Бертена, нарисованные акварелью цветы — под ними была поставлена красными чернилами дата — и несколько миниатюр. Ампирный комод красного дерева украшала черная бронзовая статуэтка, изображавшая бегущее Время с протянутой вперед косой; статуэтка служила подставкой маленьким часам с бриллиантовыми цифрами, с голубым эмалевым циферблатом и ободком из жемчужин. По паркету протянулся ковер с черно-зеленым узором в виде языков пламени. Старинные ситцевые занавески на окне и кровати были шоколадного цвета, с красными разводами. Над изголовьем больной склонялся портрет, который, казалось, буравил ее взглядом. Жесткое лицо мужчины на этом портрете было оттенено высоким воротником зеленого атласного костюма и мягким муслиновым платком, свободно и небрежно повязанным вокруг головы по моде первых лет Революции. Мужчина, нарисованный на портрете, и старуха, лежавшая в постели, были очень похожи друг на друга: те же черные, густые, властно нахмуренные брови, тот же орлиный нос, те же четкие линии, выражавшие волю, решимость, энергию. Лицо портрета отражалось в ее лице, как лицо отца отражается в лице дочери. Но у нее жесткость черт смягчалась лучом суровой доброты, пламенем беспредельной верности долгу и по-мужски сдержанного человеколюбия.
В комнату проникал послеполуденный свет весеннего дня, — одного из тех дней ранней весны, сверкающих хрусталем и белизной серебра, холодных, целомудренных и кротких, которые угасают на розовом закате, окруженные бледным ореолом. Небеса струили сияние новой жизни, такой же пленительно печальной, как еще не одетая земля, и до того нежной, что само счастье не удержалось бы от слез.
— Ну, на что это похоже? Моя дуреха Жермини плачет! — после короткого молчания сказала старуха, отнимая руки, увлажненные поцелуями служанки.
— Дорогая барышня, мне хотелось бы всегда так плакать! До того хорошо!.. Вспомнилась моя бедная матушка… и все остальное… Если бы вы только знали!
— Ну, успокойся! — сказала больная и, приготовившись слушать, закрыла глаза. — Расскажи мне.
— Бедная матушка!.. — Служанка умолкла. Потом заговорила снова, и полился поток слов, рожденных просветленными слезами, словно в эту минуту волнения и рвущейся наружу радости детство еще раз прихлынуло к ее сердцу. — Такая несчастная! Я до сих пор вижу, как она в последний раз вышла из дому… чтобы отвести меня к обедне… Помню, это было двадцать первого января… В то время читали завещание короля. Сколько я принесла ей горя! Ей было уже сорок два года, когда я родилась. Она все глаза себе выплакала из-за отца… Детей, не считая меня, было трое, и хлеба не хватало. А отец к тому же был таким гордецом… В доме хоть шаром покати, но чтобы пойти попросить помощи у кюре — ни за что! Сало мы ели только по большим праздникам. И все равно, матушка только сильнее любила меня из-за этого и всегда старалась сунуть мне кусочек сыра или еще что-нибудь… Когда она умерла, мне и пяти лет не было… Как это нас всех подкосило! У меня был взрослый брат, — лицом белый, как полотно, а борода желтая… И такой добрый!.. Вы даже и представить себе не можете! Его все любили и каких только имен ему не давали! Одни почему-то называли его Бодой, другие — Иисусом Христом. Вот был работник! Здоровье у него было никудышное, но чуть свет он уже стоял у станка. Я забыла сказать, ведь мы — ткачи… И дотемна не расставался с челноком. А какой честный, если бы вы знали! Ему отовсюду приносили пряжу и никогда не взвешивали. Он очень дружил со школьным учителем и всегда был заводилой на карнавале. Отец был совсем другой: вдруг возьмется за работу, часок поработает, — и всё… потом уходил в поле… а когда возвращался — бил нас… больно бил… Он был как сумасшедший. Говорили, это потому, что он — чахоточный. Счастье еще, что брат заступался. Он не позволял средней сестре таскать меня за волосы, обижать… она ревновала ко мне. Он всегда вел меня за руку, когда водил смотреть, как играют в кегли. На нем держался весь дом. Перед моим первым причастием он прямо из кожи лез, работал не покладая рук, чтобы у меня платье было не хуже, чем у других… белое, с гофрировкой… и сумочка в руках. Такая уж тогда была мода! Чепчика у меня не было. Помню, я себе сплела очень красивый венок из ленточек и белой сердцевины тростника… У нас его сколько угодно в тех местах, где мочат пеньку. Таких счастливых дней у меня было немного… Вот еще когда резали свиней на рождество… и когда я помогала подвязывать виноградные лозы… Знаете, их всегда подвязывают в июне. У нас был свой маленький виноградник на холме Сент-Илер. Однажды мы пережили очень тяжелый год… Вы помните, барышня? Тысяча восемьсот двадцать восьмой, когда все побило градом до самого Дижона и даже еще дальше. Мы ели хлеб из отрубей. Брат тогда работал без сна и отдыха. Отец пропадал в поле и приносил нам иногда шампиньоны. Все равно нужда была страшная… мы почти всегда хотели есть, Я, бывало, уйду в поле и, если кругом никого нет, подберусь к какой-нибудь корове, сниму сабо и дою… Но уж тут надо было держать ухо востро, чтобы не попасться! Старшая сестра жила тогда в услужении у мэра Ланкло и посылала домой восемьдесят франков — весь свой заработок… немного, но все же помощь! Вторая шила у богатых господ… Тогда платили меньше, чем теперь: восемь су в день за работу с шести утра и до поздней ночи. К тому же сестра откладывала себе на платье ко дню святого Реми. У нас многие так: едят полгода по две картошки в день, чтобы сшить себе обнову к этому празднику. Несчастья прямо сыпались на нас… Отец умер. Пришлось продать и нашу полоску пашни, и виноградник, — земли там было на одну поденку, а все ж таки он давал нам по бочке вина в год. Стряпчие тоже обошлись недешево. Когда брат заболел, мы поили его не настоящим вином, а отжимками, в которые все время подливали воду… И не было белья на смену: все материнские простыни из шкафа с золотым крестом наверху мы продали… и крест тоже… А заболел брат так: раз он пошел на праздник в Клемон… и услышал, как кто-то рассказывает, будто сестра согрешила с мэром, у которого работала. Он бросился на тех, кто это болтал… Сам он был слабосильный… а они здоровенные… Повалили его и, когда он упал, давай пинать под ложечку… Домой его принесли замертво… Врач, правда, поставил его на ноги и сказал нам, что он здоров… Но брат так и не поправился. Когда он меня целовал, я всякий раз думала: не жилец он на свете. Он умер. Младший Баллар еле-еле оттащил меня от его тела. Хоронили брата всей деревней, даже мэр пришел. Старшей сестре пришлось уйти от этого мэра, потому что он к ней приставал, и она уехала в Париж. Средняя сестра тоже уехала вслед за ней. Я осталась совсем одна. Родственница моей матери забрала меня к себе в Дамблен… но я никак не могла привыкнуть там, плакала ночи напролет и все время норовила потихоньку убежать домой. Стоило мне свернуть на нашу улицу и увидеть старую виноградную лозу у двери, как я просто голову теряла… ноги сами несли меня… Добрые люди, которые купили наш дом, не выгоняли меня, дожидались, чтобы за мной пришли: все уже знали, куда я убегаю. Наконец написали сестре в Париж, что если она не заберет меня к себе, то, надо думать, до седых волос я не доживу… Я и вправду была восковая. Раз в месяц из Лангра в Париж ходила маленькая почтовая карета, и кучеру поручили присмотреть за мной. Так я и попала в Париж… Было мне тогда четырнадцать лет. Помню, всю дорогу я не раздевалась, потому что на ночь меня устраивали в общей комнате. Я совсем завшивела, пока доехала…
Как печальна, как горька, как одинока была эта жизнь со стариком, угрюмым, озлобленным, который был любезен только в обществе, а дома непрерывно ворчал и бранился, который по вечерам оставлял ее одну, а сом отправлялся в гости к знакомым, снова открывшим двери своих домов в период Директории и в первые годы Империи. Свою дочь он вывозил очень редко, а если вывозил, то обязательно в Водевиль, где у него была ложа. И как боялась девушка этих выездов в театр! Она находилась в постоянном страхе, хорошо зная неукротимый прав отца, высокомерный тон, сохранившийся у него со времен монархии, легкость, с которой он поднимал палку на дерзкую чернь. Почти не было случая, чтобы он не набросился на контролера, не вступил в перебранку со зрителями из партера, не начал грозить им кулаками. Чтобы прекратить эти сцены, дочери приходилось поспешно опускать решетку ложи. Все это продолжалось и на улице, даже в фиакре, когда кучер не желал везти за цену, предложенную г-ном де Варандейлем и не трогался с места час, два часа, а иногда, потеряв терпение, просто отпрягал лошадь и оставлял седоков в карете, где дочь тщетно умоляла отца сдаться и заплатить.
Считая, что для Семпронии этих развлечений вполне достаточно, стремясь иметь ее полностью в своем распоряжении и всегда под рукой, г-н де Варандейль отгородил дочь от всего мира. Он не брал ее с собой ни к кому из знакомых, даже к родне, вернувшейся из эмиграции, и появлялся вместе с нею только на официальных приемах и празднествах, когда собиралась вся семья. Он не выпускал ее из дому, и лишь когда ей исполнилось сорок лет, счел достаточно великовозрастной, чтобы выходить на улицу без сопровождения. Поэтому у молодой девушки не было ни одной подруги, ни единой родной души, которая могла бы ее поддержать; с ней не было даже ее младшего брата, — он уехал в Соединенные Штаты Америки и там поступил на службу во флот.
Отец, не допускавший мысли о том, что она выйдет замуж и покинет его, обрек ее на безбрачие: как только вдали начинала маячить возможность замужества для Семпронии, г-н де Варандейль заранее находил жениха неподходящим и отвергал в таком тоне, который должен был раз и навсегда отбить у дочери охоту говорить о сватовстве, если бы оно стало чем-то реальным.
Между тем, одержав победу в Италии, французы начали вывозить оттуда все, что могли. Творения величайших мастеров, украшавшие Рим, Флоренцию, Венецию, скапливались в Париже. В моде было только итальянское искусство. Коллекционеры гнались лишь за произведениями итальянской школы. Г-н де Варандейль вообразил, что это повальное увлечение сулит ему возможность разбогатеть. Ему был не чужд тот утонченный, артистический дилетантизм, который был так распространен среди дореволюционной знати. Он любил живопись, много бывал в обществе художников и собирателей редкостей. Ему пришло в голову составить коллекцию итальянских мастеров, а потом ее перепродать. В Париже все еще происходили распродажи — целиком и по частям — коллекций, принадлежавших тем, кто погиб во время Террора. В ту пору очень бойко шли большие полотна, и г-н де Варандейль начал рыскать по городу, на каждом шагу что-нибудь находил, каждый день что-нибудь покупал. Вскоре маленькая квартирка была так загромождена, что не осталось места для мебели; огромные старинные потемневшие полотна в тяжелых рамах не помещались на стенах. Все это были якобы подлинные Рафаэли, Винчи, Андреа дель Сарто, шедевры, перед которыми отец заставлял дочь простаивать часами, навязывая ей свои вкусы, утомляя восторгами. Он нагромождал эпитеты, сам себя подстегивал, нес чепуху и под конец начинал вести торг с воображаемым покупателем, заламывая цены и выкрикивая: «Мой Россо стоит сто тысяч ливров! Да, сударь, сто тысяч ливров!» Семпрония, в ужасе от того, что необходимые в хозяйстве деньги уходят на эти громадные отвратительные картины, изображавшие громадных отвратительных и совершенно голых мужчин, пыталась увещевать отца и предотвратить разорение. Г-н де Варандейль приходил в ярость, разыгрывал из себя человека, возмущенного полным отсутствием вкуса у родной дочери, твердил, что они наживут на этом целое состояние, и тогда она увидит, глупец он или нет. В конце концов она уговорила его объявить распродажу. Результатом была катастрофа, одно из самых страшных крушений иллюзий, какие когда-либо видели стены и стеклянный потолок зала в особняке Бюльои. Г-н де Варандейль был глубоко унижен и взбешен поражением, которое не просто ударило по карману, пробив брешь в более чем скромном состоянии, но и нанесло удар по его самолюбию знатока, развенчало его знания, развенчав пресловутых рафаэлей. Он заявил дочери, что теперь они слишком бедны для жизни в Париже и поэтому должны поселиться в провинции. Воспитанная в духе времени и не склонная к сельской жизни, мадемуазель де Варандейль тщетно пыталась отговорить отца от этого решения: ей пришлось последовать за ним, покинуть Париж, потеряв таким образом общество и дружбу двух юных родственниц, которые, в часы редких встреч, выслушивали ее полупризнания и, как она чувствовала, всем сердцем тянулись к ней, словно к старшей сестре.
Господин де Варандейль снял домик в Лиль-Адане. Там, вблизи от двух-трех замков, куда уже начали возвращаться их владельцы, его давнишние знакомые, он острее ощущал прошлое, дышал воздухом былой жизни при маленьком дворе графа д'Артуа. Кроме того, на этой родовой земле дома Конти поселились после Революции крупные буржуа, разбогатевшие коммерсанты. Имя г-на де Варандейля внушало почтение этому мирку. Ему низко кланялись, его наперебой приглашали в гости и почтительно, даже благоговейно, слушали рассказы о прежних временах. Заласканный, осыпанный знаками внимания и лестью, этот обломок Версаля был главой и украшением общества. Когда он обедал у г-жи Мютель, бывшей булочницы, обладательницы ренты в сорок миллионов ливров, хозяйка дома вставала из-за стола и, в шелковом платье, шествовала на кухню, чтобы приготовить салат из козельцов: г-н де Варандейль считал, что никто не готовит это блюдо так вкусно, как она. Но не ради этого приятного времяпрепровождения решил г-н де Варандейль уехать из Парижа: у него зародилась некая идея, и ему нужен был досуг, чтобы воплотить ее в жизнь. То, чего он не смог совершить во славу и честь итальянского искусства с помощью коллекции картин, он решил совершить, призвав на помощь историю. От своей жены он немного научился итальянскому языку и теперь захотел во что бы то ни стало подарить французскому читателю «Жизнеописания живописцев» Вазари, перевести эту книгу на французский язык, — разумеется, с помощью дочери; та, будучи еще малюткой, слышала, как ее мать говорила со своей горничной по-итальянски, и запомнила несколько слов. Он принудил молодую девушку с головой погрузиться в Вазари, заполнил ее время и мысли грамматиками, словарями, комментариями, учеными трудами, посвященными итальянскому искусству, заставил целые дни корпеть над неблагодарной работой, изнывать и мучиться над переводом непонятных слов. Весь труд лег на ее плечи. Дав ей задание и оставив наедине с томами в белых переплетах из телячьей кожи, он уходил гулять, делал визиты соседям, играл в карты с владельцами замков или обедал у какого-нибудь знакомого буржуа, которому высокопарно жаловался на то, сколь непомерной затраты сил и здоровья стоит ему предпринятый им перевод. Потом он возвращался, слушал переведенный кусок, делал замечания, критиковал, переставлял слова во фразе так, что получалась бессмыслица, которую дочь исправляла сразу же после его ухода, а сам снова шел гулять или в гости, чувствуя, что имеет право на отдых после трудового дня. Обутый в изящные башмаки, держа шляпу под мышкой, он шествовал, гордясь выправкой, наслаждаясь собой, небом, деревьями, богом Жан-Жака Руссо, благоволящим к природе и растениям. По временам им овладевали вспышки нетерпения, свойственные старикам и детям: он хотел, чтобы к следующему дню было сделано столько-то страниц, и заставлял дочь до глубокой ночи засиживаться над переводом.
На эту работу ушло несколько лет, и глаза Семпронии были окончательно погублены. Она жила, заживо погребенная под книгами Вазари, еще более одинокая, чем прежде, из врожденной высокомерной брезгливости чуждавшаяся лиль-аданских обывательниц с их замашками в стиле мадам Анго и слишком плохо одетая, чтобы посещать обитателей замков. Любое удовольствие, любое развлечение было отравлено для нее чудачествами и придирками отца. Он вытаптывал цветы, которые она потихоньку сажала в садике: он хотел, чтобы там росли только овощи, и сам за ними ухаживал, развивая при этом глубокомысленные теории о пользе овощеводства, приводя доказательства, которые были бы уместны и в устах членов Конвента, требующих распахать сады Тюильри под картофель. Единственной радостью Семпронии была возможность время от времени, с согласия отца, приглашать к себе одну из двух своих молоденьких подруг. Эта неделя была бы раем для нее, если б веселье, развлечения, праздники не были отравлены вечным ожиданием какой-нибудь причуды со стороны отца, взрывами его дурного настроения, ссорами, возникавшими из-за пустяков: из-за флакона духов для спальни подруги, из-за какой-нибудь закуски к обеду, из-за прогулки, которую она хотела совершить со своей гостьей.
В Лиль-Адане г-н де Варандейль нанял служанку, которая почти сразу стала его любовницей. От этой связи родился ребенок. У г-на де Варандейля, легкомысленного до цинизма, хватило бесстыдства воспитывать его тут же, на глазах у дочери. Постепенно служанка начала чувствовать себя хозяйкой в доме. Кончилось тем, что она стала помыкать и главой семьи, и его дочерью. Однажды г-н де Варандейль пожелал, чтобы она села вместе с ним за стол, а Семпрония прислуживала им обоим. Это было уж слишком. Мадемуазель де Варандейль не снесла оскорбления, восстала и высказала все свое негодование. Под влиянием одиночества, страданий, жестокости людей и обстоятельств у молодой девушки медленно, незаметно выработался прямой и твердый характер. Слезы не размягчили ее душу, а закалили. Под дочерней смиренной покорностью, под беспрекословным послушанием, под видимостью кротости скрывались непреклонный нрав, мужская воля, сердце, чуждое слабости и нерешительности. В ответ на унизительное требование она показала себя истинной дочерью своего отца, припомнила всю свою жизнь, в потоке слов излила весь горький стыд своего существования и заявила, что если эта женщина в тот же вечер не покинет их дома, то уйдет она, Семпрония, и что, слава богу, отец привил ей такие простые вкусы, при которых не страшна никакая нужда. Отец, испуганный и ошеломленный неожиданным бунтом, рассчитал служанку, но затаил против дочери злобу за то, что она вынудила его пойти на жертву. Эта враждебность выражалась в едких словах, яростных выпадах, иронической благодарности, горьких улыбках. Вместо того чтобы мстить старику, Семпрония лишь нежнее, мягче, терпеливее ухаживала за ним. Ее преданность подверглась еще одному испытанию: г-на де Варандейля разбил апоплексический удар. У него отнялась рука, он тянул ногу, разум его померк, осталось лишь сознание своего несчастья и зависимости от дочери. И тогда всплыло на поверхность и обнаружилось все дурное, что прежде таилось в глубине его души. Эгоизм старика перешел всякие границы. Страдания и слабость превратили его в злобного безумца. Все дни и все ночи мадемуазель де Варандейль посвящала больному, которого, казалось, приводили в негодование ее заботы, унижала ее любовь, говорившая о душевном благородстве и всепрощении, мучило вечное присутствие у его кровати этой неутомимой и предупредительной женщины, олицетворявшей долг. Какую она вела жизнь! Нужно было рассеивать неизлечимую хандру этого жалкого человека, непрерывно развлекать его, прогуливаться с ним, весь день внушать ему бодрость. Когда он сидел дома, нужно было играть с ним в карты, следя за тем, чтобы он не слишком проигрывал и не слишком выигрывал. Нужно было воевать с его капризами, с его обжорством, отнимать у него еду и в качестве благодарности выслушивать попреки, жалобы, оскорбления, терпеть слезы, приступы отчаянья и ярости, свойственные вспыльчивым детям и бессильным старикам. И длилось это десять лет! Десять лет, в течение которых у мадемуазель де Варандейль не было иной утехи, иного развлечения, кроме встреч со своей родственницей и подругой, только что вышедшей замуж, на которую она изливала всю свою нежность, всю горячую материнскую привязанность. Семпрония называла ее «курочкой». Единственной радостью старой девы были недолгие и нечастые — раз в две недели — посещения счастливой четы. Она целовала миловидного ребенка, уже засыпавшего в колыбели, торопливо обедала, посылала за каретой во время десерта и поспешно убегала, словно школьница, опаздывающая на урок. Но в последние годы жизни г-на де Варандейля Семпронии пришлось отказаться и от этих обедов: старик запретил ей надолго отлучаться из дому и заставлял почти все время сидеть возле своей постели, беспрестанно повторяя, что понимает, как скучно ухаживать за немощным, но что скоро он ее освободит. Он умер в 1818 году и, прощаясь перед смертью с дочерью, в течение сорока лет преданно служившей ему, не нашел ничего лучшего, чем сказать ей: «Я знаю, ты никогда меня не любила».
За два года до смерти г-на де Варандейля из Америки вернулся брат Семпронии. Он привез с собой цветную жену, которая спасла его, ухаживая за ним, когда он болел желтой лихорадкой, и двух уже больших девочек, прижитых им с этой женщиной еще до женитьбы на ней. Хотя мадемуазель де Варандейль придерживалась старорежимных взглядов на негров и ставила немногим выше обезьяны свою цветную невестку — невежественную, говорившую на ломаном французском языке, бессмысленно смеявшуюся и пачкавшую своей жирной кожей белье, — все же ей удалось победить ужас и отвращение отца и вырвать у него позволение на встречи с женой брата. Ей даже удалось склонить старика в последние дни его жизни к знакомству со снохой. Когда отец умер, мадемуазель де Варандейль подумала о том, что на свете не осталось никого, кто был бы ей ближе этой семьи.
Господин де Варандейль, которому после возвращения Бурбонов граф д'Артуа выплатил жалованье за все годы Революции, оставил своим детям ренту в десять тысяч ливров. До получения наследства брат мадемуазель де Варандейль перебивался на пенсию в тысячу пятьсот франков, назначенную ему морским министерством Соединенных Штатов Америки. Семпрония сочла, что ренты в пять — шесть тысяч ливров недостаточно для благополучной жизни семьи, в которой подрастают двое детей, и тут же решила отдать брату свою часть наследства. Это предложение она сделала необычайно просто и чистосердечно. Брат согласился, и она поселилась вместе со всей семьей в удобной квартирке на улице Клиши, тогда еще неполностью застроенной. Квартира находилась на пятом этаже одного из первых домов этой улицы, куда ветер, весело гуляя в белых остовах неоконченных зданий, доносил дыхание полей. Мадемуазель де Варандейль продолжала вести там самый скромный образ жизни, носила дешевые платья, во всем себе отказывала, довольствовалась худшей комнатой и тратила на себя не больше тысячи восьмисот — двух тысяч франков. Но постепенно в мулатке начала закипать глухая ревность. Ее злила дружба брата и сестры, отнимавшая, как ей казалось, у нее мужа. Она страдала от общности их языка, мыслей, воспоминаний, страдала от бесконечных разговоров, в которых не могла принять участия, от слов, которые слышала и не понимала. Сознание того, что ей не подняться до их уровня, разжигало в ее сердце такой яростный гнев, какой бушует только в тропиках. Избрав орудием мести своих дочерей, она настраивала их, восстанавливала, вооружала против золовки, подстрекала насмехаться над нею, дразнить ее, радовалась злобным проказам детей, у которых наблюдательность всегда идет об руку с жестокостью. Почувствовав полную безнаказанность, дети начали издеваться над смешными повадками тетки, над ее внешностью, над ее носом, над убожеством платьев — тем самым убожеством, благодаря которому они были так нарядно одеты. При поддержке и попустительстве матери девчонки очень быстро обнаглели. Вспыльчивость мадемуазель де Варандейль равнялась доброте. Ее рука, в той же мере, как и сердце, подчинялась первому порыву. Притом она вполне разделяла взгляды своих современников на воспитание. Три дерзкие выходки она снесла молча, а на четвертую ответила тем, что схватила насмешницу, задрала ей юбку и, несмотря на ее двенадцать лет, отшлепала так, как той никогда и не снилось. Мулатка подняла крик, заявила, что золовка всегда ненавидела ее девочек, готова была их убить. Брату Семпронии, вмешавшемуся в эту сцену, кое-как удалось помирить обеих женщин. Но ссоры продолжались, и девчонки, пылая гневом на ту, из-за которой проливала слезы их мать, начали мучить тетку с изобретательностью балованных детей и свирепостью маленьких дикарок. После нескольких попыток к примирению стало ясно, что им нужно расстаться. Мадемуазель де Варандейль решила уехать от брата: она видела, как он страдает, как разрывается между самыми дорогими ему существами. Она его отдала жене и детям. Эта разлука причинила ей мучительную боль. Она, такая сдержанная, так владевшая своими чувствами и так горделиво переносившая страдания, чуть не поддалась слабости в ту минуту, когда покидала квартиру, где надеялась обрести хоть немного счастья, живя рядом со счастьем близких ей людей: ее глаза в последний раз наполнились слезами.
Мадемуазель де Варандейль поселилась неподалеку, чтобы не терять брата из виду, ухаживать за ним в дни болезни, встречать его на улице. Но в сердце и в жизни у нее образовалась пустота. После смерти отца она возобновила знакомство с родственниками и, сблизившись с ними, принимала у себя тех, кому Реставрация вернула влияние и могущество, ходила в гости к тем, кого новая власть оставила в тени и бедности. Но особенно часто она встречалась со своей дорогой «курочкой» и еще одной дальней родственницей, ставшей по мужу невесткой «курочки». Когда эти отношения укрепились, жизнь мадемуазель де Варандейль потекла по раз навсегда заведенному порядку. Она никогда не появлялась на больших приемах, вечерах, спектаклях. Нужен был потрясающий успех Рашели, чтобы вытащить мадемуазель де Варандейль в театр, да и то ей вполне хватило двух раз. Она не принимала приглашений на званые обеды, но было несколько домов, куда она приходила, как к «курочке», запросто, и только в те дни, когда там не было посторонних. «Милочка, — говорила она без всяких церемоний, — вы с мужем свободны сегодня? Тогда я останусь у вас обедать». Ровно в восемь вечера она уходила. Если хозяин дома брался за шляпу, чтобы проводить ее, она останавливала его словами: «Полно, дорогой мой! Кто польстится на такую старую клячу? Мужчины на улице шарахаются от меня!..» Потом она исчезала — на десять дней, на две недели. Но если случалась беда, горе, кто-то умирал, заболевал ребенок — мадемуазель де Варандейль неведомо откуда узнавала об этом. Она прибегала в любой час, в любую погоду, давала такой продолжительный и своеобразный звонок, что все сразу говорили: «Это звонок кузины», — ставила, не теряя времени, в угол свой зонтик, с которым не расставалась и летом, снимала галоши, бросала на стул шляпу и целиком отдавала себя в распоряжение тех, кто в ней нуждался. Она выслушивала, говорила, вселяла мужество своим воинственным голосом, своей речью, энергичной, как боевое поощрение, и бодрящей, как сердечные капли. Если оказывалось, что нездоров малыш, она шла прямо к его кроватке, смехом разгоняла страх, тормошила родителей, выходила из комнаты, вновь входила, отдавала распоряжения, все решала, ставила пиявки, делала припарки, возвращала надежду и радость, не давая никому ни минуты передышки. Эта старая дева, точно ангел-хранитель, внезапно появлялась у своей родни в часы печали, грусти, невзгод. Она приходила лишь тогда, когда ее руки должны были кого-нибудь исцелить, преданность — утешить. Так великодушно было ее сердце, что она сама как бы перестала существовать, перестала принадлежать себе, словно бог создал ее только для того, чтобы она помогала другим. Ее неизменное черное платье, с которым она не желала расстаться, ветхая перекрашенная шаль, смешная шляпка — все это убожество давало ей возможность, несмотря на более чем скромные средства, быть щедрой на благодеяния, расточительной на милостыню, достаточно богатой, чтобы дать бедняку — не денег, нет, она боялась кабака, — а хлеба на четыре ливра, которые сама платила булочнику. Одеваясь, как нищая, она могла позволить себе свою главную роскошь: осыпать подарками, сластями, неожиданными удовольствиями детишек своих приятельниц и видеть радость на ребячьих лицах. Например, сынишка подруги мадемуазель де Варандейль, оставленный летом на целое воскресенье в пансионе (его матери пришлось в этот день отлучиться из Парижа), нашалил от огорчениями был наказан. К его великому удивлению, ровно в девять утра во двор влетела мадемуазель, на ходу застегивая платье, — в такой спешке она выскочила из дому. В каком он был отчаянии, увидев ее! «Кузина, — жалобно сказал он, приходя в то состояние неистовства, когда дети готовы одновременно и разреветься, и убить учителишку, — я наказан… мне никуда нельзя идти…» — «Как это, никуда нельзя идти? Вот еще новости! Уж не вздумал ли твой воспитатель посмеяться надо мной? Сейчас я поговорю с этим болваном. А ты пока одевайся. PI побыстрее». Не успел мальчик до конца поверить, что эта плохо одетая дама сможет добиться отмены наказания, как кто-то схватил его за руку: кузина потащила его, ошалевшего, потерявшего голову от радости, втолкнула в карету и повезла в Булонский лес. Целый день она катала его на ослике, подгоняя животное сломанной веткой и криками: «Но! Пошел!» Потом, после вкусного обеда у Борна, отвела мальчишку обратно в пансион и, целуя его у ворот, сунула в руку целое состояние — монету в сто су.
Удивительная старая дева! Вся многострадальная жизнь мадемуазель де Варандейль, нужда, вечные болезни, долгие телесные и душевные муки словно отделили ее от жизни и вознесли над повседневностью. Воспитание, события, которые она видела, катастрофы, которые пережила, Революция — все это научило ее пренебрежению к человеческой слабости. Старуха с немощной плотью, она поднялась до высот невозмутимой мудрости, до мужественного, надменного, даже насмешливого стоицизма. Начав слишком яростно восставать против какой-нибудь своей особенно мучительной болезни, она вдруг спохватывалась и клеймила себя гневным язвительным словечком, от которого сразу прояснялось ее лицо. Она была полна весельем, идущим из глубокого, неиссякаемого источника, — весельем, свойственным людям, которых ничто не может отвратить от исполнения долга, весельем старых солдат или старых больничных сиделок. Тем не менее ее необычайная доброта была лишена одного дара — дара прощения. К этому она так и не смогла принудить свою несгибаемую натуру. Темное пятно, дурной поступок, пустяк, задевший за живое, ранили ее навсегда. Она не умела забывать. Ни время, ни даже смерть не разоружали ее памяти.
В бога она не верила. Она родилась в эпоху, когда женщины обходились без бога, выросла в годы, когда не было церквей. Девушкой она не знала, что такое обедня. Никто не привил ей ни привычки к религии, ни потребности в ней. К священникам мадемуазель де Варандейль питала гадливую ненависть, вызванную, по-видимому, какой-то семейной историей, о которой она никому не рассказывала. Силу духа и милосердие она черпала не в благочестии, а в горделивом сознании того, что совесть ее чиста: она считала, что человек, который себя уважает, не может сбиться с пути и совершить проступок. Она пережила две эпохи — монархию и Революцию, и обе они создали ее, странным образом смешавшись в ней и поочередно наложив на нее свой отпечаток. После того как десятого августа Людовик XVI не решился вскочить в седло, она потеряла уважение к королям, но чернь она тоже презирала. Она была сторонницей равенства, однако не выносила выскочек, была республиканкой и в то же время аристократкой. Скептицизм уживался в ней с предрассудками, ужас перед пережитым в 1793 году — со смутными и благородными идеалами человечества, впитанными ею с младых ногтей.
Внешность у мадемуазель де Варандейль была мужеподобная. Говорила она отрывисто, прямо, резко, как любили говорить старухи в XVIII веке; при этом выговор у нее был простонародный, а манера выражаться — особенная, свойственная лишь ей одной, красочная и залихватская, не признающая недомолвок, называющая вещи своими именами.
Между тем прошли годы, увлекшие за собой сперва Реставрацию, потом монархию Луи-Филиппа. Вся семья мадемуазель де Варандейль, все, кого она любила, один за другим отправились на кладбище. Одиночество окружило ее, и она не переставала горестно удивляться тому, что позабыта смертью, хотя уже приготовилась к ней, хотя все ее помыслы были направлены к могиле, хотя ей некого было любить на свете, кроме малышей, которых приводили к ней сыновья и дочери ее умерших подруг. Брат мадемуазель де Варандейль умер. Ее дорогая «курочка» тоже сошла в могилу. В живых осталась только невестка «курочки», но и она угасала, готовая отлететь в другой мир. Потрясенная смертью ребенка, родившегося после многих лет напрасного ожидания, несчастная женщина умирала от чахотки. В течение четырех лет мадемуазель де Варандейль ежедневно просиживала у нее с полудня до шести вечера. Она, можно сказать, жила все это время у больной, вдыхая спертый воздух спальни, влажный от постоянных ингаляций. Ничто не могло ее остановить, — ни подагра, ни простуды. Ее время и сама жизнь принадлежали этому кротко погибающему существу, все желания которого были устремлены к небу, куда улетают умершие дети. И когда мадемуазель де Варандейль, в последний раз прощаясь с подругой, поцеловала на кладбище гроб, ей почудилось, что вокруг нее никого не осталось, что она — одна на земле,
С этого дня она покорилась недугам, ибо ей уже незачем было с ними бороться, и начала жить той замкнутой, уединенной жизнью, какой обычно живут старики, которые наступают на одни и те же половицы, не выходят из дому, ничего не читают, потому что глаза их устают от напряжения, и часами неподвижно сидят в кресле, воскрешая прошлое и вновь его переживая. Мадемуазель де Варандейль могла целыми днями не менять позы и думать, глядя в пространство широко раскрытыми, отсутствующими глазами, отделившись от самой себя, от своей спальни, от своей квартиры, витая там, куда ее влекла память, где ее ждали исчезнувшие лица, поблекшие пейзажи, смутные облики дорогих людей. Когда Жермини видела, что ее хозяйка погружена в такую торжественно-дремотную думу, она почтительно говорила: «Барышня опять раздумалась».
Все же раз в неделю мадемуазель де Варандейль выходила из дому. Именно из-за этих прогулок, из-за близости к месту, куда она еженедельно отправлялась, старая дева покинула свою прежнюю квартиру на улице Тэбу и переехала на улицу Лаваль. Здоровая или больная, но раз в неделю она шла на кладбище Монмартр, где покоились ее отец, ее брат, женщины, которых она оплакивала, все, кто уже отстрадал, У нее был почти античный культ мертвых и смерти. Могилы были для нее священны, близки и дороги. Мадемуазель де Варандейль любила землю, в которой спали вечным сном ее близкие, любила за то, что эта земля возвращала надежду на освобождение и готова была принять ее бренные останки. Она выходила из дому рано утром, опираясь на служанку, которая несла складной стул. Возле самого кладбища она заглядывала к продавщице венков, которая уже много лет знала мадемуазель де Варандейль и зимой отдавала ей свою ножную грелку. Там она несколько минут отдыхала, затем, нагрузив Жермини венками из бессмертников, входила в кладбищенские ворота, сворачивала в аллею налево от большого кедра и, от могилы к могиле, медленно совершала свое паломничество. Она отбрасывала увядшие цветы, сгребала сухие листья, подвязывала венки, садилась на складной стул, смотрела, думала, кончиком зонтика рассеянно очищая от мха плоский камень надгробья. Потом вставала, оглядывалась, словно прощаясь с могилой, которую покидала, шла дальше, снова останавливалась и опять вела тихий разговор с той частицей своего сердца, которая спала под надгробной плитой. Обойдя всех дорогих ей покойников, она медленно возвращалась домой, отгородившись благоговейным молчанием и словно страшась заговорить.
Произведения
Критика