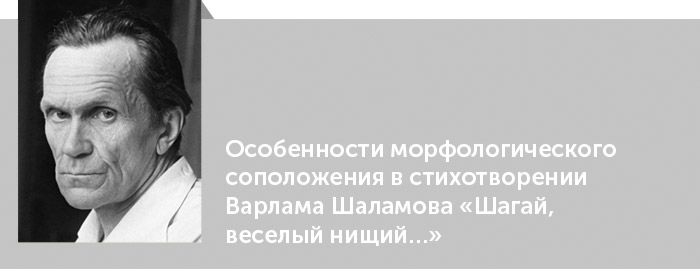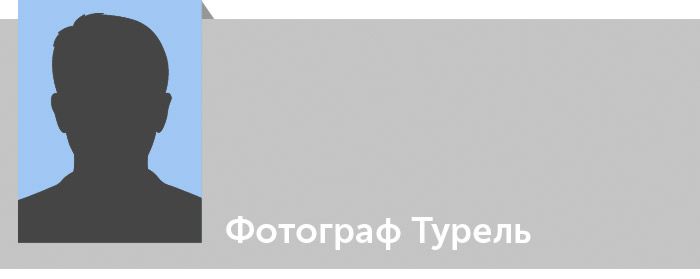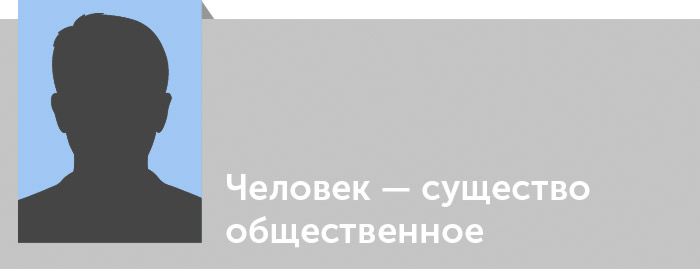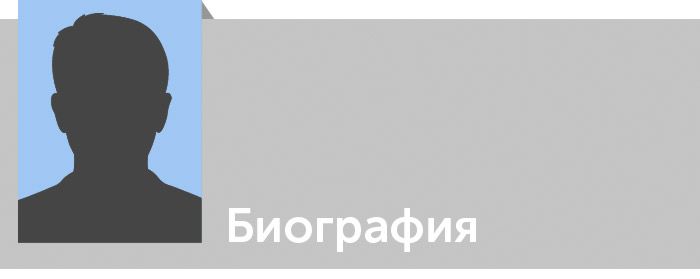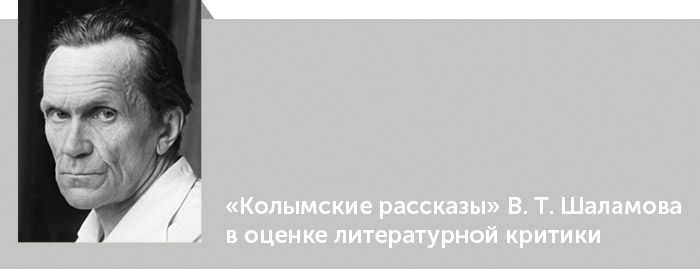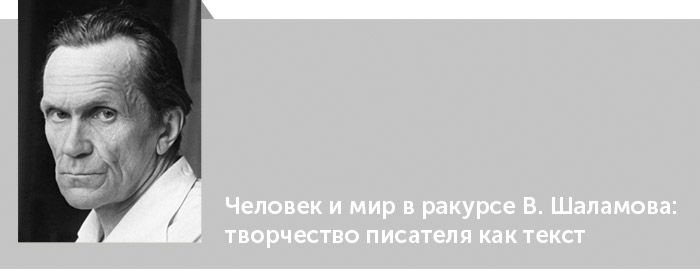Отто Фридрих Вальтер. Немой
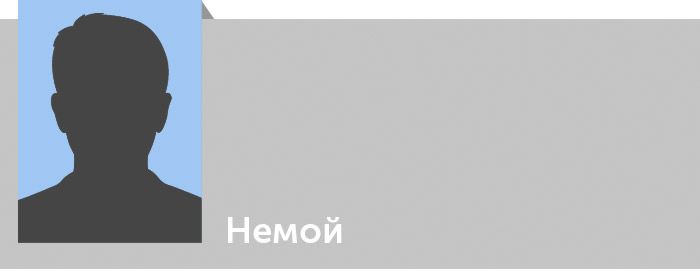
Два романа известного швейцарского писателя Отто Фридриха Вальтера. Первый роман — о немом юноше Лотаре и о человеческой драме, разыгравшейся в швейцарском кантоне Золотурн. Второй — о похождениях фотографа авантюриста Каспара Туреля. Острый сюжет и психологическая достоверность этих произведений служат раскрытию социальной проблематики и разоблачению современного буржуазного мифа об обществе «всеобщего благоденствия» в таких «благополучных» европейских странах, как Швеция, Швейцария и т. п.
1974
Немой
По слухам, к этому делу причастна третья строительная бригада в составе двенадцати человек, а еще две женщины, мальчик, собака, канистра с бензином и молодой разнорабочий, немой. Но это лишь слухи. Точно известно одно: 21 октября, на дорожно-строительном участке в лесу у перевала Фарис (округ Морнек), километрах в девятнадцати от города Мизера (кантон Золотурн), был убит человек.
Первая ночь
Никто не знал даже и о том, что в бригаде будет новенький. Не знали еще в день его прибытия, в тот четверг утром; ни одна душа не знала, кроме разве Кальмана; Кальману несколько дней назад попалась на глаза какая-то официальная бумажка, но он, вероятно, успел о ней позабыть, — и уж во всяком случае, никто не знал, что за птица этот новенький и откуда он взялся.
Сразу же, как отъехали, еще пока новенький продвигался от заднего борта грузовика к кабине, ветер сорвал с него шапку. Он обернулся и проводил ее взглядом. Потом снова двинулся вперед и потом все время сидел почти неподвижно на свернутом канате, укрывшись от ветра за кабиной; то ли спал, то ли смотрел вокруг — на ленту свежеасфальтированной дороги, непрерывно текущую, тускло поблескивая, из-под заднего борта грузовика и только далеко-далеко внизу становящуюся неподвижной и твердой; на лес по обе стороны дороги — буро-красные буки, дубы и немного клена, и кое-где ели и пихты, а чем дальше — тем больше елей, и сосны, сгибаемые ветром; потом пошли участки, пока еще не заасфальтированные, а только засыпанные щебнем, и все лес да лес, и над ними мчащиеся на северо-восток тучи, а потом повороты и повороты, чередующиеся с прямыми участками, где машина шла прямо по гравию, и опять все лес да лес, — а он сидел, и смотрел, и ждал, и удивлялся, как, однако, далеко ехать.
Потом машина остановилась. Водитель высунулся из окна и крикнул новенькому, чтобы тот захватил вещи. «Вон барак», — показал он вниз, между стволов. Новенький слез. В воздухе ухало, ветер гнал унылую морось над головой, над кабиной и над окруженным деревьями бараком, и вроде бы хлопало на ветру знамя, или, во всяком случае, кусок плотной ткани. Новенький поднял глаза на шофера. Тот знаком велел ему спускаться. Он понял. Медленно, с рюкзаком в одной руке и маленьким, обвязанным веревкой чемоданчиком в другой он спустился по ступенькам — очень молодой, почти еще мальчик, лет семнадцати, не больше — и направился к бараку, остановился, снова поднял глаза на шофера — «да, да», кивнул тот — и тогда он вошел. Он оказался в тамбуре. Тут было темно. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Но ведь его ждет шофер. Он опустил вещи на пол возле маленького окошка, а когда выпрямился и повернулся к двери, сразу увидел мотоцикл. То есть увидел пустые мешки, а из-под них выглядывало чуть вывернутое колесо. Довольно большой кусок шины, а за ним холодно поблескивали в полутьме несколько спиц.
Он остановился. Позже он ни за что не сумел бы сказать — даже если бы не был немым, — почему он остановился и стал смотреть на шину и спицы, не сказал бы, долго ли стоял, и что при этом происходило у него в голове, но, как бы там ни было, прошло немало времени, прежде чем он подошел ближе, снова остановился, увидел очертания руля и седла, неопределенно вырисовывающиеся под пустыми мешками, медленно стащил один мешок.
«Мотоцикл, — подумал он, — его мотоцикл». Он снял еще один мешок. «Да, это он», — подумал он, подумал медленно, и его при этом не бросило в жар, ему только сжало горло, и потом он почувствовал — начинается что-то необыкновенно важное для него, и сумасшедший страх, а может, и сумасшедшая надежда рождается в нем при виде этого мотоцикла. «Черт побери», — подумал он потом, понимая, что думать так нехорошо, но все же подумал, ибо не знал других слов, которые бы придали ему мужества и твердости. «Черт побери, — подумал он медленно, несколько раз подряд, — неужели напал на след?» Он всегда был убежден, что где-то этот след существует, и всегда, как ему сейчас пришло в голову, искал его, с самого начала, с того мгновения, которое носил в себе всегда. Он приблизился еще на шаг. Снял еще один пустой мешок и увидел широкий бензобак и за ним — черное седло, а позади седла справа и слева два багажника, а на самом бензобаке косые буквы NSU-405. Ему не пришло в голову, что это всего лишь очень похожая машина, может, просто машина той же старой модели, — со свойственным ему безошибочным чутьем на все, что касалось того прежнего времени, он узнал мотоцикл, который так часто видел тогда и на заднем сиденье которого так часто сидел: и у него все тот же номер, и все то же пятно с ладонь величиной справа, на предохранительном щитке под лампой, — тут облупилась краска. «Ты что, ночевать там собрался?» — крикнул шофер.
Слышно было, как ветер разгуливает по крыше. Он поспешно прикрыл машину мешками. Тормозные цепи новые, подумал он, и патрубок ему пришлось сменить, и купить новые рукоятки, зато все остальное… Он вышел.
— Дверь! — рявкнул водитель.
Он вернулся и закрыл дверь. Сейчас мы поедем туда, наверх, мелькнуло у него в голове, когда он поднимался по откосу. Отсюда была видна строительная площадка, на мгновение до него донеслось тарахтенье моторов. Пневматические буры. Он снова перелез через задний борт, снова сел на свернутый канат, и машина медленно двинулась дальше; дрожь кабины отдавалась у него в спине.
«Он там, наверху. Вот сейчас я его увижу», — думал он. Правда, он не был уверен, что узнает его, и от одной мысли о нем появился тот старый страх, он горячей волной хлынул из груди в глотку, и губы зашевелились беззвучно, как если бы вдруг к нему вернулась способность шептать: он ощутил, как они горят, потому что не могут шептать, а лишь беззвучно шевелятся, и язык тоже, страх внезапно овладел им, и вся храбрость, все мужество, которые он за целую жизнь накопил для этого мгновения, исчезли; только одно чувство, прежнее чувство ужаса перед этим человеком там, наверху, переполняло его. Он ушел от дяди, из дядиного гаража, прошел пешком всю дорогу до Мизера, и один Бенни, может быть, знал, куда он идет, но Бенни никому не сказал об этом. Он знал, что когда-нибудь найдет его, он был у той женщины, у женщины со светлой кожей и волосами, как темный ветер, и она сказала: «Он на какой-то стройке… Он заходил разок, ненадолго, поспрашивай, поищи, уж как-нибудь да найдешь. Человек ведь не иголка», — и она тихо рассмеялась. И он ушел, но не находил его нигде, и начал искать NSU-405 перед трактирами и на задворках, по ту сторону реки, внизу, в Мизере, неподалеку от строительных площадок и на фабричных автостоянках. Ночью он просыпался, потому что смутно видел это лицо, и он боролся со сном, он хотел быть начеку, не спать, когда за дверью раздастся пьяный голос, не проспать этот случай, быть всегда начеку, всегда готовым.
Он все продумал. Как он подойдет к нему и каким-нибудь образом спросит его, а может, даже пригрозит; ему было тогда одиннадцать или четырнадцать, он был немой, но отнюдь не робкого десятка, он был тогда маленький, но храбрости у него хватало; и вот он сидит и знает, что мгновение, которого он ждал всю жизнь, теперь уже неотвратимо, потому что грузовик подъезжает к строительной площадке; справа показались рельсы и шпалы узкоколейки, громко тарахтят моторы, вот экскаватор, вот люди, на которых он не решается взглянуть, и грузовик останавливается.
Он ждал. Они говорили: «Привет, Самуэль», и в голове у него промелькнуло, что, стало быть, человека, который привез его сюда, в горы, зовут Самуэлем. Потом они подошли поближе. Сквозь шум ветра слышно было, как человек по имени Самуэль раздает письма и газеты. Задний борт со скрежетом опустился. «Вылезай», — крикнул кто-то. Он сошел вниз. Самуэль стоял рядом. Самуэль приложил руку ко рту и крикнул: «Кальман!» Тогда подошел и Кальман; по крайней мере немой предполагал, что тот высокий человек, который подошел к ним и спросил: «А почему он без шапки?» — был Кальман.
Самуэль протянул Кальману сложенный листок. Это была та самая бумага, которую, как вспомнил новенький, вчера вечером написал служащий конторы строительного управления. Он не хотел озираться по сторонам и потому пристально смотрел на листок. Интересно, там ли он, в той группке рабочих, которые стоят и курят у кабины? Он не отрывал глаз от листка. Он видел, как листок в руках у Кальмана намокает от мороси, а потом — как треплет его ветер, когда Кальман развернул его и начал читать. Новенький знал, что там написано. То самое, о чем спрашивал его служащий строительной конторы. Он словно бы увидел перед собой того человека, — как он поднимает глаза и задает какой-то вопрос, а потом снова начинает быстро стучать на машинке, переписывая из его удостоверения: «Ферро Лотар, 17.2.1941, разнорабочий, холост, Мизер (кантон Золотурн), расстройство речи, 68 в неделю». Потом он посмотрел на штаны Лота, дырявый свитер, старую, потертую куртку, которую он донашивал после Пауля. «У нас дают спецодежду», — сказал он. Это и был комбинезон, который сейчас на нем, старый коричневый комбинезон, он ему почти в самый раз; напоследок служащий дал ему и шапку, но ее уже больше нет.
Кальман дочитал. Положил бумагу в карман. Судя по его виду, он теперь думает, будто знает все. Но он ошибается. Он даже не знает главного — как случилось, что Лот не может говорить. И не знает, зачем он явился сюда, с этой неистовой и малообоснованной надеждой, что все изменится. И не знает, почему он внезапно вновь ощутил страх, когда двинулся вслед за Кальманом вдоль борта этого громадного грузовика, — возможно, потому, что все здесь такое чужое, и потому, что сейчас он встретится с отцом, или просто потому, что где-то так неистово хлопает на ветру знамя, или что там это такое, а может быть, потому, что деревья кругом — словно злые чудища, гигантские, вставшие на дыбы звери, которые тяжко бьют косматыми лапами по тучам; и там, впереди, эта чужая стройка: дорожная стройка, прогрызшая широкую лесную просеку, покрытая мусором взрывов, вырванными из земли корневищами, щебенкой и огромными, желтоватыми осколками известняка, неподвижными, тяжелыми и словно полными решимости никому не выдавать тайны, которые им известны; или это страх перед тем, что рабочие, к которым он сейчас подходит вместе с Кальманом, будут над ним смеяться, — ведь они наверняка не представляют, что значит быть немым и каково это, когда можешь лишь издать хриплый нечленораздельный звук. Он не поднимает глаз.
Он видит глинистую почву, лужицы в колечках от дождя, ручейки, прорывшие себе путь среди комьев земли. И вдруг ботинки, тяжелые, заляпанные грязью; четыре, пять, семь пар или еще больше, расположенные неправильным полукругом; отвороты черных и коричневых брюк, забрызганных грязью, грубо залатанных или незалатанных, а потом руки, спецовки, широкие плечи, и он почувствовал — тот, кого он ищет здесь, среди этих людей, — четвертый. И, еще не успев посмотреть на него, он вдруг совершенно точно вспомнил его лицо. Он почти забыл его и все эти годы безуспешно пытался его себе представить. Большая голова, толстая шея. Красное лицо, карие водянистые глаза, мешки под глазами, черные кустистые брови, широкий нос, толстые губы — все это в течение секунды отчетливо представилось ему именно таким, каким было тогда, той ночью, в прихожей у них дома — таким же страшным; и вместе с лицом — громкий, изрыгающий проклятия голос, заполнивший скудно освещенную прихожую; даже лицо матери, искаженное ужасом, вынырнуло за ним… Но вот уже они говорят ему «Привет!», и он пожимает руки, не глядя, быстро, одну за другой, и у него нет уже в голове никаких мыслей, перед ним только лица — пришлось все-таки на них поднять глаза. Лица мелькают одно за другим, и то лицо среди них — лицо человека, который тогда был его отцом, а может, даже и сейчас его отец; скользнув по нему взглядом, он быстро переходит к следующему. К нему медленно возвращается способность думать: «Он меня не узнал, он меня — нет, так много лет прошло, может, он даже не знает, что я немой, он меня не узнал…» Он все думает и думает об этом, медленно и неуклонно, хотя другие — они над ним не смеялись — уже снова отвернулись и заговорили между собой. Он все думал об этом, когда один из них хлопнул его по плечу, и что-то сказал, и посмотрел на него. Он кивнул, потому что не понял, и продолжал думать об этом, и не слышал, что тот сказал, и как Кальман крикнул, стараясь перекричать ветер: «Ферро, пусть работает у тебя», — нет, он не слышал даже, когда Кальман, подойдя к нему, сказал: «Во взрывную команду. К Ферро». Он думал об этом и все стоял, думал об этом и смотрел вслед другим, расходившимся по своим местам. А потом вдруг подумал: «Он изменился. Он старый. У него щетина на лице. Седая щетина. Морщины. Он маленького роста. Гораздо меньше, чем я думал. Он изменился. Он старый».
Потом он увидел, как отец поманил его. Кальман громко сказал Самуэлю: «Он однофамилец старого Ферро». — «Ну и что», — сказал Самуэль. Это Лот услышал и увидел, как Самуэль поднимается на подножку, влезает в кабину и захлопывает дверцу. Когда он вновь повернул голову, отец опять поманил его или все еще манил. И Лот услышал — он уже промок до нитки от этой мороси, — как Самуэль крикнул из кабины: «Ферро, он не глухой. Он немой».
Филиппис (взрывник)
Одного из рабочих не было, когда прибыл Немой. Минут десять назад он покинул площадку и углубился в лес. Он нес на плече кирку, заступ и лопату и волочил за собой довольно тяжелый мешок. Он остановился среди деревьев метрах в шестидесяти от площадки, положил мешок, прислонил кирку и лопату к стволу бука, на глазок прикинул величину ямы, которую должен был здесь выкопать, потом шесть раз подряд всадил заступ, отмечая длину, и четыре, отмечая ширину, нарезал куски дерна, вынул их с прилипшей к ним мокрой листвой и аккуратно положил возле ямы. Он ничего не знал о новеньком; он начал копать не спеша, с хмурым видом, он был стройный, пожалуй, даже хрупкий, с узким лицом, его темные волосы выбивались из-под капюшона; только случайно заметив что-то движущееся между деревьев, ом перестал копать и выпрямился. Этот человек был Филиппис.
Это был младший из двух братьев, Джино, и, возможно, Джино, ты еще не забыл, как все было в тот четверг. Помнишь, ты выпрямился, и когда новенький спустился к тебе, ты даже и не знал, что это новенький. Просто пришел парень, которого ты прежде никогда не видал. На плече он нес лопату. Невысокий широкоплечий паренек, большеголовый, а уж уши — porca miseria! [1] А приглядишься — лицо широкое, крупное, волосы прилипли ко лбу, совсем еще мальчишка, чудной какой-то, подошел, остановился возле мешка, посмотрел на яму, на тебя, на мешок, снова на тебя, потом приблизился еще на два шага и протянул тебе руку.
Ты спросил: «Новенький? Тебя Ферро прислал?» Но он только кивнул и после того, как вы довольно долго смотрели друг на друга, начал тыкать лопатой в дерн. В верхушках деревьев ухал ветер.
— Погоди, — сказал ты. — Шире не надо. Надо глубже. Начинай вот здесь. — Тогда он перешел вперед, в яме трудно было поместиться вдвоем, приходилось копать почти вплотную друг к другу.
— Он тебе рассказал?
Возможно, ты спросил слишком тихо, да и ветер выл как сумасшедший там, наверху, во всяком случае, новенький не прореагировал, он рьяно всаживал лопату в землю и даже не поднял глаз. Пахло мокрыми листьями, совсем не так, как на стройплощадке — разогретым бурами камнем, по́том и шеддитом, и компрессором, который все время будто подхлестывает, — нет, только мокрыми листьями, мокрой черной землей, и от этого запаха подкашивались колени.
Тогда ты сказал:
— Дерьмовая работенка, верно?
Он молчал, и только поднял на тебя эти свои печальные карие глаза, потом снова взялся за лопату. И снова лишь ветер ухает в верхушках деревьев, там, наверху, или, когда он ненадолго затихнет, пулеметные очереди пневматического молотка доносятся с площадки, сухие, быстрые, на два такта, отсюда похожие на далекий кашель.
Ты подумал о Шава́. На эту работу надо бы Шава послать, а не тебя, и вообще Шава всегда отлынивает; а ведь сейчас он сам же и виноват. Когда уходили в укрытие, он ведь знал, что собака привязана. Вот Ферро его бы и послал, а он всегда посылает самого младшего. А ты тут вообще ни при чем. И нечего было тебя припутывать, пусть даже речь всего лишь о том, чтоб вырыть могилу для собаки в лесу, метрах в шестидесяти от стройки, могилу в лесу…
А вслух ты сказал:
— Вот до чего дожил — могилы копаю…
Высоко над нами деревья сцеплялись сучьями, чтобы вместе лучше противостоять ветру. Дерево терлось о дерево, и от этого в воздухе стоял непрестанный скрип. Он и сейчас был слышен. Только он и был слышен, он да еще вой ветра. Новенький по крайней мере молчал как рыба. Ну что ж, прекрасно. Нет так нет. Торопиться тебе было некуда. И хотя тебе было вовсе не по нутру зарывать эту собаку, ты отложил кирку и начал лопатой отгребать грязь, думая при этом: «Ах вот что, он, значит, из тех, кто не считает нужным перекинуться словом с товарищем. Ладно. Может быть, он еще разговорится. Подождем. Подождем, например, пока надо будет взрывать макушку, а уж когда дело дойдет до этого и Кальман пошлет наверх его, вот тогда у него рот наверняка сам собой раскроется».
Теперь новенький перестал копать. Наверное, туго соображает, только сейчас до него дошло. Он посмотрел на тебя, и тут произошло нечто странное, чего ты сам потом не мог понять; пожалуй, никогда прежде тебе с такой внезапной, порывистой, с такой невероятной силой и отчетливостью не вспоминалась равнина на родине, где стоял ваш дом, равнина, и сам дом, почти одновременно и снаружи и внутри, закопченная кухня, огонь в очаге и громкое сопение черных коров в хлеву, темные сени, стол, уставленный глиняными кружками, и снова огромная равнина, серебристые оливы, вся серебристо-серая жаркая равнина под солнцем, мать с мулом за домом, среди черных олив, все сразу и так отчетливо, что ты почувствовал запах можжевельника, тимьяна, высокой сухой травы, гудящую кузнечиками жару и в то же самое время звонкую прохладу колодца; металлический звук, если уронишь камень в колодезную глубь: сначала миг беззвучного падения, и потом, когда камень врезается в черное зеркало, — металлический звук, и все это в одно-единственное саднящее мгновение, пока новенький смотрел на тебя, теперь вопросительно и удивленно, потом он отвернулся, и все отступило, угасло, и снова тебя окружали деревья и уханье в воздухе. Морось, и этот новенький стоит и осматривается. Все. Конец. Новенький оглядел стволы, мокрые увядшие листья под ногами, молодую еловую поросль и кусты, а потом его взгляд упал на мешок рядом с толстым буком. Он воткнул лопату в дерн, подошел туда, остановился возле мешка. Посмотрел на яму, присел на корточки перед мешком и медленно стащил его. Тогда ты понял, что он представления не имеет о том, что произошло сегодня утром.
Пес лежал в точности так же, как вы нашли его там, наверху, среди мусора после взрыва: нераненый, по видимости, невредимый, даже шерсть не встала дыбом; он лежал на листьях, расслабившись, слегка согнув лапы и уютно уткнувшись мордой в подстилку из листьев, и, если бы не свисавший неподвижный язык, все еще оранжево-красный, всякий сказал бы, что эта красивая черная овчарка просто спит.
Новенький смотрел на нее, сидя на корточках. Провел рукой по ее меху, все еще блестящему, и хотя он вроде бы и не интересовался, как это произошло, а время уже близилось к обеду, ты сказал, кивнув головой:
— Да, все. Два часа назад это случилось. Только мы начали работу, ты закурил и новенькому дал сигарету, он молча взял ее и тоже закурил, — а тут откуда ни возьмись эта собака, вдруг она оказалась на площадке, и лаяла, и носилась как угорелая, путалась у всех под ногами. Мы пробовали ее прогнать. Черт ее знает, чья она. Кальман думает, она из Эрленхофа, это там, возле перевала. Но ее было никак не прогнать, она все лаяла и мешала нам, и тогда, — продолжал ты, — Ферро велел одному из нас, Шава, привязать ее к кусту, наверху, на склоне. Пусть себе там тявкает и смотрит, как мы бурим шпуры для взрывчатки прямо под ней.
Новенький встал. Он смотрел не на тебя, а на собаку, которую он снова прикрыл мешком, и потому невозможно было понять, слушает он или нет. Лицо у него было замкнутое. Ты продолжал:
— По сигналу все ушли в укрытие. До этого мы, то есть я, Ферро, Кальман и Шава, подожгли шнуры, каждый по два, ты знаешь, как это делается: надо, чтоб все они загорались друг за другом через короткие промежутки, и когда мы их уже подожгли, тут кто-то из стоящих на дороге кричит: «Стой!» — и показывает на собаку. Но мы не обращаем внимания и думаем, что собака уж как-нибудь да освободится, когда приспичит, или кто-нибудь быстро вскарабкается на склон и отвяжет ее. Но когда мы уже были в укрытии, всех взяло сомнение. И тут поднялся крик, Кальман орал на Ферро, потому что ведь это Ферро послал Шава, и в конце концов Ферро отвечает за то, чтобы при взрыве соблюдались все правила. Он слишком рано подал сигнал уходить в укрытие.
Но Ферро, — продолжал ты, Джино Филиппис, — Ферро, когда трубил в рожок, подавая сигнал, даже и не мог видеть собаку с того места, где он стоял. Во всяком случае, он тогда хотел выскочить из укрытия и побежать, да, кажется, он еще и не совсем протрезвился. Он было и выскочил, но Кальман стащил его вниз. И тут они здорово поругались, а потом вдруг утихомирились.
Все мы сдвинули со лба шлемы и наблюдали из укрытия за собакой. Она тихо сидела у своего куста. Только дергала мордой, как будто принюхивалась, видно, почуяла этот сладковатый, острый запах. Знаешь, когда горит шнур. А может, услыхала, как в скале под ней что-то потрескивает. Мы увидели, что собака забеспокоилась. А потом она вдруг улеглась, и мы подумали: вот сейчас, сейчас все взлетит на воздух, но похоже было, что собака устраивается поспать. Ты знаешь, что значит восемь тяжелых двойных зарядов: если их как следует пригнать и заложить и они одновременно взорвутся, то на воздух взлетает добрый кусок скалы, и трава уже там больше не вырастает. А когда мы снова двинулись дальше и дым рассеялся, мы увидели собаку на том же месте. Похоже было, что она спит, только теперь ее окружали глыбы известняка, и вырванные из земли корни, и щебенка. Ферро велел мне как можно скорее закопать собаку здесь, внизу. А то, мол, еще будут неприятности.
И ты, Филиппис, еще повторил недовольно: «Как можно скорее», а потом сказал новенькому, чтоб тащил сюда собаку, и вы положили ее в яму, — теперь она была достаточно глубока, — а сверху положили мешок и землю, мокрый черный лесной перегной, и мокрые листья, а под конец еще утоптали землю ногами.
— Теперь ей, по крайней мере, спокойно. Так или нет? — сказал ты.
Под дождем постепенно и ты вымок до нитки. А новенький как воды в рот набрал. Ну и пусть себе молчит, если ему так нравится, главное, что наконец-то можно будет поесть горячего супу в бараке. И вот ты шагаешь с лопатой, киркой и заступом на плече, вверх по лесистому склону, новенький — за тобой, дождь все идет, и только сейчас, на ходу, стало заметно, как похолодало.
Вторая ночь
«Должно же здесь найтись какое-нибудь местечко», — думал Лот.
— Держи, — сказал Кальман. Он протянул ему через стол защитный шлем, — хоть от дождя у тебя будет защита.
Лот взял. Да, подумал он, хоть от дождя.
— Твой размер? — спросил Кальман. Теперь и остальные посмотрели на него через стол. Их лица блестели в белом свете карбидной лампы. Он надел шлем.
— Немой, — сказал Брайтенштайн, — учись у Борера, у него защитным шлемом служит голова. Так что шлем ему как раз по размеру. — Они засмеялись.
— Порядок, — сказал Кальман.
Лот встал и направился к своей койке. Она была третья от конца. Он повесил шлем на гвоздь над ней. Потом он медленно прошел вдоль стола, за которым они сидели, и вышел за дверь. Он еще слышал, как они сдавали карты для первой партии. Должно же здесь быть какое-нибудь местечко, где человек может побыть один. Но есть еще только маленький барак-кухня; она, насколько известно Лоту, находится метров на тридцать ниже по склону, и в ней обитает человек по имени Керер, который готовит еду; а если его там нет, тогда барак, наверное, заперт. Кроме того, есть еще грузовик. Он стоит возле кухонного барака, но Лот не решился бы влезть в кабину. И больше нет ничего, кроме этого большого жилого барака; в длинной комнате все они сидят за столом и пьют, и играют в карты, а здесь, в тамбуре, стоит мотоцикл, здесь Лоту оставаться тоже не хотелось.
Ветер не давал ему открыть дверь.
— Ты куда? — раздался в это мгновение чей-то голос; он чуть было не столкнулся в дверях с отцом. — Осторожней, Немой.
Дверь за ним закрылась.
Сначала надо было немного привыкнуть к темноте. Прижимаясь к стене барака, он осторожно двинулся от двери. Но, как ни жался он к стене, ветер все равно заливал ему за шиворот потоки воды. Он медленно брел дальше, миновал первое окно. Ставни были закрыты. Заперты изнутри. Миновал второе, затем третье окно, темно было — хоть глаз выколи; дойдя до угла, он свернул и еще три шага прошел ощупью вдоль барака. Там уж он остановился, прислонился к стене. В верхнем кармане рубахи должны быть сигареты, купленные накануне вечером в Мизере. Он вытащил их. Закуривая отсыревшую сигарету, по спокойному пламени спички увидел, что здесь он и вправду укрыт от дождя и ветра. Он глубоко затянулся и попробовал выпустить дым одновременно изо рта и из ноздрей. Так делал Самуэль. Но дым попал ему в горло, он закашлялся. «Осторожней», — подумал он, ему не хотелось, чтобы они вышли, заинтересовавшись, кто это кашляет за стеной. Он осторожно попробовал еще раз. Но снова закашлялся, еще мучительнее, слезы выступили у него на глазах, и тогда он загасил огонек о стену, сунул длинный окурок обратно в пачку, а пачку — в карман и постоял, прижавшись спиной и затылком к стене. Он вглядывался в шелестящую тьму. Вслушивался в то, как ветер и дождь буйствуют в полуоблетевшем лесу — в этот многоголосый посвист, дробный перестук тяжелых капель, скрип стволов и сучьев, трущихся друг о друга. Глухое бульканье в лужах, чуть различимое карканье запоздалых ворон, леденящее завывание то на высоких, то на низких нотах, глухой хохот, далекий собачий лай, пение угольщиков и цокот копыт убегающих коней, хлопанье крыльев в воздухе. Лисица. Зовы старинных рогов. Ночь. На небе ни звездочки, а если какая и светила вверху, сквозь кроны, и та погасла. В жизни еще он не видел такой черной-черной ночи. Недвижно стоял он с нею лицом к лицу. Он замерз, но не замечал этого. Он все слушал и слушал шумящую тьму, которая была перед ним.
А за ним была деревянная стена. А за деревянной стеной, он знал — отец. Он постоял еще немного, потом извлек из заднего кармана брюк старый, потрепанный кошелек. Осторожно расстегнул кнопку и сунул туда пальцы. Ключ. Он нащупал его среди нескольких монеток. Вынул, положил кошелек обратно, а ключик бережно сжал в кулаке. Медленно ощупывая кончиками пальцев его тонкие, четкие контуры, он словно бы отчетливо видел перед собой этот маленький старый ключик от зажигания, со всеми его зубчиками и углублениями, и крохотной дырочкой. И он подумал: «Это талисман, — и потом: — Я покажу ему ключ. Талисман. Он узнает его. Для этого не обязательно, чтобы я мог говорить. Говорить мне не понадобится ни единого слова».
Осторожно, чтобы не уронить ключик в грязь — и потерять недолго в этакой темнотище, — он поднес его на ладони к носу и понюхал. Почувствовал запах своей руки, и тонкий, сладковатый запах нагретого металла, который вдруг унес его далеко-далеко назад, в тесную комнатушку на чердаке, где он спал, или лежал без сна, или стоял, дрожа от ночного холода, у двери и прислушивался; и вернулось прошлое, и вот он снова едет с отцом: полукруг по маленькому дворику, вокруг дома, на улицу. У края тротуара отец останавливается, потом они срываются с места. Оглядываясь, он видит мать, она стоит у окна, но не машет им. Он поднимает руку, другой рукой он вцепился в отцовский пиджак, мотоцикл громко тарахтит под ними, потому что отец дает полный газ. Грохот, ветер в лицо, резкие силуэты котлов газового завода, мимо которых они проезжают. Он еще ниже наклоняется вперед и закрывает глаза, прижимаясь головой к отцовской спине, и хочет только одного — ехать и ехать вот так без конца. Он подсматривает из-под дрожащих ресниц за дорогой. Все еще маленькие домики, белые, серые, высокий решетчатый забор товарной станции и наконец-то туннель. Отец едет медленнее, мотоцикл накренился, они с грохотом проезжают под железнодорожной линией и снова выезжают на свет. Зной, пахнет асфальтом и мотоциклом, и когда они проезжают по мосту и катят между безмолвными незнакомыми домами, что-то гремит в больших чемоданах, между которыми он сидит. Отец сворачивает, и они едут мимо фабрик, улица все круче спускается вниз, снова река, Ааре, лениво текущая мимо, отец еще раз сворачивает между домов, и они останавливаются. Он помогает отцу отвязать черные чемоданы. «Подожди здесь», — говорит отец. «А долго?» — думает он, но не решается спросить и отвечает: «Хорошо». Он видит, как отец уходит; угластые черные чемоданы с товаром уходят вместе с ним, покачиваясь по обе стороны его брюк. Жаль, что отец не поставил мотоцикл внизу, у реки. У реки можно бы поиграть, там и корабли, проходящие мимо, и чайки, и утки, и камыши; там можно строить из камешков пристани для длинных барж из камыша, а может, он увидел бы лебедя или кулика. А здесь, в этом узком переулке, нет ничего, кроме закрытых ставней, и солнца, и ветра, который все гонял по мостовой два желтых обрывка бумаги, а потом вдруг оставил их в покое и улегся спать. И на той, другой улице, за углом, где исчез отец, тоже нет ничего интересного, разве только иногда проедет велосипед или автомобиль, доставляющий на дом товары, кабриолет или «додж». А заправочная станция, еле видная отсюда, слишком уж далеко. Кажется, там двое чинят огромную автоцистерну, но это и вправду очень далеко, наверное, километров семь, насколько он мог судить. Так что вообще нет смысла даже смотреть отсюда, что там происходит. Он вернулся к мотоциклу, потрогал тормоза и спицы переднего колеса. И даже не заметил, как пятеро велосипедистов, проехав по большой улице, резко свернули в переулок, затормозили, и один из них спросил:
— А ты что тут делаешь?
Он быстро поднялся. Они слезли с велосипедов, и он увидел, что они больше его, трое, наверное, уже в четвертом классе, в третьем-то уж наверняка, и он удивился тому, что у самого маленького, который, кажется, даже младше его, Лота, тоже есть свой велосипед. Они поставили велосипеды друг за другом и подошли ближе.
— Я жду, — сказал он.
— А это чей? — спросил один из них, второй по росту, мальчишка с бледным лицом.
— Наш, — сказал он. — Мой и моего отца.
— Хороший мотоцикл, — сказал самый маленький.
— Пауль, — сказал тот, с бледным лицом. Самый маленький тут же отвел взгляд в сторону.
— Где он? — спросил бледнолицый, и Лот увидел, как сузились у него глаза.
— Делает обход, — ответил он. — Там, в тех домах.
Он дошел до угла и показал им. Он был рад, что он больше не один.
Улица была пустынна. Она убегала вдаль, длинная и совершенно прямая, и далеко-далеко внизу, там, где дома становились маленькими и налезали друг на друга, резко сворачивала к реке. В это время отец вышел из какого-то дома. Он был еще довольно близко. Но их не видел. Он направился со своими чемоданами к следующему дому. Они смотрели ему вслед, и, когда он остановился и позвонил в дверь, бледнолицый спросил:
— Что он делает?
Лот повернулся к нему.
— Продает товар, — сказал он.
— Что-что?
— Продает товар.
— Что еще за товар? — спросил бледнолицый. Лицо его напоминало остренькую морду крота.
— Щетки, — сказал Лот. — Щетки и пуговицы, и зубную пасту, и зубные щетки, и отличную мастику для паркета, — сказал он им.
Отец снова появился на улице и что-то сказал, подняв голову к окну.
— Старик у него разносчик, — объяснил самый большой парень, до сих пор молчавший.
Большая светло-серая машина ехала по улице. Она сверкала на солнце, солнце теперь стояло прямо над головой и палило вовсю; машина выглядела удивительно новой, и бледнолицый сказал:
— Новый «мерседес».
Некоторое время все молчали. Отец между тем двинулся дальше. Снова позвонил.
— Торговать вразнос запрещается, — пробормотал самый большой парень, Лот затылком ощутил холодок его дыхания. Они засмеялись. Отец снова исчез в дверях со своими чемоданами. Еще никогда в жизни Лот не видел такой пустой улицы. Может, она вовсе не ведет к реке, подумал он, глядя вдаль, на пустынный тротуар, может, она ведет в Граубюнден, а может, даже вообще никуда не ведет, и за этим поворотом, там, далеко внизу, просто ничего нет. Ничего, кроме прямой, как стрела, улицы, и она никуда не ведет, и если поедешь по ней, то никуда не приедешь — ни в деревню, ни домой, ни к мосту, будешь ехать и ехать и не сможешь остановиться, так и будешь ехать никуда в слепящем солнечном свете…
Они все еще стояли у него за спиной, и он быстро повернулся к ним и сказал:
— А куда вы едете?
— Молчи, покуда не спрашивают, — ответил бледнолицый. — Пошли, — сказал он потом, и все двинулись вслед за ним снова к мотоциклу.
— Разносчик забыл ключ от зажигания, — сказал Пауль.
— Нет! — закричал Лот, увидев, что бледнолицый парень вытаскивает ключ.
Парень сунул ключ в карман.
— Пошли, — сказал он. — Пусть разносчики ходят пешком. Нечего им ездить.
И только теперь Лот понял, что произошло и что произойдет, если эти мальчишки сейчас уедут на своих велосипедах куда-нибудь, где их никогда и не найдешь, — только теперь, когда они взялись за рули своих велосипедов, один за другим оттолкнулись ногой от тротуара, вскочили в седло, развернулись в узком переулке и еще раз проехали мимо него — медленно, бледнолицый впереди, и Лот почувствовал, что они нипочем его не испугаются, как бы громко он ни закричал; медленно, один за другим проехали мимо него и все так же медленно поехали прочь по раскаленной солнцем улице. Он мог бы заплакать или броситься на них, стащить их с велосипедов и закричать так, чтобы они задрожали от страха или все-таки заплакать, но он только стоял и смотрел, как они уезжают, не оглядываясь, один за другим. «Разносчик», — стучало у него в голове, лицо его пылало. Быстрый, глухой стук в ушах становился все громче. «Разносчик», — думал он и смотрел на мотоцикл, пока пять велосипедистов сворачивали на главную улицу — последний был от него всего шагах в семи; он посмотрел на пустой замок зажигания и понял, что им с отцом придется идти пешком. Нет, подумал он, и перед его глазами на мгновение возникло разъяренное лицо отца, нет, и он сорвался с места, добежал до угла, увидел их, снова побежал, они оглянулись, засмеялись, и он побежал изо всех сил.
Они не прибавили скорости. И он сам удивился, когда вдруг догнал их. Он побежал медленнее. Бледнолицый, похожий на крота, немного отстал и подъехал к тротуару, и спросил, продолжая крутить педали:
— В чем дело, разносчик? Ты что, не знаешь, что здесь у нас торговля вразнос запрещена? Идите-ка домой, и ты и твой старик. — Он говорил все так же негромко, и Лот, который трусцой бежал рядом, сначала не мог произнести ни слова. «Вот эта дверь, — мелькнуло у него в голове, — кажется, в эту дверь он вошел, в этот дом», — и только когда самый большой мальчишка тоже оказался рядом с ним и спросил: «В чем дело, малявка?» — он выдохнул:
— Ключ.
— Ах вот что, ключ, — сказал бледнолицый, сделал разворот, вернулся и продолжал: — Вы что, потеряли ключ? Эй, — крикнул он, — никто не видел ихнего ключа?
— У-у! — закричал самый маленький, он был, наверное, еще меньше Лота, и все расхохотались.
— Вот, — сказал бледнолицый, — давай, разносчик, протрусись еще немножко, вот твой ключ, достань его, — и он протянул Лоту ключ на ладони, между тем как все они продолжали двигаться по улице, Лот трусцой, остальные на велосипедах. — Давай, — сказал он и поехал чуть быстрее, — давай, давай, покажи, на что ты способен.
На его лице была теперь остренькая усмешка. Вдруг он затормозил и поставил ногу на тротуар. Все остановились. И Лот тоже. Ключ полетел ему в лицо.
— На, держи, — сказал бледнолицый.
Усмешка исчезла. Ключ звякнул об асфальт. Лот задыхался. Он неотрывно смотрел на остренькое лицо, задыхался, не понимал и даже не успел еще почувствовать тонюсенькую боль, которая забилась в щеке под левым глазом, стук в ушах исчез, он стоял, смотрел в это лицо и думал: «Сейчас он будет драться со мной». И еще: «Я дам ему по его кротовьей морде, и пусть они потом изобьют меня все вместе, я дам ему за ключ, за отца, где же он, почему не приходит мне на помощь?» — он стал вдруг готов на все и только надеялся, что это быстро кончится.
— Скучный разносчик, — сказал бледнолицый остальным и при этом даже отвернулся от него — нет, он совсем не боялся, на него не произвело впечатления то, что Лот теперь готов на все.
— Скучный разносчик, — сказал мальчик по имени Пауль.
Теперь он понял.
Он неотрывно смотрел им вслед, а они поехали дальше, развернулись, промчались мимо в обратном направлении и исчезли, даже не взглянув на него; теперь их можно было принять за гонщиков, летящих к финишу — заправочной станции, где двое мужчин в белых кепках все еще возились с автоцистерной; но они промчались и мимо заправочной станции, — сплошная лента сверкающих колес и быстро движущихся ног, все дальше, все меньше, — и исчезли в переулке, где-то далеко вверху. Лот еще постоял, повернувшись боком к очень далекому, высокому солнцу, бросающему на улицу косые лучи. Щека начала гореть, будто солнце ударило по ней, каждую минуту из какой-нибудь двери мог появиться отец, и Лот нагнулся, поднял с земли сверкающий ключик и изо всех сил побежал обратно на свой угол, а добежав до мотоцикла, сунул ключ в зажигание; потом он стал ждать. До этого дня он не знал, что без ключа нельзя ехать; он знал про мотоцикл почти все, но что ключ необходим для езды, он не знал. «В следующий раз буду умнее», — думал он.
Он снова отошел к домам, в узенькую полоску тени; он вжался в тень, и граница, где солнце своим светом обрывало тень, проходила у носков его сандалий. Он посмотрел на них. Посмотрел на мотоцикл, черный и блестящий на солнце, и на закрытые окна напротив. Жара лениво стекала по переулку к реке, и Лот увидел, что теперь граница света и тени перерезает пополам его сандалии. Она медленно перемещалась. Жгла ему ноги. Он ждал. Она взбиралась по его ногам, он чувствовал, как припекает снизу. Жара ползла вверх, по голым коленкам, по бедрам, через пояс, добралась до груди и горла, и щек, и теперь он был словно в жару, ему жгло глаза, и вдруг он почувствовал, что жаркие капли бегут по его щекам, все вокруг мерцает, переливается, а неистовые, соленые капли остывают у него на губах…
И вот он едет. Крепко держится за отца и прижимается щекой к его теплой спине. Глаза его закрыты. Он знает, как выглядит мир. Но он ни на что не хочет глядеть. Только тихо сидеть, укрывшись от ветра за спиной отца, и знать, что они едут домой, и что бы там ни было — пусть солнце давно уже опустилось в свою постель из речных волн за приземистыми серыми домами, пусть вокруг расстилаются картофельные поля, пусть снова вырастают дома, а перед ними собаки, которые лаем провожают мотоцикл, и лошади у водопоя, и мальчишка, который крикнул им вслед что-то непонятное, пусть впереди железная дорога, а рядом с ней перешептываются телеграфные столбы, пусть олень с могучими рогами и два медведя сошли с придорожных щитов и трусцой бегут вслед за мотоциклом, и пусть там трубочист с лестницей, по которой он ночами забирается в комнаты, и бык, который в ярости гонится за ними, потому что не терпит красного цвета, и королева, и карлики, и паровой молот, и кроты, и деревья с лицами стариков, и паровозы, — что бы там ни было, он хочет только тихо сидеть и знать, что они едут домой, он — на заднем сиденье мотоцикла, а все кругом со свистом пролетает мимо, и он рад, что теперь, здесь, за спиной отца, никто ничего не может ему сделать…
Он едет… и вслушивается в звук, рождаемый ветром, дождем, ночью, деревьями. Теперь позади него послышались голоса. Они доносятся из барака через деревянную стену, у которой он все еще стоит, сжимая в кулаке старый, потускневший ключ. Но ничего нельзя разобрать. Слишком шумит ветер, ясно только, что говорят громко. Но неясно, веселятся в бараке или ссорятся.
Он вслушался. Но знакомого голоса не услышал. И снова подумал о ключе. Хорошо, что у него есть хотя бы ключ, пусть старый, пусть неизвестно, что будет потом; но он покажет ему ключ, обязательно покажет. Должен же он узнать хоть ключ, а по ключу — и его самого. Но теперь он понимал, что это будет нелегко, не так легко, как он всегда себе представлял. Он вслушался. Но слышен был только шум ночи, голоса смолкли; шум ночи, да еще хлопало на ветру полотнище, И больше ничего.
Шава (взрывник)
Ты ссутулился на верхнем конце стола, неподалеку от двери, перед тобой пустой стакан из-под пива, и ты смотрел, как съеживаются и сползают по стеклянным стенкам опавшие клочья пены. Медленно, лениво текли мысли, вспоминались обрывки разговоров, и ушах снова тарахтел пневматический бур, и Ферро трубил в свой рожок; мысль о приказе мелькала у тебя в голове — он так и не пришел, а ты ждал его сегодня в обед. Потом приходил на ум твой план, а порой ты даже видел перед собой эту сегодняшнюю поджарую овчарку. Усталый, ты сидел, не двигаясь, на верхнем конце стола, на самом краю белого конуса света от карбидной лампы, и невидимая для тебя тень от козырька — это Гримм когда-то приделал к лампе кусок консервной банки — перерезала твое лицо от уха к носу, оставляя верхнюю часть в темноте. Ты не слышал, как возле тебя играют в карты, рядом с тобой — Кальман, потом Гримм, напротив — их партнеры, старший из братьев Филиппис и Муральт; Керер, Джино Филиппис и Самуэль сидели вокруг и заглядывали в карты. Гайм сидел еще дальше, ты не думал и о нем, об этом маленьком, грустном человечке, с тонким, всегда взволнованным голоском, в очках без оправы, в которых он и сегодня, конечно, читает свою чудну́ю, потрепанную книгу; ты не думал даже о Ферро, который опять, наверное, возился со своим мотоциклом; дверь была неплотно прикрыта, и ты мог бы увидеть руку Ферро, когда он подносит ко рту фляжку и делает большой глоток; но ты не смотрел на дверь, ты вдруг снова подумал о приказе: «Работы прекратить. Срочно собираться в дорогу, возвращаться в город. Строительное управление» — примерно таким должен быть приказ, но Самуэль не привез его, и не было так, как ты себе представлял: грузовик в сумерках поднимается по дороге, бульдожья морда автомобиля все ближе, и Самуэль машет из кабины; он останавливается, вылезает, бежит к вам с приказом в руке, бежит, спотыкаясь, по лужам и щебенке, и смеется, как он иногда умеет. Но ничего такого не было, и ты подумал, что сейчас самое время привести в исполнение твой план. Очень хороший план. Надо только убедить остальных. Может быть, медленно заговорить, бросая слова в прокуренную тишину, объясняя им, как могло бы быть: строительная площадка не здесь, в лесу, на высоте девятисот метров над уровнем моря, а настоящая, чистенькая, в городе; мало взрывной работы, кладка стен, на которой легко выполнять норму; жить в подвальных помещениях, сухих, защищенных от ветра. Где-нибудь поблизости — уютная недорогая забегаловка, где можно поесть горячего — сосиски, пиво, а вечером — чистая рубаха, легкие ботинки, улицы в огнях, сверкающие витрины и девочки, которые медленно выступают впереди тебя, их узкие лодыжки, бедра, и напоследок, перед тем, как идти домой, кружечка пива. И ни тебе свиста за окном, ни хлопанья парусины внизу, ни муторного чувства, когда вдруг вспомнится эта макушка, или во сне вдруг приснится резкий голос Кальмана: «Шава, ты возьмешь на себя макушку. Заложишь пять-шесть зарядов там, где начинается свес, и мы от нее избавимся. Ясно?» Со всем этим будет покончено… Но тебя постепенно оплетает, убаюкивает атмосфера барака — пустой стакан, все еще слабо пахнущий пивом, и время от времени сдержанный смех, когда кто-нибудь сострит.
Сострил Филиппис, и все засмеялись. Филиппис продолжал:
— Надо было предупредить меня, что он немой.
А Брайтенштайн:
— Кстати, где он?
— Все-таки он хоть чему-нибудь научился в первый день, — сказал Борер, — зарывать собак.
— Он вышел час назад, я видел, — сказал Филиппис.
А Брайтенштайн:
— Не иначе как проверить, вправду ли собаку вы с ним упрятали или что другое. — Брайтенштайн засмеялся.
Муральт сгреб карты.
— А красивая была зверюга, — сказал он.
Стало тихо. Твою сонливость сразу как рукой сняло. Ты повернулся к Бореру, и Борер сказал:
— Что ж вы так плохо смотрели?
— Это как понимать? — спросил Кальман. Была его очередь ходить, но он застыл с картой в руке.
Борер рассмеялся:
— Я так, к слову. Жалко все-таки собаку.
— А как понимать «вы»? — спросил теперь и Брайтенштайн. — С претензиями можешь обращаться к Шава. Это Шава привязал ее наверху.
— А кто, — спросил ты, — слишком рано подал сигнал? Как насчет этого. Уж помалкивали бы лучше.
Еще не успев повернуться к двери, ты почувствовал, как оттуда повеяло холодом. Наверное, вошел Ферро. И тут же ты услыхал слова:
— А ну, валяйте, валяйте.
Это был действительно Ферро, он стоял в дверях с этим своим стеклянным блеском в глазах.
— Валяй, Шава, — сказал он и вдруг повысил голос: — Так ты говоришь, я слишком рано подал сигнал?
Ты ничего не сказал на это. Про себя подумал: «Конечно, рано. Надо было сперва все проверить. Для того и дается сигнал». Но отвечать ты не стал. Впрочем, Ферро недолго ждал ответа, он продолжал:
— Черт подери, мне же ее было не видно!
Через какое-то время Кальман сказал: «Туз» — и бросил на стол карту. Хотя могло показаться, что теперь игра пойдет дальше и в бараке снова установится дремотная атмосфера, ты отчетливо чувствовал в воздухе грозовые разряды. «Я не буду, нет. Уж я-то ни за что не буду. Хватит про это».
И тут Брайтенштайн снова завел свое.
— Да-а, — протянул он, — так как же все-таки? Борер слишком поздно крикнул «стоп» или слишком рано был подан сигнал? Или все-таки Шава обязан был отвязать собаку? Давайте-ка разберемся, — теперь он засмеялся и посмотрел на тебя, — разберемся, кто же в конце концов виноват. Верно, Шава?
— Ладно, кончайте. — Это сказал Кальман. — Филиппин объяви козыря.
Но Филиппис ничего не объявлял. Вместо этого он спросил:
— Значит, никто не виноват? — Он оглядел всех, коротко рассмеялся. — Жаль. А то бы мы, по крайней мере, знали, кому взять на себя макушку. Верно, Кальман? — Теперь засмеялись все. Это была неплохая шутка. Опасность миновала. Филиппис объявил козыря, некоторое время шел какой-то безразличный разговор, и только Ферро все еще стоял в дверях с этим своим блеском в глазах, и ты видел, как шевелятся его губы. Теперь он даже посмотрел на тебя.
— Ты ко мне обращаешься? — спросил ты негромко и тут же понял, что он вовсе не обращается к тебе, что он, в сущности, тебя и не видел. Он просто что-то бормотал про себя, вдруг до тебя долетели отдельные слова, что-то вроде: «Морды… драпануть… паршивые морды… туда… мотоцикл», — но ты ничего не понял. Ну ладно. По крайней мере, он явно не собирался продолжать разговор о собаке. За его спиной показался новенький, этот немой. Его чересчур большая голова вынырнула из-за плеча Ферро, и тот слегка посторонился, пропуская его в комнату. Не слишком шикарный был у него вид, когда он, весь промокший, медленно прошел мимо вас в дальний угол. Ферро вышел, хлопнув дверью.
Тебе снова пришел на ум Самуэль. Значит, этот немой парень — вот и все, что он привез. Никакого приказа, и все осталось по-прежнему, и эта духота, тяжелая, прокуренная духота, и ты вдруг понял, что сейчас последняя возможность осуществить твой план: надо только медленно заговорить о строительной площадке в городе и предложить написать письмо, нечто вроде совместного заявления, которое все подпишут, а уж Гайм сумеет найти нужные слова: написать, что продолжать работу здесь невозможно. Дождь, ветер; да и холода уже начались, никто не имеет права требовать от вас такого, и вы просите перевести вас на работу в городе; третья строительная бригада хочет остаться вместе, и можно прибавить, что она обязуется в полном составе возобновить прерванную работу в апреле. Что-нибудь в этом роде. Гайм найдет подходящие слова, и уже завтра или в субботу вы уедете в кузове у Самуэля на хорошую, чистую строительную площадку в каком-нибудь городе, в Мизере, например: там у вас будет мало взрывной работы, а то и совсем не будет, и по ночам — настоящая кровать с пружинами, а не раскладушка, как здесь, — четырнадцать раскладушек рядом, по раскладушке на брата и одна свободная. Свободна вторая от стены, на крайней спит Ферро: это единственная свободная раскладушка, потому что третью от стены с сегодняшнего дня занимает Немой.
Но, возможно, Шава, подходящий момент был уже упущен. Игра замерла. Правда, Кальман еще писал что-то мелом на доске, но никто больше не прикупал карт. Ты все еще тихо сидел на своем месте, тишина шелестела по крыше, а позади тебя дождь шептал за окном свои невнятные приказы. Ты снова собрался было сказать: «Давайте бросим. Напишем письмо». Но ты не мог тягаться с этим шумом и шепотом, шелестом за окном, с глухим хлопаньем парусины над бочкой с водой, и ты сидел тихо, тупо уставившись в балку поверх головы Керера: ты не слышал, как хрипло смеется Брайтенштайн, ты опять погрузился вдруг в дремотное состояние и не замечал голосов, доносившихся с нижнего конца стола, где беседовали Гримм и Самуэль, а Муральт рассказывал Немому про случай на Пасванге, и ты не подался вперед, чтобы бросить взгляд на Гайма, который сидел в сторонке, на самом конце стола, рядом с Немым, углубившись в чтение своей чудной растрепанной книги. Даже отсюда было видно, как при чтении непрерывно шевелятся его губы, и на мгновение в тебе закипела старая злоба на Гайма, который вытерпел все ваши насмешки, и даже не обижался на вас, и вечер за вечером все сидел в сторонке и читал; итак, ты продолжал смотреть на балку или в пустоту позади нее. Ты не видел даже Керера, хотя голова его находилась на линии твоего взгляда; лицо у Керера было сонное, но он все сидел, может быть, потому, что хотел пить и оттягивал последний глоток, а может, он испытывал то же, что и ты, — то же чувство, что упущен какой-то последний случай, последняя возможность все изменить, но продолжал сидеть, поддерживаемый проснувшейся вдруг надеждой, которая коренится еще в тех изначальных временах, когда человек в своем сером бытии не научился мыслить, и которая просыпается в такие вот вечера — ни на чем не основанная и тем не менее неистребимая надежда, что вот что-то произойдет и все вдруг станет красивее, значительнее, добрее; и эта надежда не уснула даже тогда, когда лопнул последний пузырек пены, когда отзвучали сонные голоса, погасла карбидная лампа и смолкли последние звуки, какие бывают, когда двенадцать мужчин укладываются и постепенно засыпают на раскладушках.
Третья ночь
Смолкли все звуки, кроме тех, что издают в тяжелом, беспокойном сне одиннадцать мужчин, лежащих один за другим в темноте слева от Лота и до подбородка закутанных в шерстяные одеяла. Лот смотрел во тьму. Ничего не было видно. Спина и руки ныли от усталости. Но заснуть сейчас было невозможно. Потому что пустовала не только кровать справа от него; и на следующей, на крайней раскладушке у стены — раскладушке отца — еще никто не спал. Его еще нет, думал он; он представил себе, как выглядит свободная кровать. На раскладушке, которая стояла между ними и была ничья, лежали коробки, большой старый чемодан, маленький мешок и рюкзак. Имущество отца. Под тою же раскладушкой стояли теперь вещи Лота. Филиппис помог ему их внести и сказал: «Ставь сюда, вниз, так проще всего, на это место Ферро претендовать не будет».
Лот слышал удары в своей груди; глухо и быстро они падали все в одну и ту же точку. «Его еще нет». Он слегка повернул голову на подушке и различил дверь — три мерцающих разреза в темноте. Он отвернулся, перевернулся на другой бок, лежал без движения. «Где он, в тамбуре или правда в лесу?» Из леса доносился шелест; иногда он усиливался и переходил в звенящий свист. Потрескивали стены, а вдалеке глухо и неистово хлопала парусина. Он в лесу, подумал Лот. Что он делает? Уже поздно. Может, надо сейчас встать, взять ключ и выйти к нему. Ну а потом, что будет потом? Какой он дурак, что не продумал этого. Наверное, придется напомнить ему все, что произошло. Он снова ощутил жар. Этот жар не согревал. Но он выжег все, что Лот хотел продумать; перед ним возникло лицо, которое он увидел сегодня, в морщинах, с седой щетиной, и с этим страхом в водянистых глазах, — и он понял, что, может, никогда уже не найдет в себе силы припереть отца к стенке и тем или иным способом высказать ему все. Если бы у него было то, прежнее лицо, тогда другое дело, но ведь теперь лицо у него совсем не такое; какое-то испуганное, старое, совсем неожиданное лицо.
В тамбуре громко хлопнула дверь. Это он, подумал Лот. Сейчас войдет старик с фонарем. Но никто не входил. Дверь оставалась закрытой, а в тамбуре шла какая-то возня; с грохотом упала на пол стамеска. Он снова напился, подумал Лот, Борер намекнул на это, когда они ложились. «Надо пойти его поискать», — сказал Филиппис. «Оставь, — ответил кто-то, — никуда он не денется, а дождь ему только на пользу».
Все замолчали, и только Гримм еще сказал, прежде чем погасить лампу: «Если он и дальше будет так набираться, как сегодня… Придется с ним снова поговорить». Поговорить, подумал Лот, и ему вспомнилось, как он в первый раз заметил, что с отцом что-то неладно. И хотя он противился этому, и закрывал глаза, и пытался заснуть, неясные картины всплывали, становились отчетливыми, потом наплывали друг на друга, но снова медленно и беспощадно прояснялись; перед ним была снова могучая спина, он прижался к ней ухом и слышал, как отец хриплым голосом напевает, проезжая по мосту. Потом отец сбавил скорость, Лот заметил, что дома в сумерках заскользили медленнее, а потом они подъехали к одному дому и остановились. Этот дом был трактир, они сошли с мотоцикла, и отец сказал ему; «Пойдем». Они вошли в большую комнату, где играла музыка. Там стояли столы и стулья. За стойкой сидела женщина. Она повернула голову и, взглянув на них, засмеялась.
Лот остановился. Он не мог отвести от нее глаз. Она была красивая и страшная, с ярко-красным ртом и белоснежными зубами. Он впервые видел такую женщину, страшную и красивую, и с веселым лицом, и она поманила его. «Иди, иди», — тихо позвала она. Ее голос словно доносился издалека, из земли, из воздуха, или из реки, из Ааре, и он не мог двинуться и не мог ни о чем думать, такая она была красивая.
«Да иди же, наконец!» — крикнул отец. Тогда он, не глядя на нее, прошел мимо стойки со стеклянной витриной и сел на краешек стула, на который кивком указал ему отец, — сам он уже сидел за столом напротив.
Женщина, все думал он; он почувствовал, как она легко подошла к столу, увидел её руку, длинную, мерцающую женскую руку, усыпанную золотыми жемчужинками пены из стакана, который она поставила перед ним; его окружил запах дыма, и спелых яблок, и женщины, и некоторое время было тихо. Рука, которую он протянул за стаканом, дрожала. И тут она коснулась его. Щекой он почувствовал тепло ее руки еще прежде, чем ощутил ее плоть, и оно пронизало его до слабости в коленках. Он не двигался. Издалека донесся ее голос: «Значит, ты Лотар?» Он не двигался.
— Да, — сказал он.
— Господи, как вырос!
— Да, — сказал он.
— В каком ты классе?
А отец:
— Оставь его в покое. Видишь, он устал.
А она:
— Сколько ему лет?
А он:
— В первом.
А потом отец:
— Выпей с нами стаканчик.
А она:
— Ну что ж.
Отец засмеялся. «Ну что ж», — сказал он, а Лот поднял глаза и увидел, как она удалялась легкими шагами, как взяла стакан и вернулась, и он снова быстро отвернулся, потому что она была красивая, и ласковая, и страшная, он посмотрел на отца — таким, как сейчас, он не видел его никогда: могучая фигура за столом, могучий, как каменная глыба, смеющаяся каменная глыба с глазами, из которых сыплются искры, с губами, влажными от вина; и когда отец налил ей, и поднял свой стакан, и вдруг сказал ей: «Марта», тогда и он застенчиво поднял свой стакан и выпил с ними. Яблочный сок был хорош. Видно, вино тоже было хорошо, отец уже осушил свой стакан, и женщина, которую звали Марта, налила ему второй. Марта, думал он. Он украдкой посмотрел на нее. Наверное, она была приятельницей отца. Перегнувшись через стол, она что-то шептала ему на ухо. Но отец был недоволен. Он быстро сказал:
— Да ну брось, — положил ей руку на затылок и снова засмеялся. — Принеси еще.
Она встала, блеснув тканью платья.
— Не сейчас, — сказала она, и лицо ее вдруг стало серьезным. Она пошла к стойке, принесла вина.
— Хочешь еще чего-нибудь? — спросил его отец.
Лот кивнул. Да, он хотел есть.
— Принеси ему колбасы и хлеба, — сказал отец Марте.
Она вышла. Наверное, там была кухня. А потом она принесла ему много колбасы на тарелке и снова засмеялась, а он радовался, что он здесь, и ел, и его больше не смущало, что она и отец, сидя рядышком напротив, смотрят, как он ест. Колбаса, и хлеб, и все было очень хорошо, и вино первый сорт, по крайней мере, отцу оно нравилось, он все время говорил ей в ухо: «Марта, твое здоровье», они пили вместе, и отец одним махом выпивал целый стакан, так что вскоре ей пришлось встать и принести еще вина.
Лот в первый раз в жизни был с отцом в трактире. Дома он обязательно расскажет маме и Бет, как ему здесь было хорошо. Он ел медленно. Потом решил передохнуть, а отец и женщина больше на него не смотрели. Они беседовали вполголоса и иногда смеялись; Лот снова принялся за еду, он даже и не подозревал, что у отца может быть такое хорошее настроение, он ел и гордился тем, что отец может быть таким: в хорошем настроении, пунцово-красный, глаза блестят от веселья, — и он гордился тем, что отец обнимает за плечи женщину с пламенным ртом и со светлой, словно мерцающей кожей, и с волосами как темный ветер, а вот сейчас он встает вместе с ней. Она подошла к стойке и сделала музыку громче, и отец так развеселился, что они вместе пошли танцевать. Лот даже про еду забыл. Он взял кусок хлеба, повернулся и стал смотреть, как они танцуют. Он засмеялся. Отец был похож на того человека, который как-то раз пришел и стал играть на губной гармонике у них на лужайке позади товарной станции, и при этом кривлялся, танцевал, вертелся, разражался хохотом, и снова играл, а они все стояли вокруг и смотрели. Пот катился по его лицу, он играл, танцевал и кривлялся. Один под палящим солнцем на лужайке. Потом, все еще пританцовывая, он ушел по длинной дороге вдоль рельсов, которая вела в город, а они молча смотрели ему вслед, пока фигурка танцующего кривляки вдруг не исчезла в желтизне заката. «Псих», — сказала мама. Он вспомнил об этом сейчас. Отец все вертелся по кругу. Он тяжело дышал от удовольствия и громко топал. Лицо у него было мокрое и красное от веселья, от безудержной круговерти веселья. Женщина тоже танцевала и вскрикивала: «Нет, не надо», а потом стала так смеяться, что больше не могла танцевать.
Музыка прекратилась. Они вернулись к столу. Отец взял свой стакан и выпил стоя. Но не успели они сесть напротив Лота, как началась новая музыка, лившаяся громко и спокойно; отец схватил женщину за руку и потащил за собой, и они снова пошли танцевать; женщина двигалась мягко и плавно, а отец крепко обнимал ее. Женщина, Марта, посмотрела через плечо на Лота. Улыбнулась ему. Но ее лицо оставалось грустным и настороженным. Глаза у нее светились, но вдруг она отпрянула от отца. Запрокинула голову. «Нет», — сказала она тихо, а потом снова обвила руками его шею и прошептала ему что-то на ухо, но Лот не расслышал ни слова. Она попыталась высвободиться из объятий отца. «Брось, — сказала она громко, — перестань». И снова посмотрела на Лота.
«Брось, не сейчас». Голос ее прерывался. Она уперлась руками ему в грудь, пытаясь выскользнуть из его объятий. Но Лот знал, что ей это не удастся, он знал, что никого нет сильнее отца, а отец держал ее одной рукой за спину, а другой за платье на плече.
— Марта, — выдохнул он, вертя ее не в такт музыке, — не скандаль! Пойдем, — он снова засмеялся, — пойдем, кошечка, именно сейчас, — и он попытался притянуть ее к себе.
Ее взгляд метнулся к Лоту. «Нет, пожалуйста, не надо, брось, перестань, нет…»
Платье на ее плече треснуло. Она вырвалась, направилась к стойке, обернулась. Лицо у нее покраснело. Волосы, больше не похожие на темный ветер, прилипли ко лбу. И вдруг она напомнила Лоту зверя, большого, затравленного зверя, а вовсе не пламя и не снег, и не было в ней ничего ни красивого, ни страшного; обессилевший, напряженный, все еще грациозный лесной зверь в кустах ежевики и терна; она метнула испуганный взгляд на отца, на него, снова на отца. Вот сейчас она убежит…
Да нет же, наверное, все это так и надо по игре, просто Лот этой игры не знает. Он слегка улыбнулся ей. Зверь и охотник — такая игра. А теперь отец должен ее ловить?
Отец. Лот взглянул на него и испугался. В комнате стало уже почти совсем темно, и отец — огромный, черный человек среди пустых столиков — с легким свистом вдыхал и выдыхал воздух. Он медленно двинулся в глубь комнаты. Сейчас он попытается поймать Марту. И Лот уже знал, что это не игра, знал еще до того, как заметил, что отец направился не к ней, а медленно приближался к нему, теперь уже не смеющаяся каменная глыба, а огромный человек, грозно размахивающий руками. И голос, какой у него бывает по ночам, загремел:
— Брысь отсюда!
Отец обращался к нему, Лоту.
— Выметайся! Нечего тут шпионить, брысь отсюда!
Лот встал. Его охватила холодная дрожь, мысли окоченели. Он знал — ему надо пройти мимо отца, ведь тот велел ему выметаться. Но он не мог сдвинуться с места. Отец уже был так близко, что Лот чувствовал запах пота, вина, табака. Нет, он его не ударил, только хрипло повторил: «Брысь». Но тут на его плечо легла рука.
— Пойдем, — сказала женщина. И потянула его за собой — между отцом и столом, быстрее, быстрее и наконец вытолкала его за дверь. Они оказались в темных сенях. Открылась другая дверь. — Подожди здесь, — ее голос звучал где-то позади него. Зажегся свет. — Подожди здесь, — сказала она, — не бойся.
В комнате было два окна, круглый стол, вокруг него стулья, и еще стулья у стен, а у одной стены большая горка, за стеклами которой застыли серебряные кувшины, блюда; в углу за дверью — развернутое знамя, красное с белым. И больше ничего. Лот подошел к окну. За окном сумерки, мимо прогрохотал грузовик. Он подошел к другому окну. И здесь желто-серый мрак. Он придвинул стул и, встав на него, достал до шпингалета. Слегка повернул его. Окно открылось. Теперь осторожно, без шума вылезти. Постараться, чтобы не слышно было, как ботинки трутся о шероховатую стену, — он ощупывал ее ногами. Встать было не на что. Запах еще не остывшей от дневного жара стены у самого лица, и желтоватый мрак, и твердая оконная рама режет руки. Лот закрыл глаза. Земля должна быть где-то внизу. А может, ее там уже и нет, промелькнуло у него в голове. Может быть, там, внизу, вообще ничего нет. Он изо всех сил зажмурил глаза. Отец, подумал он. И прыгнул, все равно куда. Но гораздо раньше, чем он предполагал, он очутился на твердой земле. Он встал и немножко постоял, но ноги снова начали дрожать, и он прислонился спиной к стене. И только тогда увидел мотоцикл. Машина стояла у стены, ближе к улице; в ней тускло отражался свет уличного фонаря. Он медленно пошел вдоль стены к мотоциклу. Здесь он будет ждать, сядет на землю позади машины, и его не видно будет с улицы. Он чувствовал запах мотоцикла и радовался, что сидит, спрятавшись за ним. Иногда по улице проносился ветер, теплый ветер, пахнущий пчелами. Или рекой, или пением дроздов. По улице ехали два велосипедиста; они уже зажгли фонари. Вот они вынырнули рядом с домом, проезжают мимо, слышно, как тукают их моторы. Лот придвинулся еще ближе к мотоциклу, но, как ни старался он думать только о том, что его окружает, в ушах у него все раздавался громкий голос отца, а перед глазами в желто-сером мраке стояла женщина. Они вдвоем были тут, близко-близко, и он не мог думать даже о реке, об Ааре, которая течет внизу. Не мог думать даже об Ааре. «Марта», прошептал он и испугался, так отчетливо увидел он ее перед собой. «Я должен думать об Ааре», — подумал он и подтянул колени к подбородку.
Он понял, что заснул, только когда услышал голоса. Они доносились издалека, приглушенно: «Лот, Лот, где ты?» Он встрепенулся. Было темно. «Лот…»
Женщина — это ее голос; он быстро вскочил и прижался к стене. Вот она. Высунулась из окна. «Лот, иди сюда», — тихо позвала она. Открылась дверь на улицу. Отец: «Лот!» Тогда он оторвался от стены, обогнул мотоцикл и вышел на улицу. «Я здесь», — сказал он и поперхнулся — так крепко застряли слова у него в горле. Повеял ночной ветерок. У выхода зажегся свет, отец спускался по лестнице с чемоданами. Он двинулся навстречу Лоту, а женщина, Марта, остановилась у двери, провожая его глазами. Он шатался. «Помни!» — тихо сказала она ему вслед. Но отец не обращал на нее внимания. «Пошли», — сказал он, и когда они прикрепляли чемоданы, Лот снова почувствовал запах вина и табака, и еще какой-то запах, странный, страшный, сладкий; отец чертыхался, пока не завелся мотор, они развернулись, выехали на улицу и с грохотом умчались прочь — так быстро и шумно Лот никогда еще не ездил с отцом. Наверное, триста километров в час; и он вцепился в седло и так крепко зажмурил глаза, что им стало больно.
И он все не открывал их, не открывал, и только когда вдруг скрипнула дверь и раздались шаги, встрепенулся. Но тьма все равно была кромешная. Отец что-то проворчал. Он возился с дребезжащим фонарем…
Хлопала парусина. Дождь обрушивался на крышу. Когда зажегся свет, Лот лежал тихо, он натянул шерстяное одеяло до подбородка и из-под опущенных век видел, как луч света, спотыкаясь, запрыгал по стене. Потом он увидел отца. Тот стоял рядом, около незанятой койки, фонарь его качался. У него блестели глаза и блестело лицо, мокрое от дождя, седые пряди прилипли ко лбу. Широкое, красное, пьяное лицо. Из-под опущенных век Лот увидел, как старик подозрительно взглянул на него.
— Спит Немой, — проворчал он. — Свернулся в клубок, как собачонка. Вот, — сказал он хрипло. Он кинул на незанятую койку бесформенный сверток. Лот не мог разобрать, что это; сквозь ресницы он увидел лишь довольно большой пакет в оберточной бумаге, беспорядочно обмотанный шпагатом.
— Спит новенький, — продолжал бормотать отец. — Что он все время смотрит на меня, как кретин. Идите вы все к… Ладно. — Он поставил карбидную лампу на полку над своей кроватью. — А я не обязан, — ворчал он, — а если ему не нравится… пусть как хочет, с меня хватит, Кальман.
— Слышишь? — Он наклонился над ним, опершись кулаками о свободную койку и о свой чемодан. Белый карбидный свет был у него за спиной. Теперь видны были только его глаза, лихорадочно блестевшие в темноте. — Ты слышишь? — Хриплый голос. Запах дыма и водки. — Спи себе. Здесь, — и он похлопал по обмотанному шпагатом пакету, — здесь хватит. Идите вы все к… — и он снова выпрямился огромной тенью, — все вместе взятые… с меня хватит. Я отчаливаю, — он широко повел рукой, — в Мизер, а потом… на ту сторону, или по прямой, или к Фарису. Тихо. Знаешь, Немой, я чуть-чуть поддал. Не смотри на меня, как кретин, и спи. Слышишь, ты, завтра не смотри на меня так. Мне это не нравится. Имей в виду…
Открыв рот, он подозрительно прислушался к дыханию Лота. Потом сказал:
— Спит. Свернулся, как собачонка, — повел головой, взял пакет и, продолжая бормотать, засунул его под койку, где Лот сложил свои вещи; засунул, а потом, все еще пошатываясь, начал раздеваться.
Остальные спали. Далеко впереди, у самой двери, кто-то храпел, а иногда громко стонал. Потом начали шептать стены. Шумели деревья, хлопала парусина. Лот знал: сейчас не время показывать отцу ключ. Нет, пока еще не время.
Отец погасил фонарь. Фонарь тихо дребезжал. Отец заворочался на постели. Вскоре в темноте послышалось его шумное и прерывистое дыхание.
Теперь Лот широко открыл глаза. Но ничего не было видно.
Борер (экскаватор)
Работа продвигалась неплохо. Макушка приближалась. Что ни день приближалась на добрый кусок. Но никто — так, по крайней мере, казалось — не обращал больше на нее внимания. Всех охватило безумное рвение. Каждый, похоже, старался как можно скорее разделаться с последним отрезком. Главное, что конец уже виден. Еще двести семьдесят метров. Еще двести двадцать.
Но всех вас — и тебя тоже, Борер, — очень занимало, кого же пошлют взрывать макушку. Этот вопрос стоял всегда — молчаливый и неизменный, и с каждым днем все более настойчивый. Он был не в словах, а в паузах между словами. Не на лицах — скорее где-то на дне глаз, когда взгляд оторвется от лопаты или от вагонетки, или от пневматического бура, и устремится вперед, и упрется в голый крутой склон, — а его с каждым днем все лучше видно со стройки сквозь поредевшие листья деревьев, — упрется в крутой склон, а потом скользнет вверх по ломкому известняку — к самой макушке. Впрочем, сама она была почти не видна за моросью и туманом.
Морось! Хоть ты и не хотел в этом признаваться, но и тебе на твоем тяжелом гусеничном экскаваторе она доставляла много хлопот. Конечно, тем, кто нагружал и водил вагонетки, и взрывникам поначалу было тяжелее. Но и тебе с каждым днем становилось все неуютнее. Вспомни: ты сидишь в легкой кабине из парусины и кожи, руль слева, в правой руке — тяжелый рычаг, и постепенно тобой овладевает странное чувство удрученности; пахнет бензином, экскаватор с ревом вгрызается своим могучим ковшом в строительный мусор, и порой тебе кажется, будто гусеница проваливается в пустоту: в морось, в раскисшую от мороси землю, а иногда машину заносит и чуть не кружит на месте, потому что морось застряла в гусеницах и передаче, эта тонкая предательская морось, тонкая частая сеть мороси, в которой запутался твой экскаватор.
Потом ты заметил, что кто-то взял запасную канистру бензина. Факт. Канистра пропала. Вспоминаешь то ветреное и дождливое октябрьское утро? Ты заехал в укрытие, вылез из кабины — и тут как раз впереди взорвались шесть зарядов, — спустился с перегревшегося экскаватора, чтобы размять затекшие руки и ноги, и вдруг почувствовал — с экскаватором что-то неладно. Как-то он необычно выглядит. А потом понял: болтаются пустые петли. Пропала канистра.
Самуэль, подумал ты. Наверное, ему утром не хватило бензина для грузовика. Но тут же ты вспомнил, как он вчера вечером заправлялся у бочки. Нет, это не Самуэль. Впереди раздался сигнал отбоя.
Ты снова залез в кабину. Проклятый ветрище при этом чуть не сорвал с тебя шляпу. Остальные уже продолжали работу, они и не взглянули, когда ты подъехал, вперся в самую середку на своем экскаваторе, остановился и вылез из кабины. Чтобы добраться до Кальмана, пришлось перелезть через размытый строительный мусор. Кальман работал буром. Он трясся всем телом — здоровенный мужик — в такт тарахтенью инструмента. Он изо всех сил сжимал рукоятки, загоняя бур наискосок в скалу. Ты тронул его за плечо, и только тогда он взглянул на тебя. Выключил бур. Но Филиппис рядом продолжал бурить, к тому же ветер снова расходился, так что надо было орать, чтобы Кальман услышал. До него не сразу дошло.
— Что случилось? — закричал он тоже. А потом: — Канистра с бензином?
До него все еще не доходило.
— Пропала! — заорал ты.
Кальман:
— Потерял?
Нет, потеряться она не могла. Ведь ты же каждый вечер осматриваешь машину сверху донизу. Вчера петли были в порядке. Да и сейчас они целы. Они в порядке. Только что сейчас они отстегнуты. Сама собой петля не отстегнется. Кто-то их отстегнул. Ночью. Ночью тут поработала какая-то сволочь.
— Кто-то тебя разыграл. — Кальман рассмеялся. — Ладно, хватит. После разберемся. В обед.
Его бур снова затарахтел.
— В чем дело? — крикнул Керер, когда ты вернулся к экскаватору.
— Канистра пропала. — Ты показал на пустые петли. — Знает кто-нибудь, куда она девалась?
Но ничего не отразилось на лицах Керера и Брайтенштайна, и Гайма, и Гримма, выглядывавших из-за вагонеток.
— Никто не знает, куда она девалась?
— Что значит «пропала»? — крикнул Брайтенштайн. — Смотрите у меня, я вам покажу, как разбазаривать инвентарь. — Он подражал голосу Кальмана, Остальные рассмеялись.
— Кто-то ее украл.
Луиджи Филиппис поднимался по узкоколейке со своей вагонеткой. По его небритому лицу катились капли пота и дождя. Оба бура прекратили работу.
— Давайте, еще немножко осталось! — крикнул Филиппис; он подложил под вагонетку тормозную колодку и перевел дух.
— В чем дело, Борер? — спросил он.
Брайтенштайн объяснил ему.
— Борер, здесь воров нет, — сказал он на это.
— Я тоже так думал, — отпарировал ты. Неожиданно громко прозвучали эти слова в тишине, которая вдруг окружила вас, потому что случайно именно в это мгновение буры прекратили работу, и даже ветер умолк. И деревья перестали шелестеть. За последние дни буря сорвала с них последние остатки разноцветных и пегих листьев. Деревья стояли тесными рядами, почти голые, выше по склону они росли ярусами, будто прячась друг за друга, угрюмо скрывая свою наготу. От них веяло пугающим холодом. Далеко внизу, там, где широкими витками змеилась горная дорога, что-то громыхнуло. Камнепад… Снова тишина… И только морось не прекращалась. Она торопливо оплетала своей сетью тебя и экскаватор.
— Не валяй дурака, Борер, — сказал Брайтенштайн. — И вообще, давайте работать.
— А канистра?
Брайтенштайн засмеялся. Он, кажется, не расслышал угрожающей нотки в твоем голосе. Впереди снова затарахтели буры.
— Канистра! — закричал Брайтенштайн, а остальным явно было смешно. — Отвяжись ты от нас со своей дурацкой банкой бензина. Ты потерял ее, или ее смыло дождем. Валяется небось где-нибудь в грязи. Поищи ее. А нас оставь в покое.
Ты медленно обошел вокруг вагонетки. Перешагнул через рельс. Грязь вздыхала и чавкала у тебя под ногами. Брайтенштайн был здоровенный бандюга, и когда ты встал прямо перед ним, в его прищуренных глазах вспыхнули озорные искорки. Под левым глазом у него белел длинный шрам.
Ты спросил:
— А тебе не нравится, Брайтенштайн, тебя не устраивает, когда я говорю: ее кто-то украл?
Брайтенштайн посмотрел на тебя, на остальных — они подошли поближе, — снова на тебя, — он, кажется, все еще не понимал, что дело-то серьезное.
— Где канистра? — спросил ты. Не иначе как Брайтенштайн вместе с остальными решили тебя разыграть. Ведь ты отвечаешь за свой инвентарь. А тебе и так трудно уследить за инвентарем в эдакий дождь. Знали бы они, сколько у экскаватора разных частей, которые могут потеряться.
— Катись ты к чертям со своей канистрой, Борер, — подозрительно тихо сказал Брайтенштайн. — Что нам, делать нечего? Не лезь к нам с глупостями!
— Где она у тебя?! — Твой голос был резок, неоправданно резок, как мы знаем сейчас и как ты наверняка помнишь, Борер.
Брайтенштайн ухватился за поля твоей шляпы и натянул ее тебе на лицо. Ты очутился в кромешной тьме. Брайтенштайн схватил тебя за плечи, повернул кругом и с силой оттолкнул. Ты летел до самого экскаватора.
— Вы что, надрались? — рявкнул Кальман, очутившись вдруг рядом. — Немедленно приступить к работе! Приступить к работе, вам говорят! — закричал он, когда ты хотел объяснить ему, до какой наглости дошел Брайтенштайн. И он смерил тебя таким ледяным взглядом, что ты счел за лучшее подняться, влезть в кабину и, рванув с места, засадить ковш в кучу щебенки. «Брайтенштайн, наш разговор еще не закончен», — подумал ты. И теперь ты дрожал за рулем не только от тарахтенья мотора и быстрого скольжения гусениц по щебню.
Снова поднялся ветер. Тебя продувало насквозь в твоей кабине. Когда ты на заднем ходу поворачивал, чтобы опрокинуть полный ковш в вагонетку, ветер изо всех сил накидывался на длинный борт машины, так что твой экскаватор чуть ли не качало. Другие снова рьяно взялись за работу. Вагонетки быстро откатывались и возвращались снизу пустыми. А взрывники, те и вовсе вкалывали как черти. Ферро, и рядом с ним новенький, немой, которому Кальман отдал каску, а подальше — Кальман, младший Филиппис и Шава. Ну просто ждут не дождутся, когда же наконец дойдет очередь до макушки! Но, как бы там ни было, ты твердо решил вывести на чистую воду того, кто взял канистру. Уж ты-то от своего не отступишься. Вот только бы перестала эта морось. От нее раскисает земля, и того и гляди гусеница провалится в пустоту и машина завертится волчком на месте.
Четвертая ночь
Но хуже всего была все же не морось. Это чудное, похожее на зубную боль чувство где-то на дне мозга, чувство, что вот уже несколько дней как все пошло вкривь и вкось: началось с истории с собакой; а может, всему виной то, что стала видна эта зловещая макушка, или все дело в идиотской басне про бензиновую канистру — так вот, это чувство было еще хуже мороси. А морось как раз и перестала вскоре после третьей серии взрывов, и даже отыскалось несколько плоских осколков, почти сухих и достаточно чистых, чтоб на них посидеть. Кальман объявил перекур. Все расселись на обломках скалы, у каждого был уже в руке кусок хлеба, а Ферро успел закурить, и только ветер и Немой продолжали свое дело: ветер непрерывно задувал из лесу на просеку и, пожалуй, даже усилился, и снова шумел; а Немой все орудовал кайлой на самом краю скалы, очищая участок, куда Ферро потом вставит бур.
— И чего он лезет из кожи вон, этот парень? — произнес Шава.
А младший Филиппис:
— Наверное, Ферро не сказал ему, что у нас перерыв.
— Заткнись, — сказал Ферро.
— Валяйте скажите ему кто-нибудь, — буркнул Кальман, продолжая жевать.
Никто не встал. Шава зевнул.
— Это обязанность Ферро, — сказал он. — Верно? — Полулежа он повернулся к Ферро. Ферро сидел повыше, шляпу он положил рядом с собой, и его растрепанные черные с проседью волосы торчали во все стороны. Он курил.
— Смотри не ошибись, — сказал он.
Теперь и остальные повернулись к нему, в том числе Кальман.
— Ферро, — сказал Кальман. — Ясно же, раз парень в таком шуме не услышал команды, ты должен был ему крикнуть.
— Я не знал, что он вдобавок еще и глухой, — ответил Ферро сверху. Однако он встал, прошел между ними и еще те двадцать шагов, которые отделяли его от Немого. Это уже было лишнее — свистнул бы в три пальца или бросил бы камень в том направлении. Но он, стало быть, подошел к Немому вплотную. Дотронулся до него — а Немой как раз замахивался для нового удара. Все видели, как Немой вздрогнул. И все видели, как лицо его чудно перекосилось и вроде бы он слегка покраснел.
Но того, что действительно произошло в то мгновение, не видел ни один из вас. Даже Ферро не знал, что произошло, вероятно, толком не знал даже и сам Немой.
После взрыва он вместе с другими вышел из укрытия. Он взял кайлу и поднялся вслед за отцом к скале. И пока отец выламывал буром огромные куски, он начал убирать осыпь: что покрупнее — разбивал кайлой, потом сбрасывал все лопатой туда, где, он знал, строительный мусор уберут экскаватор и вагонетки. Неподалеку от него работали младший Филиппис и Шава, иногда к ним подходил Кальман. Но он их не слышал; слишком шумел ветер и временами еще два бура. Он спокойно делал свое дело. Все тот же известняк в желтых прожилках; щебень, а вперемешку с ним вырванные из земли корни и крупные валуны, которые невозможно сгрести лопатой. Он нагнулся и, широко расставляя ноги, отнес вниз обломок. И снова острие кайлы равномерно движется вверх и вниз, из-под него сыплются искры и разлетаются осколки; отец выломал один из больших камней, после взрыва непрочно сидящих в скале, крикнул ему: «Назад!» — и обломок покатился прямо под острие его кайлы и раскололся на куски. Лот стал долбить их кайлой. Прямо перед ним заляпанные грязью ботинки отца. Ноги в зеленых обмотках. «Назад!» Лучше туда не смотреть. Изо всех сил долбить обломки. Быстрее. Бур прекратил работу. Долбить; от звука, с которым дробится камень, становится легче. Долбить. Руки теперь уже не болят, как вначале. Только ладони — мозоли лопаются и не заживают. Хорошо, что ветер в спину; теперь, когда нет дождя, от разбиваемого камня поднимается пыль. Ветер быстро уносит ее вверх — от него к отцу.
Если эти ботинки спустятся — нет, он не хочет додумывать до конца. Он яростно долбит. По его вискам стекает пот. Не останавливаться. Это был бы несчастный случай; никто не смог бы точно сказать, как это произошло. Несчастный случай со смертельным исходом на участке третьей строительной бригады. Лот тяжело дышит. Нет. Долбить. Не думать о нем. Не думать о его ботинках, о его лице, о его затылке! Вдруг он ясно увидел, как это могло бы произойти: отец спускается, например, чтобы, положив бур, немного подвинтить какой-нибудь вентиль на компрессоре, потом возвращается, нагибается за буром, его склоненный затылок совсем рядом с Лотом, рядом с острием кайлы, которое движется вверх и вниз, и так бы это случилось…
Он чувствует, как в нем поднимается страх, и сумасшедшая надежда, что так оно все и будет, сейчас, через минуту, ему не понадобится ни единого слова, не понадобится и ключ, одним ударом он убьет в себе это вечное чувство и освободится.
Сейчас у него в ушах звучит не только шум ветра, не только удары и резкое эхо в скалах, — это снова те давнишние шаги, он слышит их, продолжая долбить, изо всех сил, как одержимый, колотит он по камню, по этому звуку, по затылку и по шагам, по ночным шагам, по шагам отца в ночи, пот заливает ему глаза, он долбит, но все равно он их слышит…
…Слышит их внизу, на заднем дворе, они остановились у черного хода, вошли в дом, а он, Лот, лежит и не спит. Затаил дыхание. В темноте Бет приподнялась в своей постели и сказала: «Слышишь, это он». Она сбросила одеяло. Зашлепала босыми ногами по полу. Остановилась у двери. Он знал, что рот у нее приоткрыт как бы для того, чтобы ловить им звуки; дышала она часто-часто. Лот сел в постели. Мимо прогромыхал поезд. Зеленые блики, потрескивая, заскользили по стенам; поезд тихо вскрикнул.
— Он поднимается, — сказала Бет. — Слышишь?
— Да, — сказал Лот.
Но вдруг ему стало страшно, может быть, только потому, что Бет так задохнулась на слове «слышишь». В комнате было черным-черно. И дверь черная. Когда он засыпал, дверь была приоткрыта, и щель ярко светилась; и во сне он видел что-то светлое, яркое. А теперь эта беспросветная чернота. Она наступает на него, он трет и трет глаза, но она засела в них накрепко.
— Он пьяный, — сказала Бет. — Тише…
— А что это такое? — спросил Лот. На мгновение он увидел перед собой женщину, несущую вино: она красивая и страшная, с огненным ртом и волосами как темный ветер. Она смеялась, и зубы у нее были снежно-белые. — Что значит «пьяный»? — спросил он. В черноте было слышно, как Бет стучит зубами, — неужели она так замерзла?
— Тише! — прошептала она. — Слышишь? Он поднимается.
Грохот на деревянной лестнице.
— Господи, — прошептала Бет, — он чуть не упал. Он пьяный.
— А почему если кто пьяный, то падает?
— Да замолчи ты! — прошипела Бет.
Потом он сказал:
— Я пойду к маме. Пошли?
Он встал. Ощупью пробрался сквозь черноту к двери. И вдруг почувствовал теплое тело Бет. Она вздрогнула, когда он дотронулся до нее.
— Нет, не надо выходить, — с жаром прошептала она. — Он там. Поднимается. Ты что, не слышишь?
Снова шаги на лестнице. Теперь в замочной скважине мерцал свет.
И вдруг мама:
— Господи, ну и хорош же ты!
Сквозь дверь показалось, что мама тихо вскрикнула. И в это мгновение они услышали ее шаги в прихожей — она бежала.
— Иди сюда! — Это отец. Он еле ворочал языком. — Иди!
— Не трогай меня!
Лот и Бет не смели вздохнуть.
— Господи, ну и хорош же ты! И не шуми ты так. Дети… (Бет ощупью нашла руку Лота. Рука у нее была горячая.) Вдруг они увидят тебя в таком… в таком состоянии!
Далеко-далеко внизу мягкий хриплый голос:
— Иди, моя ворчунья, иди сюда…
Он дошел до верхней площадки. Это было слышно по скрипу ступенек. «„Моя ворчунья“, — подумал Лот, — так он называет ее иногда, и тогда мама смеется». Но сейчас это было совсем не весело. Никто не смеялся, и какое-то время было тихо-тихо. Потом снова осторожные шаги в прихожей, в соседней комнате. И вдруг отворилась дверь, в нее упал свет, и с ними оказалась мама. Она быстро вымела дверью свет и осталась стоять. Видно ее не было, только слышно, как она сдерживает дыхание.
— Он там, — пробормотала она, и Лот заметил, что она разговаривает сама с собой. — Нет. Нет, я не могу. Никого нет.
— Да иди же!
Гром его голоса с силой обрушился на дверь.
— Я не могу, — прошептала она и потом: — Сейчас он начнет, а в доме никого…
— Что начнет? — спросил Лот. — Звать?
Она не слыхала его:
— …станет колотить по чем попало… Или повернется и уедет. В таком состоянии… Он разобьется насмерть… Тут же…
Из черноты донесся хриплый звук, слетевший с ее губ.
— Ну иди! — это отец.
— Нет, — шепнула Бет, — не ходи.
Лот стоял совсем близко к маме. Они прислушивались.
— А то я уйду. Ясно тебе? Насовсем. Поминай как звали. Сяду на мотоцикл и умотаю. — Он вдруг расхохотался. — Думаешь, не уйду? Думаешь, мне слабо? Иди сюда. Или смотаю удочки. Давай…
— Если он пьяный, как же он может ехать? — спросил Лот. — Кто пьяный, тот падает. — И тут ему вдруг вспомнился ключ, бледная кротовая морда… Мальчишка вытащил ключ и сказал: «Пусть разносчики ходят пешком». Да, Лот знал — без ключа не уедешь. Мозг его напряженно работал. Он может что-то сделать. Отец не уедет. Не разобьется на дороге, бояться нечего.
— Я знаю, — сказал он, — ключ. Я принесу его, быстро.
Он был рад, что может помочь, и он больше не слышал ее голоса — слова не проникали сквозь дверь, в которую он выскользнул, и только когда, пробегая через прихожую, он увидел в комнате у окна отцовскую спину, ему снова стало страшно. Но он не имел права останавливаться. Он быстро спустился по лестнице. Здесь было темно. Дверь черного хода оказалась открытой. Ночь была светлее, чем он думал. Он не чувствовал гравия под босыми ногами, он добежал до сарая, вошел и даже не подумал о куницах, которые водились там, между балок. Он думал о маме и о ключе, а потом наткнулся на мотоцикл, прислоненный к стене сарая. Чемоданы. В темноте ничего не разглядеть. Ему вдруг стало холодно. От мотора еще исходило слабое тепло. Но бак с горючим, по которому сейчас ощупью пробирались его пальцы, был холодный. Он вытащил ключ. Выбежал и увидел мать. Она шла ему навстречу — медленно приближалась большой тенью. Он остановился, а она поманила его, и он заметил, что она не сердится.
— Пойдем, — сказала она; они вошли в дом, и на нижней ступеньке она взяла его за руку; они стали медленно подниматься по лестнице.
— Он у меня, — Лот, показал ей ключ. — Вот.
Она остановилась.
— Да идешь ты? — крикнул отец. Что еще он кричал, нельзя было разобрать. Они стали опять подниматься. Поднялись на самый верх и тогда увидели отца. Наклонив голову, он держался за притолоку. Вместо лица темное пятно, но из него смотрели на них его страшные глаза.
— Иди к себе, — тихо сказала мать, и Лот медленно прошел мимо отца и дальше, обратно к Бет, в черноту. Чернота жгла ему глаза, и от этого у него выступили слезы.
— Он у тебя? — спросила Бет. Лот забыл плотно закрыть дверь, и постепенно он смог различить Бет, которая сидела на своей кровати у стены, зажав руками уши. Он хотел рассказать ей, как было дело, но снова голос отца ворвался в комнату. Это была уже не человеческая речь, а просто звуки, пьяные, бессвязные звуки, медленно, громко и невнятно изрыгаемый поток ругательств и злобных выкриков, только иногда мелькали понятные слова — «шпионит тут», и «запер», и «черный ход», и «меня», и «убью»…
Лот все не двигался с места, перед ним — застывшее лицо Бет. Он слышал звуки, разносившиеся по всему дому, — там, за дверью, они обрушиваются на мать. Тяжелые беспорядочные удары. Он стоял, слушал и чувствовал, как от них цепенеет его тело, потом повернулся и, выпрямившись, двинулся им навстречу — прочь от Бет, к полуоткрытой двери, — не зная, что заставляет его идти; он ничего не видел — ни двери, ни косой полоски света, и не слышал ни шепота Бет за спиной, ни даже тишины, сменившей тарахтенье буров, ни слов, которые ему кто-то кричал, ни быстрых ударов кайлы по камню, ни ветра, свистевшего возле его каски, — только этот голос; он заполнял его целиком и заставлял идти дальше; и он дошел до двери, и увидел высоко занесенную руку отца, и смотрел, как она опускалась. Тень погасила светлое лицо матери. Падение тела, крик. Тело ударилось о лестницу и покатилось по ступенькам. Тишина, и красное лицо отца медленно поворачивается к нему. Он задрожал. Не крикнул. Остановился. Лицо. Он прочел на нем, что произошло что-то ужасное. Двинулся дальше, к лестничной площадке. Снова остановился и вдруг услыхал рядом с собой тяжелое дыхание отца. И еще там валялась туфля матери. «Пошли», — сказал тот самый голос, и отец дотронулся до него. Его как будто ударило. Он резко обернулся. Но вместо крика издал только тихий нечленораздельный звук. Он посмотрел в упор на отца — лицо было красное, как тогда, — увидел щетину, поседевшую за все эти долгие годы, почувствовал запах водки, секунду он смотрел ему прямо в глаза, прежние глаза, в них вспыхивали полупогасшие молнии…
…И медленно опустил занесенную для нового удара кайлу. Кровь бросилась ему в лицо.
— Пошли, — сказал старик. — В чем дело, пошли.
И кивком показал на остальных, сидевших на камнях и шпалах. Лот посмотрел на них — все расплывалось у него перед глазами; словно сквозь водяную завесу, сквозь завесу проливного дождя, он увидел еще, прежде чем все вокруг него погасло, как все лица обратились к ним. Медленно и ничего уже больше не видя и не слыша, он поплелся в обратную сторону.
Нет, тогда вы, конечно, ничего не могли знать про все это, про прежнюю жизнь Лота и про то, как случилось, что он стал немым. Даже у Ферро тогда и мысли такой не мелькнуло, а если что и мелькнуло, то разве лишь смутное воспоминание, что когда-то давно, в те прежние скверные времена, он видел вот так же застывшее вдруг мальчишечье лицо. Но Ферро ничего не сказал, да он и не успел бы, слишком быстро все завертелось: Немой заковылял прочь, остановился на склоне; к нему подскочили младший Филиппис, и Гримм, и все остальные, а Кальман сказал:
— Давайте помогите ему. Слышите? Ему же дурно. Ведите его сюда, тут сухо.
Почти машинально Ферро вытащил бутылку.
— Это водка, — сказал он и сам не заметил, и никто не заметил, как вдруг осип его голос; кто-то взял фляжку и поднес ко рту Немого, но Немой не стал пить, и тогда Гримм и младший Филиппис увели его вниз, к бараку.
А тут уже и время истекло. Кальман еще немного постоял, а потом сказал:
— Давайте работать.
Они вернулись на свои места, и вскоре пневматический бур заглушил хлопанье парусины.
Кальман (десятник)
Вблизи можно было с полной отчетливостью различить в шуме буров три отдельных громких звука. Однако уже на расстоянии двадцати метров не было слышно, как стреляет сжатый воздух, чем дальше, тем больше заглушался лязг, а с расстояния в пятьдесят метров слышалось только глухое монотонное тарахтенье. Наверное, так получалось из-за рева ветра, а может, из-за клубов тумана, которые уже сейчас, в начале пятого, нависли так низко, что как будто волочились по земле среди деревьев, вернее сказать, плавали среди деревьев; по крайней мере, первому из двоих, шагавших друг за другом по направлению к красным столбам наверху, они вдруг показались похожими на рыб, на огромных рыб, которые, чуть заметно шевеля плавниками, косяком шли между деревьями. Особая порода рыб, сотворенных из тумана, и они заглатывали выхлопы сжатого воздуха и лязг. Этот первый из двоих был Кальман. За ним шел Ферро; теперь они достигли края крутого склона, и Кальман остановился. Прислушался. Но сейчас он прислушивался не к шуму пневматических буров. Слегка повернув голову, он прислушивался к свисту.
Да, кто-то свистел. Ферро тоже остановился. Перед ними была скала, и ничего не было видно, кроме макушки там, в вышине, макушки с выступом, подобно башне, вздымавшейся над крутой стеной; а под ней — широкий, покрытый валунами откос, старый район оползней, усеянный этим предательским, ломким замшелым известняком, между камнями пробивался вялый папоротник и высокие, сухие стебли кукурузы. На откосе — выкрашенные красной краской столбы. Один за другим они уходили вверх, в направлении перевала, и исчезали в тумане.
— Кто-то свистел, — сказал Кальман.
Они настороженно прислушались. Потом пошли дальше, и еще метров через пятнадцать Кальман снова остановился и посмотрел на макушку.
— Ну, как думаешь? — спросил он.
Кальман правильно выбрал себе советчика. Ферро был самый старший. Он разбирался в камне, и у него был безошибочно верный глаз на все, что связано со взрывными работами. Впрочем, сейчас он сказал: «Не знаю», и зашагал дальше вверх.
Снова свист. На этот раз ближе. Долгий, горестный свист. Он вроде бы шел справа и снизу. Оглянувшись, Кальман увидел мальчика. Фигурка мальчика вынырнула из клубов тумана, далеко-далеко. Вот он остановился и снова свистнул, до них донесся резкий, пронзительный звук. Насколько можно было различить отсюда, мальчик был в коричневом плаще с капюшоном. Он снова засунул пальцы в рот, но на этот раз его свист отсюда, сверху, был почти не слышен, потому что ветер снова с громким воем обрушился на лес. Мальчик быстро поднимался, взобрался на каменную глыбу, — его короткий плащ с силой взвился на ветру, — потом он исчез из виду, вынырнул уже выше, повернул в другую сторону, двинулся дальше, что-то высматривая.
— Он что-то ищет, — пробормотал Ферро.
Он шел все дальше, останавливался, как видно, прислушиваясь к отголоскам своего свиста, мимо струился туман, свиста больше не было слышно, мальчик медленно удалялся, уменьшался, исчез.
— Да — сказал ты, Кальман, — он кого-то ищет.
Ты не знал, подумал ли Ферро о том же, о чем и ты.
Уже у самого подножия макушки Ферро сказал:
— У нас слишком мало запального шнура.
А ты ему на это:
— Я заказал еще. Вчера. Самуэль слышал, что шнур будет дня через два или три; тогда нам дадут десять мотков.
Ферро пощупал мокрую отвесную стену.
— Чем больше, тем лучше, — сказал он.
Выломав из скалы кусок породы, он оглядел его со всех сторон, невнятно пробормотал что-то и бросил камень вниз.
Минут через двадцать у тебя в голове созрел план. Дорогу следует проложить наискосок через склон, и для этого необходимо уничтожить свес. Это ясно. Ликвидировать всю макушку целиком вовсе не обязательно. Ну а взорвать свес, наверное, будет совсем нетрудно: у скалы слоистая структура, и вряд ли даже понадобится бурить шпуры. В глубокие расселины и щели прямо под свесом, которые видишь невооруженным глазом, наверняка можно вставить заряды. Это будет нетрудно. Но опасно. Потому что нельзя предусмотреть, только ли выступ будет разрушен взрывом, или еще и часть склона, и какая именно. Правда, если стоять там, где сейчас стоите вы, это неважно: в самом низу по склону идут валы из камней, принесенных старыми оползнями; они — надежная защита. Но это будет очень важно для того, кому придется производить взрыв.
— Кого ты пошлешь? — спросил вдруг Ферро. Он резко остановился (вы уже спускались) и, прищурясь, посмотрел на тебя.
«Вот тебя бы и послать», — подумал ты. Ферро отлично справился бы с этой работой. Без всякого сомнения. Ты сказал:
— Не обязательно кого-нибудь из взрывников.
— Я спрашиваю, — сказал Ферро, — кого, стало быть, ты пошлешь?
А ты, помолчав:
— В крайнем случае можно бросить жребий.
Ферро снова отвернулся. Продолжал спускаться. Пряча голову от ветра, он втянул ее в плечи. Иногда он останавливался. Возможно, у него уже появилась небольшая одышка; а может быть, он, так же как и ты, хотел посмотреть, нет ли какого движения в той стороне, где исчез мальчик. Ничего не было видно; но, вероятно, Ферро вовсе и не думал про мальчика, потому что, продолжая спускаться впереди тебя, он сказал:
— Шава ты не заставишь. И Муральта. И Брайтенштайна. И Борера.
Вы снова дошли до столбов, еще раз свернули и направились к стройплощадке, Ферро впереди, а ты за ним. Когда вы снова вошли в лес, ты опять оглянулся. Итак, мальчика больше не видно. Зато видно кое-что другое. Ты остановился.
Клубы тумана поднялись. Теперь они скользили к перевалу метрах в тридцати над тобой. Рыбы, сотворенные из тумана. Скала — вот что вдруг приковало твой взгляд, но теперь это была не просто голая скала: она выглядела гораздо более голой, чем ты ее себе представлял, ее окружала атмосфера заматерелой злобы, и этой злобой она вдруг дохнула на тебя.
Ты совсем недолго смотрел на нее, потом пошел за Ферро. Господи, подумал ты, это же чистейшее безумие. Надо уходить. Собираться. Ничего не выйдет, уже поздно. Весной — да, но не сейчас. Нет, правда, это ведь безумие. Я не имею права. Еще случится что-нибудь. И ты решил отдать приказ собираться и завтра же вернуться в город. Надо бы только попытаться внушить рабочим…
Ферро остановился у самого обрыва, спиной к тебе. — Что там? — спросил ты, и надо же, какая глупость, вдруг тебе вспомнилась эта пятнистая овчарка. Филиппис и Немой зарыли ее внизу, в том лесу, где недавно плавали рыбы, сотворенные из тумана. Но потом ты увидел стройплощадку. Рабочие стояли вокруг экскаватора.
— Завяз, — сказал Ферро. И действительно, экскаватор тяжело осел на одну сторону. Борер, очевидно, как раз делал очередную попытку выбраться. Двигатель заработал. Остальные отступили назад. Экскаватор неистово задрожал. Механический ковш на коротком рычаге разинул пасть в воздухе. Экскаватор медленно повернулся. Все напрасно! Правая гусеница уже вырыла себе в рыхлой земле настоящую котловину. Оставалось одно: привязать экскаватор стальным тросом к откосу и заполнить котловину ветками или, может, подложить несколько балок.
— Стой! — крикнул ты.
Борер не услышал, перекосившийся экскаватор снова рывками повернулся вокруг своей оси.
— Стой! — закричали остальные. Гайм помахал Бореру рукой. Тогда он, кажется, понял. Двигатель заглох.
Они смотрели на тебя, Борер, из окна кабины, остальные — стоя полукругом у экскаватора, на приличном расстоянии. Ветер ревел.
— Брайтенштайн, — крикнул ты, — принеси трос! Иди с ним, Керер. А вы…
Ферро рядом с тобой негромко сказал:
— Погоди-ка.
Он спустился по склону и поманил Борера. Борер соскочил. Ферро, ступая по шпалам и лужам, подошел к экскаватору, подтянулся на руках, и вот он уже сидит за запотевшим стеклом в кабине водителя, грузный, крупный; двигатель заработал почти без шума, плавно набирая обороты, и Ферро открыл окно, высунулся по пояс, наблюдая за гусеницей. Экскаватор дрогнул и пришел в движение, очень медленно, очень плавно, назад-вперед, назад-вперед, и еще раз назад, и, теперь уже более шумно, вперед, он качнулся и начал поворачиваться, ковш дернулся, тяжелая машина с ревом поворачивалась вокруг своей оси, быстрее, быстрее, а Ферро по-прежнему в окне, круги стали шире, брызги грязи разлетались из-под гусеницы, которая еще висела в пустоте. Вдруг ковш опустился вертикально, экскаватор, казалось, сейчас перевернется, теперь он ревел оглушительно, а потом Ферро быстро вывел его на твердую почву, выключил двигатель, опустил ковш, остановился.
Дождь усилился. Ручьи бежали по гусеничным колеям, собираясь в лужи. Ты чувствовал, Кальман, как вода стекает по твоей спине. Люди смотрели на тебя. Они, казалось, думали: «Ладно тебе, Кальман, пошли под крышу». Нет, подумал ты и знаком приказал им продолжать работу; ты спустился по откосу и снова встал у бура.
И тут ты услышал, как Брайтенштайн крикнул:
— Борер, пусть Ферро поучит тебя водить машину.
Громкий смех Брайтенштайна. Остальные тоже засмеялись. Что сказал Борер, было не слышно. И снова голос Брайтенштайна:
— Борер, я нашел канистру.
Тогда ты оглянулся. Но Брайтенштайн держал в руке пустую консервную банку. Остальные снова засмеялись. Бореру, похоже, было наплевать. Он подошел к экскаватору и влез в кабину. Брайтенштайн направился к Ферро. Ты услышал, как он сказал:
— Будет теперь ездить осторожнее.
— Да, — сказал Ферро.
Брайтенштайн продолжал:
— В другой раз его в эту яму не понесет.
— Нет, — сказал Ферро.
Ни один бур еще не работал. Было тихо, насколько можно говорить о тишине, когда так ревет ветер. И только сзади, ниже по дороге, вдруг послышалось что-то вроде грома. Далекий гром. Камнепад. И ты подумал: «Наверное, это внизу, у развилки». Тебе вспомнился Самуэль — Самуэль, который с припасами, а возможно, уже и с новым шнуром находился в пути. Перед тобой возникла картина: Самуэль на грузовике, а дороги перед ним нет. Дорогу ему преградили обломки одной из подпорных стен, построенных в июле первой бригадой, — ее выломало давление массы камней, и корневищ, и деревьев, которые сегодня ночью сдвинулись с места вместе с землей, и никакая подпорная стена, как бы хорошо она ни была сложена, не могла задержать их движения, и на пути оказывались огромные груды щебня и камней, и одна из них преградила дорогу Самуэлю, и теперь он стоит где-то там, внизу, и не может ехать дальше. Отрезаны… да нет же, чушь! Этого только не хватало. И, странно, Кальман: ты забыл только что принятое решение свернуть работу; достаточно было этого эпизода с осевшим набок экскаватором и дальнего грома, — на самом деле, подумал ты, это просто где-то валят лес, — и ты уже освободился от чувства, охватившего тебя при виде голой скалы, и решил во что бы то ни стало довести работу до конца.
Вспомни, Кальман. В эти несколько секунд, когда дальний гром отгремел, а буры еще не заработали, ты мог бы спасти человеческую жизнь. Но ты, стало быть, решил продолжать. Буры заработали. Тарахтенье. Лязг. А совсем близко слышно, как стреляет сжатый воздух.
Пятая ночь
А в то время как Кальман со старым Ферро поднимались по склону среди рыб, сотворенных из тумана, и брели — сперва вверх, потом вниз, и обратно на стройплощадку, и пока мальчик в коричневом плаще где-то далеко, у самого перевала, свистом звал свою овчарку, в то время как экскаватор Борера вертелся волчком в яме, полной жидкой грязи, и пока его вытаскивал Ферро, и когда снова зашумели буры, покатились вверх и вниз вагонетки, и вся бригада взялась за дело, чтобы и сегодня дорога продвинулась на добрый кусок вперед и приблизилась к перевалу и к макушке, — все, кроме Керера, который уже вернулся в свой кухонный барак, чтобы приготовить ужин, и, конечно, кроме Самуэля, который все еще был в пути из Мизера сюда, все это время Лот лежал на своей раскладушке, а вернее сказать, лежал он вовсе не здесь, на туго натянутой мешковине, закутанный в шерстяные одеяла, с мокрой тряпкой на лбу; нет, он снова лежит на гофрированной железной крыше гаража, солнечные лучи низвергаются на землю со стеклянного неба, а Лот — он теперь разбойник, караульный — он лежит на животе, и из-за стеблей герани лениво поглядывает на место стоянки машин перед гаражом. В центре желтой площадки — две высокие голубые бензоколонки, дядя поставил их несколько дней назад, все совсем еще новехонькое, новехонький желтый гравий и голубые, непривычные колонки, для обычного бензина и для супера, и новый флаг компании «Шелл». Мимо проезжают машины — вниз, к городу, и вверх, в горы. Лот чувствует, как дрожит под ним железная крыша от свиста шлифовального станка из мастерской. Наверное, дядя притирает новые цилиндры или ремонтирует заднюю ось старого «форда», который ему привезли позавчера. Дядя — хороший механик, и Лот знает, что к нему приезжают даже из самого Мизера, и из отдаленных селений где-то там в горах, и отдают в ремонт санитарные машины и трактора. Он все делает сам, помогает ему один старый Бенни, и только в окраску и лакировку он отдает машины на сторону, а так все сам. «Пауль Мак, гараж и авторемонтная мастерская. Компания „Шелл“».
Лот смотрел, как машина поворачивает и въезжает на стоянку — кабриолет, зеленый с черным, а водитель в белой кепке. Не успел кабриолет остановиться, как сразу же вышел Бенни. Бенни, приложивший руку к голубой фуражке, выглядел прямо-таки шикарно. Весь голубой, в новом костюме, который сначала он не хотел надевать, но дядя сказал ему: «Не спорь, Бенни, нам надо иметь вид, теперь у нас заправочная станция. Понимаешь, Бенни?» Правда, Лоту показалось, что Бенни не понял, по крайней мере, лицо у него стало еще более старым, чем всегда. И вот Бенни поднимает глаза. И тут же невозмутимо отворачивается к колонке. Но Лот знает — он его видел. Лежать на гофрированной крыше запрещено. Но Бенни ничего не скажет. Правда, он живет здесь, у дяди, не так давно, как Лот, он пришел с гор, из какой-то деревни, у него такие руки потому, что он работал лесорубом, а теперь он старый, и заливает бензин в баки или медленно протирает до блеска крылья стоящих в гараже машин; Лот часто помогает ему, но Бенин ничего ему не говорит, да и вообще он почти ничего не говорит, и может быть, именно поэтому он так нравится Лоту.
Но тут Лот вспоминает, что он разбойник. Караульный. «А Лот будет караульным, — сказал Пауль. — Мы залезем через заднее окно, стырим их и смоемся».
— А куда? — спросил один из братьев Белартов. — Куда мы потом с этими шлангами?
Пауль посмотрел на него и сказал:
— Давайте на плотину. Или нет?
Лот знал, о чем думают Беларты. Они все собрались на заднем дворе у Белартов, и Лот думал: это запрещено. А вдруг нас поймает сторож с электростанции. Это опасно. А вдруг из старой шины выйдет воздух, и нас отнесет на середину водохранилища, и наверняка засосет под решетку, а тогда пиши пропало, это уж точно.
Но было жарко, воздух мерцал, переливался на заднем дворе у Белартов, и Пауль засмеялся и сказал:
— А Лот будет караульным, он замаскируется и будет сторожить на крыше гаража, и, если он увидит, что мой папаша вышел из гаража и идет на склад, он свистнет, а потом прибежит к нам на плотину. Тогда мы умотаем.
Лот кивнул. Он был рад, что ему не надо идти к плотине сейчас. Серо-голубая вода. Она с грохотом падает сквозь решетку. Лучше лежать здесь, лучше быть караульным — эта мысль лениво ворочается у него в голове, и он вдруг вообще перестает бояться. Как хорошо лежать здесь, продолжает он думать, здесь, на крыше, за стеблями герани, растущей по карнизу стены, чудесное местечко, пахнет горячим асфальтом, сверху видно каждую машину, огромные грузовики, красные и черные цистерны въезжают с большого шоссе, красные «остины», и иногда мотоциклы, и, может быть, даже, думает он, когда-нибудь сюда завернет и NSU.
Бенни покончил с заправкой. Повесил заправочный шланг на место. Кабриолет заправлялся супером. Водитель в белой кепке расплатился. Бенни кивнул и обошел машину кругом. Его тень лежала у самых ботинок. На обочине дороги он остановился, посмотрел налево и направо, пропустил две машины, зеленую и маленькую серую, — они промелькнули мимо почти друг за другом, — потом повернулся и сделал знак, что путь свободен. Кабриолет быстро заскользил по направлению к городу. Бенни вернулся. Он делал вид, что не замечает Лота. Он медленно вошел в гараж, захватив ведро с мыльной водой. И только его голубая фуражка скрылась под крышей гаража, как вдруг на шоссе послышался громкий шум мотора. Примчался «джип», повернул, но он не подъехал к заправочной станции, а въехал прямо в гараж, и не успел Лот разглядеть четверых, сидевших в «джипе», — наверное, это солдаты, подумал он, солдаты, пришли солдаты, — как они исчезли под крышей гаража. Но это было еще не все. Теперь появились грузовики, огромные черно-серые шестиосные машины, битком набитые солдатами, которым каски и ружья придавали сумрачный вид; а потом принесся еще один «джип», обгоняя ползущую колонну, и на нем был красный флажок. Наверное, это был сигнал. Во всяком случае, машины, мимо которых проезжал «джип», тормозили, сворачивали с дороги, две свернули сюда, остановились на стоянке. С шумом опустился задний борт. Солдаты — трое, четверо, пятеро, и уже не сосчитать сколько — заполнили стоянку, каски сверкали на солнце, несколько человек потащили тяжелые пушки, или что это там у них было, — за угол стены, которая замыкала площадку со стороны шоссе, другие побежали через дорогу и скрылись за живой изгородью фруктового сада напротив. Потом вдруг все исчезло. Даже сами машины задом заехали под крышу гаража, кто-то что-то крикнул, громко, на всю площадку, и стало совсем тихо, и ничего уже не было видно — только несколько солдат лежат на земле, да несколько касок виднеется впереди, на углу, и напротив, в саду, и мотоцикл стоит у бензоколонки. Но и эти немногие солдаты, эти несколько касок, два-три ружейных дула, да раскорячившиеся пушки, или что это там было, придавали улице, стоянке и даже самому солнцу угрожающий вид.
Война, подумал Лот. Огонь, и бомбы, и дым. Танки. Холодок пробежал у него по спине. Стрельба и танки, думал он. Солдаты. И вдруг он пригнулся. Господи, как он мог забыть! Он вжился в теплый металл. Он же разбойник. Возможно, кто-то вызвал солдат. Разбойник на крыше гаража, у Пауля Мака, на заправочной станции. И вот они здесь и сейчас поднимутся наверх. Они заняли все выходы. У них пушки. А потом они спустятся к плотине и заберут остальных, Пауля и других, братьев Белартов и Томаса. И отнимут у них добычу — оранжевые надутые шланги, на которых мальчишки плавают по водохранилищу.
На мгновение перед ним возникло взбешенное лицо двоюродного брата Пауля. Вот так караульный! Не мог прибежать сюда раньше этих солдат и предупредить нас! Дождался, что его забрали прямо с крыши… Он боялся шевельнуться и даже не решался посмотреть вниз, на площадку перед заправочной станцией, которая стала чужой и угрожающей. Свист шлифовальной машины прекратился. Стали слышны странные, нежные звуки, издаваемые самой металлической крышей, тихое постукиванье, с которым, вероятно, ударялись об нее солнечные лучи; а может, это оттого, что под тенниской у Лота часто-часто колотилось сердце, в сгибе локтя, куда он спрятал голову, было багрово-темно. В нем поднималось какое-то ощущение, что-то давнее, о чем он не хотел думать, и что все же медленно переполняло его; чувство, или, может быть, мысль, или, по крайней мере, цепочка слов возникала в его мозгу. Солдаты. Заберут. Тюрьма. Разбойник за решеткой. Иди же! Отец. Отец сидит в тюрьме. «Я его найду, мне не придется больше стоять у стены и придумывать, как мне его повидать», — подумал он, и на мгновение он снова увидел перед собой отца, не представляя, что же произойдет, если они его заберут, и он проникнет в тюрьму к отцу, проникнет сквозь все решетки. Все его существо, и все, что он думал, и слышал, и обонял, удары сердца, и багровая тьма, и зной, и мерцание, и запах асфальта, черная поверхность дороги, выстрелы, танки и крик какого-то солдата, и оранжевые шины, и грохот плотины, и все эти машины, и Бенни, дядя, и мотоцикл NSU, решетки, и вдруг донесшийся до него голос тети — все потеряло свои реальные формы, превратилось в сверкающий серо-зеленый поток, и поток подхватил его и понес, в глубину, на самое дно, и все теперь вместе с ним неслось вниз, на самое дно, и закружилось в глубине, во тьме, в давней-давней огромной темной глубине, которая была — отец в тюрьме: подобно водовороту отец затягивал в себя крутящийся поток.
Лот вскочил. Он не заметил, как обжигает накаленное солнцем железо. Его босые ступни ступали по горячему металлу, шаг за шагом он продвигался к краю. «Позвать», — думал он. Всеми мускулами своей глотки он боролся против зажимов, не выпускавших его голос. «Позвать», — медленно думал он, но, как ни напрягались мускулы, как ни выгибался язык, не получалось ничего, кроме невнятного звука, тихого звука — солдаты, занимавшие свои позиции там, внизу, не могли его услышать. Они не посмотрели вверх. Они смотрели вперед, на дорогу, по которой медленно приближался «джип». Их каски были неподвижны, они и не думали подниматься на крышу и забирать его. Он попробовал привлечь их внимание круговыми движениями свободной руки. Неужели они не видят — он ведь хочет, чтобы они его забрали, он хочет в тюрьму, и неужели они не видят, что он здесь, теперь уже на самом краю, на карнизе? Одной рукой он держался за карниз, другая, свободная, в последний раз устало описала круг и опустилась. Он понял, что он один. Ничто не связывает его ни с этой стоянкой, ни с этими солдатами, ни с Бенни. Он один здесь, наверху. Один под солнцем.
«Джип» подъехал совсем близко. Теперь он выкинул большой зеленый вымпел. Это был сигнал. «Отбой!» — громко крикнул кто-то. «Джип» очень медленно проехал мимо и дальше вниз по дороге. По стоянке забегали люди. Выстрелы. Война и пушки, во всяком случае, две большие трубы, два солдата поспешно пронесли их из сада через дорогу. Внизу, в гараже взревели моторы, а потом прямо под ним из-под крыши выехали оба грузовика. Стоянка была полна касок, и винтовок, и солдат. Все бросились к грузовикам, солдаты взбирались через задний борт по двое, а наверху стояли двое и втаскивали их; вдруг стоянка опустела; самый первый «джип» выехал из гаража на дорогу; длинная жердь — возможно, это была удочка, а может, и еще что-нибудь, — раскачивалась у него сзади; он умчался. Тут тронулись с места и грузовики, и только тогда Лот увидел солдата, который стоял посреди дороги и махал, махал флажком грузовикам, чтобы они ехали, сначала первому, потом второму, и они укатили, а снизу по дороге ехали новые и новые, три, четыре, и еще гораздо больше, все битком набитые солдатами; они ужасно грохотали, и Лот не знал, сколько времени прошло, пока наконец мимо него не проехал последний в колонне участник этих маневров.
Наконец остался только солдат с флажком на дороге. Солдат посмотрел вверх. Один, подумал Лот. Он помахал ему, хоть и сам теперь уже не знал, зачем машет; все снова стало ужасно интересно, вот если бы только он мог рассказать об этом братьям Белартам, и Паулю, и другим, и Томасу! Он махал. Он неистово описывал круги в воздухе свободной рукой. Солдат подошел к бензоколонке и сел на мотоцикл. Но продолжал немного удивленно смотреть вверх. Видно было, как он резко нажимает на стартер. Когда мотор затарахтел, он подтянул ремень каски под подбородком, все еще глядя вверх. Теперь он смеялся. Судя по лицу, добрым он не был. Но он смеялся, тряс головой, а потом рванул с места, выехал на дорогу и помчался по направлению к большому шоссе догонять остальных. Но перед тем, как исчезнуть, он оглянулся, поднял руку и помахал. И скрылся из виду. Некоторое время еще слышалось тарахтенье мотоцикла. Тише, глуше, а потом все смолкло.
Все смолкло, кроме тетиного голоса, и Лот только сейчас снова заметил, что все это время, или, по крайней мере, довольно долго, ее голос доносился с другой стороны, из сада. Иной раз, особенно перед сном, тетин голос напоминал Лоту мамин. Но только не сейчас. Тетя что-то рассказывала, монотонно и, пожалуй, слишком громко, слов он отсюда разобрать не мог. Иногда в ее рассказ врывался другой женский голос. Лот прислушался: фрау Беларт.
Он отошел от края и вернулся на свое прежнее место на крыше. Теперь ему стало жарко, капельки пота сбегали по его шее. Стеклянное небо. Небо из стекла, а ветра никакого. Наверное, спит где-нибудь в горах, там, где эти деревни, в лесу. Лентяй этот ветер! А внизу, в мастерской, дядя начал стучать молотком. Молотком по металлу. Дядя ремонтировал заднюю ось «форда». Ноги жгло как огнем. Лот снова лег. Но крыша была чересчур горячая. Вставая, он вдруг услышал… Он застыл на месте и прислушался.
— …я даже думаю, он немножко ненормальный. — Это сказала тетя.
— Неудивительно, — сказала фрау Беларт, — как подумаешь…
Через край крыши Лот увидел голову фрау Беларт. Она стояла возле своего дома и поверх живой изгороди обращалась в сад. Тетя там, подумал Лот, у себя в саду, и они разговаривают через изгородь.
— А иногда, — говорила теперь тетя, — мне кажется, что он просто ужасно озлобленный.
Что сказала фрау Беларт, он не расслышал.
— Ужасно озлобленный, и он еще не произнес ни единого слова за все время, что он здесь. По-моему, он просто прикидывается немым. Но доктор сказал, что такое бывает.
— Неудивительно, — сказала фрау Беларт. Голос у нее был резкий. Лот еще больше пригнулся у края крыши. Он прислушивался.
— Он считает, что это от шока. Ведь когда случилось это несчастье, он был совсем маленький, — продолжала тетя.
— Я что-то не очень верю. — Это был голос фрау Беларт. — А как это произошло?
— Бедная Лена. — Теперь тетя говорила грустно. — Ну и человек! Я ей всегда говорила: Лена, этот человек на все способен.
— Вот что получается, когда не слушают добрых советов, — сказала фрау Беларт.
— После этого она недолго протянула, еще полгода прожила с детьми в Мизере и умерла, теперь она, бедняжка, лежит на кладбище. А этот негодяй сидит в тюрьме. Место коммивояжера он бросил еще раньше, и в конце концов мы отправили Бет к бабушке, а этот, он онемел, или, по крайней мере, притворяется немым, и я до сих пор не знаю, что правда, что ложь, такой он озлобленный.
Озлобленный, думал Лот. Все мерцало от жары. Запах асфальта. Запах гофрированного железа. Негодяй, думал он.
— Отдать, когда Ферро выйдет? — спросила тетя. — Боже упаси!
— Берете на себя большую обузу, фрау Мак. А долго ли, — спросила фрау Беларт, помолчав, — ему осталось сидеть?
— Да уж не меньше трех лет.
И снова голос фрау Беларт:
— Ну что ж, я вам одно могу сказать, фрау Мак: перемелется — мука будет. Надо этим утешаться.
Лот больше не чувствовал жара железной крыши. Он снова лежал на животе и сквозь герань смотрел на стоянку. Но ничего не видел. Не видел даже Бенни, который вышел и снова понес к заправочной станции ведро мыльной воды. Он думал про мельницу, которая мелет и мелет зерно, чтобы из него получилась мука, он слышал, как глухо стучит мотор, приводящий в движение жернова, он думал про тюрьму и про три года, машинально следя глазами за «фиатом», подъехавшим и остановившимся у бензоколонки. Было почти совсем тихо. Тетя и фрау Беларт больше ничего не говорили, возможно, они уже разошлись по домам. Бенни держал заправочный шланг и смотрел на счетчик. Негодяй, продолжал думать Лот, и он едва взглянул на мужчину и женщину, которые вылезли из «фиата»; неудивительно, думалось ему; теперь он не отрываясь смотрел на женщину, и вдруг он понял: это она, это женщина со светлой кожей и волосами как темный ветер, это определенно она, и она в точности такая же, какою он ее помнил, она красивая и страшная, рот у нее красный-красный, и лицо по-прежнему веселое, и отец сказал тогда «Марта», и его голос вдруг зазвучал глухо, и они подняли стаканы. Дым, и спелые яблоки, и земля, и асфальт, и гофрированное железо, и поток, уносящий его в глубину, на самое дно, и теплая герань. Это она. Она пришла.
Он вскочил. Побежал по покатой крыше. Торопливо лег на край; на этот раз он даже не воспользовался трубой, которая шла от крыши до самой земли, он лег, скользнув вниз, ноги его болтались в пустоте, потом, ухватившись руками за карниз, быстро соскользнул еще ниже и на мгновение повис в воздухе. Прежде чем выпустить карниз, Лот успел ощутить, как он выгибается у него под руками. И вот он уже опять вскочил на ноги. Он совсем не почувствовал, что сильно ушибся, и, обогнув гараж, бросился через сад к стоянке. Она пришла, думал он, и краска все сильнее заливала его лицо.
Когда он подбежал к колонке, она как раз садилась в «фиат». Хлопнула дверца. Заработал мотор. Он подбежал к окну. Он хотел ее видеть. Он хотел снова услышать, как она говорит. У нее было что-то общее с мамой, что-то такое, чем они обладали обе, она пришла из маминого времени, из времени задолго до того, как мама без движения лежала на лестнице. Из прежнего времени, когда он еще мог говорить. Она должна его узнать. Она ведь помнит тот вечер, когда он и отец пили вместе с ней. Издалека донесся ее голос: «Подожди здесь. Не бойся…»
Он постучал пальцем в окно. Приоткрыто было только маленькое окошечко впереди, а большое окно в дверце закрыто. Он постучал. Она повернула голову. Вот сейчас, подумал он. Попробовал засмеяться. Но он так волновался, что уголки его рта все время снова стягивались. «Да». Он кивал ей.
Тогда она подтолкнула мужчину, который как раз клал в кошелек деньги, и Лот видел, как она кивком указала на него. Теперь и мужчина посмотрел в его сторону. Оба они смотрели на него через окно. Лот предпочел бы, чтобы этого мужчины не было. Он кивал ей и тыкал пальцем себя в грудь: «Это я». Неужели она не понимает?
Он тяжело дышал. Теперь она вдруг рассмеялась. Он услышал ее тихий смех через переднее окошко, и вдруг большое окно стало опускаться. Он видел, что это она крутила ручку до тех пор, пока все стекло не ушло в дверцу.
— В чем дело? — спросил мужчина, нагибаясь к окну.
Лот приложил палец к губам и покачал головой. Ее глаза. Ее голая рука.
— В чем дело, да говори же. По-моему, он идиот, — мужчина коротко рассмеялся. Потом громко сказал: — Ну, до свидания. Теперь уходи.
А она:
— Чего тебе, малыш? — У нее теперь было то, серьезное лицо, но оно все-таки осталось немножко веселым, зубы у нее были белоснежные. — Ты скажешь мне? — Ее рука светилась.
«Если бы мне было чем писать». И он старательно сделал в воздухе рукой такое движение, как будто пишет. И кивнул.
— Чудной какой-то, — сказал мужчина. — Ладно, поехали дальше. — Он вынул что-то из кармана и протянул к Лоту руку. На ладони его лежала монетка в двадцать пфеннигов. — Бери и уходи.
Нет. Нет, только не деньги. Лот почувствовал, что сердце у него подпрыгнуло. Вдруг он почти забыл, почему он здесь стоит. «Убирайся отсюда, мужчина», — подумал он, но в это мгновение женщина вынула из сумочки карту, красную автодорожную карту.
— У тебя есть чем писать? — спросила она мужчину. Он достал из кармана пиджака шариковую ручку.
Она поняла его. Лот улыбнулся ей. Он сделал движение рукой, будто пишет в воздухе, и кивнул, и она поняла.
— Ты хочешь мне что-то написать, правда? — спросила она и протянула ему в окно карту и ручку. Лот взял то и другое и положил карту на радиатор. Рука у него сильно дрожала, но теперь это было неважно. Он медленно вывел: «Лот». Он видел, как оба с напряженным любопытством следят за ним через ветровое стекло. Потом он написал: «Ферро».
На буквы упала тень. Тень была огромная, и Лот, даже не оборачиваясь, догадался, что это дядя.
— В чем дело? — спросил дядя. Он взял карту у него из рук. Прочел.
— Ты что, с ума сошел? — прошипел он. Лот смотрел в землю. А потом на Бенни, который тоже подошел к «фиату», а потом на нее в окне.
Он услышал, как дядя говорит: «Извините, пожалуйста. До сих пор он никогда не позволял себе приставать к клиентам. Это… Это мальчик из беженцев. Вы ведь понимаете».
А она:
— Ну конечно, конечно. Но что же он хотел написать?
— Вот, — сказал дядя. — Я сам не разберу. Карту я вам, разумеется, возмещу. Такой идиотизм!
Женщина читала. А мужчина сказал:
— Ну, до свиданья. Нам надо ехать. — Мотор загудел. — Ну все, хватит тебе, поехали. — И в окно, дяде: — Ладно, это не имеет значения.
— Погоди! — Женщина все еще читала. Ее лицо едва заметно потемнело; подняв глаза, она пристально поглядела на Лота и тихо спросила:
— Это ты?
Но мужчина ничего не слышал. «Фиат» тронулся с места. Окно с женщиной медленно ускользало от Лота. «До свиданья», — сказал кто-то. Лота вдруг обдало ее ароматом. Она приблизила голову к окну. Лот прошел два-три шага рядом с машиной, он кивал: «Да, я». Он почти не чувствовал, как дядина рука схватила его за плечо. Он видел: теперь она узнала его. «Ты?» — сказала она еще раз, а потом «фиат» выехал за границу гравия, взвизгнули сцепления, машина быстро развернулась и умчалась в направлении города.
Лот стоял неподвижно. За ним — дядя и Бенни. «Она меня узнала. Теперь все хорошо. Возможно, он будет меня бить. Хорошо». Она была здесь, вот тут, перед ним, у бензоколонки. «Не бойся…»
— Надо же, что придумал! — Это сказал дядя. — Да ты просто идиот, в другой раз я тебе по заднице надаю, остолоп ты этакий!
Лот почувствовал, как дядины узловатые пальцы сжали его ухо. Он вздрогнул, но ничего не сделал, чтобы вырваться, и почти не ощущал боли от того, что дядя драл его за ухо: он стоял спокойно и смотрел вдаль, на поворот дороги. Дорога белела на солнце. «Хорошо», — думал он. Все мерцало, и в виске у него бился пульс. Дядины шаги удалялись в сторону гаража.
— Иди, Лот, — сказал Бенни. Новенький флаг компании «Шелл» безжизненно повис над головой у Лота. — Иди давай. — Шаги Бенни тоже удалялись в сторону гаража.
— Давай же, — сказал Бенни. — Давай пей. — Он поднес к его губам кружку. — Оно тебе на пользу пойдет, Немой.
Лот выпил. Это вовсе не Бенни, подумал он, и он вовсе не стоит на стоянке под новеньким флагом компании «Шелл», это Керер, и он принес из кухни чай, и нет больше ни палящего солнца, ни бензоколонок, он лежит на раскладушке и только сейчас увидел, что, оказывается, с него сняли ботинки и пиджак и укрыли его одеялом. А рядом стоит Керер. В руке у него кружка с чаем. «Теперь тебе уже лучше», — говорит он.
Лот сел.
— Пей, — сказал Керер. — Остальные вернутся через полчаса.
Издалека донесся рожок Ферро. Три долгих звука. Взрывная тревога.
— Последняя сегодня, — сказал Керер. — Через полчаса они вернутся, — повторил он. И потом: — Я поставлю твой чай сюда. Возьмешь, когда захочешь. Немножко ты подкачал. Ну да ничего, все придет в норму. Сейчас главное — отдыхай. Конечно, новичку такого сразу не осилить, — добавил он, выходя.
Лот сидел, скорчившись, на краю кровати. Пар поднимался из кружки ему в лицо. Он пил. Глухо хлопала парусина. А вот и взрывы. Три. Пять. Он прислушивался. Пять зарядов. Потом снова тишина; здесь, в бараке, было уже почти совсем темно. Перед ним на незанятой раскладушке лежали вещи отца. Хорошо, что они расстелили в ногах кровати его пиджак. Он весь мокрый. Под кроватью — его вещи. Чемодан. Ботинки. За ними — рюкзак. А за всем этим — пакет. Он осторожно поставил горячую кружку на пол. Как же он мог про это забыть? Он опустился на колени, согнулся и сунул руку под кровать. Шершавая оберточная бумага. Он попробовал поднять пакет за туго завязанную веревку. Пакет был тяжелый. И так темно уже было там, внизу, что вместо пакета он видел только светлое пятно. Он замер, настороженно прислушиваясь. Но все было тихо, если не считать неистового рева и этого хлопанья. Он знал, что там у отца. Он только сейчас понял, что знает это с того самого вечера. С позавчерашнего вечера. Но надо удостовериться. Это важно. Он вытащил пакет. Не обязательно развязывать и разворачивать его. Достаточно ощупать. Бороздки, ручка, крышка на коротком патрубке. Он нагнулся еще ниже и медленно понюхал пакет. Бензин.
Брайтенштайн (узкоколейка)
Кухня Керера помещалась в особом бараке. Он был гораздо меньше, чем жилой барак, и имел почти квадратную форму. Он стоял у самой дороги, метров на двадцать ниже ступенек, которые вели по откосу к жилому бараку, и Керер закрепил его от ветра веревками. Продукты он хранил в больших жестяных коробках; у него, конечно, всегда был запас мясных консервов и макаронных изделий, и риса — таких вещей, которые можно быстро приготовить на открытом огне. Он даже устроил что-то вроде водопровода, и было просто удивительно, откуда в нем постоянно берется вода. Отличная родниковая вода, и совсем рядом с кухней, она, бурля, текла из спускавшейся вдоль склона трубы в большой деревянный резервуар — нижнюю половину распиленной посредине огромной бочки из-под вина, которую Керер раздобыл у одного крестьянина. Над водопроводом он устроил парусиновый навес для защиты от дождя.
В тот ветреный, холодный вечер, который ты наверняка еще не забыл, было твое дежурство. Вместе с Керером ты вымыл котел и миски; вы убрали все кухонные причиндалы на полки, а потом ты вернулся в жилой барак. Когда ты вошел, в тамбуре рядом со своим NSU сидел Ферро; ты молча снял ботинки. Карбидная лампа у тебя над головой почти не давала света. Ферро копался в маслопроводе. «Каждый вечер одна и та же история, — подумал ты, — Ферро сидит на перевернутом ящике из-под консервов, во рту у него трубка, рядом разостлан кусок мешковины, на нем — инструменты, бутылка с политурой, а перед Ферро — мотоцикл, эта тяжелая допотопная машина, модель NSU, которая после войны уже почти не встречается: мотоцикл мягко поблескивает в свете лампы, начищенный и ухоженный непривычно бережными, заботливыми руками Ферро». Некоторое время ты наблюдал за ним.
«Это прямо-таки мания у Ферро, — думал ты, — и вдобавок еще Ферро в очках, вот что самое чудное. Он надевает их только вечером, только для работы с NSU и становится похож на старого часовщика».
— А чего ты все возишься с машиной? — спросил ты.
Ферро на мгновение поднял голову. Стекла очков лихорадочно блестели.
— Хочешь смыться? — спросил ты.
— Потом — да, — сказал он. И коротко рассмеялся. — А что? — Он вытащил свою маленькую фляжку и выпил. — Какое твое собачье дело? — пробурчал он, продолжая работать.
Ну и плевать. Он уже поддавши. Ты поставил ботинки в ящик и только хотел войти в комнату, где уже сели за карты, как за дверью раздались голоса. Это был Самуэль. Он сказал: «Брошу к чертям!», а потом, перед самой дверью, отчетливо: «Дай мне двух человек, или я не сдвинусь с места. Понял, Кальман? Двоих, или я вообще не поеду».
Он замолчал, или нет, просто ветер снова завернул вовсю, казалось, он топчет барак ботинками, подбитыми гвоздями, на минуту ветер заглушил голос Самуэля, а потом:
— …я еще вчера тебе говорил. А ты со мной не согласился. И сегодня мне пришлось-таки попотеть. Каждые триста-четыреста метров во-от такие глыбы, и один раз — настоящий оползень прямо посреди дороги. Я два часа разгребал это дерьмо лопатой. Так что подумай.
Дверь приоткрылась, и можно было ожидать, что они сейчас войдут, но тут Кальман проговорил, понизив голос:
— Постой! Послушай меня. — Дверь снова почти закрылась. — Закрой плотнее, — сказал Кальман.
И тут ты понял — что-то неладно. Помнишь, Брайтенштайн? Что-то неладно, и Кальман хочет, чтобы никто не знал, но ему не повезло, потому что тебе, конечно, стало интересно, и ты подошел к двери, а она, слава богу, была щелястая; ты стоял и подслушивал, а Ферро прекратил работу, выпрямился на своем ящике и тоже стал настороженно прислушиваться. И если слов Кальмана вы почти и не разобрали, то уж Самуэль постарался, чтобы каждое его слово было понятно, он расхохотался и сказал ехидно и очень громко:
— Строительное управление? Чушь! Оно про нас давно забыло.
Кальман спокойно:
— Не говори глупостей. Неужели ты не понимаешь? Мы должны закончить. Обеспечить доступ наверх.
— А что человек погибнет на трассе вместе с грузовиком, тебя не волнует? Ты сам придумал, что мы должны закончить. Никто этого не требует.
— Не так громко, — сказал Кальман.
И опять Самуэль:
— Нас отрежет. Увидишь, и трех дней не пройдет.
Тогда Кальман ответил (вы с Ферро теперь ловили каждое слово, не дыша, а в комнате — слышно было — уже началась игра):
— Ты сам привез сегодня остаток припасов, которые я заказывал. Теперь нам хватит надолго, и уж наверняка хватит, чтобы дойти до верха. Понял?
И Кальман засмеялся.
Но чувствовалось, что сам Кальман вовсе не так уверен. Самуэль помолчал, а потом снова заговорил:
— Забыли они про нас. Там один, который у них недавно работает, мне чуть ли не прямо признался. Во всяком случае, возразить мне он толком не мог. «Не вы первые», — сказал он, и чтобы мы, мол, пока занимались своим делом. И тебе тоже нечего возразить, когда я говорю, что мы все подохнем в грязи, здесь, наверху, если и дальше пойдет в том же духе, и что в строительном управлении про нас позабыли. Хорошо. Предположим, что ты очень здорово обо всем позаботился, и у нас хватит разных припасов, и неважно, даже если нас и отрежет. Но, — и теперь Самуэль понизил голос, — а шнур, Кальман, где ты возьмешь запальный шнур? Где ты его возьмешь? Смотри не прогадай, Кальман, — сказал Самуэль и добавил: — В общем, на завтра мне надо двух человек.
Потом он вошел в тамбур. Посмотрел на вас, сказал: «Безобразие!» — прошел мимо, открыл дверь в комнату, и его грузная фигура на мгновение почти целиком заполнила светлый прямоугольник дверного проема, заслонив лампу и клубы дыма, и голоса игроков. Кальман вошел вслед за ним. Он тоже посмотрел на вас, ты в это время набивал трубку. Ферро копался в мотоцикле; Кальман не прошел в комнату, он остался — ему, видно, очень хотелось выяснить, много ли вы поняли из разговора.
Ты спросил:
— Как там дождь, не перестал?
Кальман:
— Дождь… Кстати, Самуэлю нужны на завтра два человека. На трассе иногда попадаются камни. Возьмешь с собой Немого. Самуэль выезжает в семь.
Конечно, тебе это было кстати. Плохо ли — побывать в Мизере. Правда, спутника он тебе дал не слишком веселого. Ну что ж, завтра в Мизере, пока Самуэль торчит в управлении, ты будешь развлекаться в одиночку. Очень разумно со стороны Кальмана услать именно того, кто мог слышать его беседу с Самуэлем. Ты прошел в комнату.
И тут тебя снова бес попутал: ты остановился в дверях, посмотрел на товарищей, сидевших в дыму за столом, твой взгляд упал на Борера, и ты громко сказал: — Не украл ли кто из вас канистру с бензином? — Твой смех чем-то вроде грохочущего ядра прокатился по бараку. И ты так смеялся — ведь и вправду шутка была отличная, если знать Борера, — и производил так много шума, что совершенно не заметил, как реагировали за столом: только Муральт, и Гримм, и Шава коротко хихикнули, но тут же осеклись, взглянув на Борера. Борер вдруг так чудно побледнел. Видно было, как он втягивает носом воздух. То есть все другие видели это. Ты — нет. Ты гоголем прошелся вдоль скамьи, мимоходом хлопнул Борера по плечу, взял со стола бутылку пива, сковырнул большим пальцем весело щелкнувшую крышечку.
— Никто? — спросил ты, сделав первый глоток. Пивная пена осела на твоей верхней губе. — Надо еще спросить Ферро. Может, ему понадобилось горючее для его драндулета?
Строго между нами, Брайтенштайн. Неужели ты не заметил, какая ледяная тишина вдруг заполнила барак? Нет? Ты стоял такой развеселый и снова крикнул, на этот раз обернувшись через плечо:
— Эй, Ферро, иди сюда, скажи: куда ты девал эту растреклятую Борерову канистру?
И захохотал. Вот уж сейчас он был совершенно не к месту, твой хохот. Тем и закончился для тебя так приятно начавшийся вечер. Вряд ли ты толком запомнил, что было дальше. А было вот что. Борер был невелик ростом, но проворен. Во всяком случае, вскочил он проворно. И очутился перед тобой, едва ты успел отнять бутылку от губ. А рука у него оказалась тяжелая. Наверное, это последнее, что запомнилось тебе в тот вечер: что у Борера, влепившего тебе в челюсть, тяжелая рука. В твоих глазах появилось удивление. Потом ты отклонился назад, попытался защитить лицо, подняв левую руку, но, конечно, не успел. Борер был куда быстрее. Он ударил еще раз. Слева снизу. Твоя глаза осоловели. Удар справа, и тут же еще один прямой справа. Ничего этого ты уже не помнишь — ни своего тихого стона, ни глухого звука, с которым кулак ударялся о твое лицо, ни напряженного молчания остальных, которые тоже теперь все вскочили, но не успели даже сдвинуться с места, так быстро все кончилось. Ты повалился на пол. Твое длинное тело распростерлось у ног Борера. Он-таки послал тебя в нокаут. Об отсчете секунд не могло быть и речи, надо было просто унести тебя с ринга. Что и было сделано. А Керер сделал тебе примочку из воды, смешанной с уксусом.
Конечно, тут же начался шум. Тебя честили будь здоров, Борера — тоже. Обычно бывает так: шум, гам, все кричат наперебой, но скоро успокаиваются и усаживаются в последний раз перекинуться в картишки. Но на этот раз, Брайтенштайн, в то время как ты начал снова подавать признаки жизни в виде хриплого дыхания, а остальные еще доругивались, и Кальман при общей поддержке распекал Борера, который снова сидел на своем месте за столом, бледный, глядя прямо перед собой — на свой стакан, в то время как небо впервые за много дней немножко прояснилось (только осенний ветер не давал покоя, воя над крышей), и в то время как Ферро — этого не видел никто — спокойно и в легком подпитии сидел в тамбуре перед своей машиной, тихий, полупьяный, старый, в бараке вдруг снова возникли грозовые разряды. Спорить вскоре перестали. Стало тихо. Но не в этом было дело. Дело было именно в грозовых разрядах, хотя вряд ли кто-нибудь из вас мог бы в точности определить, в чем они заключались, эти искры, которые угрожающе потрескивают в воздухе, когда собираются вместе двенадцать мужчин, и все не в духе. Да, это не в печке потрескивало, хоть она и разгорелась, потому что Гримм подложил еще дров, оставив заслонку открытой; атмосфера сгустилась не из-за дыма трубок, хоть он и плавал в жарком воздухе такими густыми клубами, что нельзя было разглядеть сидящего за столом напротив. Одному небу известно, откуда взялась эта растреклятая атмосфера. Но никуда не денешься — она была, и все ее чувствовали.
Ферро делал вид, будто ничего не слышал. Теперь ты знаешь, как ты был близок к истине. Тогда ты этого, конечно, не знал. Ты трепался просто так, хотел немного поднять настроение своими остротами. Ферро, тот, конечно, знал. Впрочем, знал и еще один человек. Все это время он безмолвно сидел рядом с Гаймом, погруженным в свою чудную книгу, сидел на самом конце скамьи, там, куда уже не падал свет карбидной лампы. Никто не видел, как он весь оцепенел от твоей остроты. Как впился в тебя взглядом. Краска залила ему шею и уши, и затылок, и щеки, виски и лоб и забралась под волосы, так что засвербила кожа на голове. Если бы кто наблюдал за ним, то заметил бы, какие он прилагал невероятные усилия, чтобы казаться равнодушным. Его выдала бы краска и медленно и напряженно сокращавшиеся мускулы лица и шеи. Но никто не смотрел на него, и даже Гайм едва ли что-то заметил, когда он немного погодя встал и одним из первых в этот вечер улегся на раскладушку.
Ну а Ферро? Когда все затихло, он поднялся и бесшумно, слегка пошатываясь, вышел из барака. Даже не взял с собой фонаря. Луна, как матовая лампа, освещала откос и верхушки деревьев. Дождь перестал. Внизу слабо поблескивала металлическая крыша кухни. Круглое окошко тускло светилось. Наверное, Керер решил вскипятить еще немного воды. «Проклятый ветер», — пробормотал Ферро и, отбрасывая короткую тень, направился к насыпному откосу. Помочился.
Возвращаясь, он увидел его. Он двигался на фоне светлой стены барака вперед-назад, вперед-назад. Ферро подошел ближе. Что-то тут неладно. Но Ферро не испугался. Он подошел прямо к нему. Только поднял руку, защищая лицо. Чтоб удар не застал его врасплох. Споткнулся о ступеньку, остановился. «А ну давай», — сказал он. Ферро совсем не был испуган. Кто-то тут, значит, шныряет.
«А ну давай», — повторил Ферро и услышал, как тот тяжело дышит у самой стены барака, рядом с дверью. Он не знал, кто бы это мог быть. Он только смутно чувствовал, что знал его когда-то раньше, этого типа у стены, который сейчас бросился на него, отступил назад, и тут же снова кинулся огромной тенью, — и Ферро замахнулся. Тяжело обрушился на него. Нанес удар, пошатнулся, попал в цель; он наверняка попал в него, прямо в его призрачное лицо. И тут стена затрещала, Ферро потерял равновесие, хотел ухватиться за оконный переплет, не смог и упал. Много раз пробовал встать, но безуспешно. И старался сообразить, что же произошло, отчего он вдруг оказался тут, у стены барака, в мокром дерьме. Все кружилось перед глазами. А правая рука будто затекла, и словно бы ее все время быстро-быстро покалывают шилом. И плечо болело.
— Вон отсюда, — сказал он, — вон отсюда, сука.
Он сделал над собой усилие. Он должен подняться. Представляешь, Брайтенштайн, как он упирается в стену и пытается встать, но тень, и стена, и матовая луна — все плывет у него перед глазами?
— Что с тобой? — спросил кто-то.
— Вон! — крикнул он.
— Давай берись, — сказал Керер.
Теперь Ферро уже ничего не понимал. Над ним склонилось лицо Керера, это не иначе как Керер, а теперь подошел еще и Муральт. Они подняли его на ноги.
— Ну и надрался же ты опять! — Они поддерживали его. — Лучше тебе? — спросил Керер.
Половина его лица освещалась луной, другая была в тени.
— Не очень-то опрятно ты выглядишь, — услыхал он теперь голос Муральта.
— Там, — выдохнул он и попытался немного отойти от стены, чтобы показать им, где именно он шныряет вокруг барака. — Вот, видишь? Сука! Хотел меня…
Муральт и Керер переглянулись.
— Где ты его видел? — спросил Керер.
— Что?
— Я спрашиваю, где ты его видел?
— Здесь, — сказал он и показал им, как он спускался, — здесь на стене.
Они посмотрели на стену, на него, снова на стену. На стене увидели только расплывчатую тень дерева. Огромная тень двигалась вперед-назад, вперед-назад.
Вот как было дело, Брайтенштайн. А ты в это время благодаря Бореру крепко-крепко спал и не видел снов. Ты спал так крепко, что Самуэль на следующее утро с большим запозданием, только часов в восемь, смог отправиться в путь. Ты сидел в кабине, а в кузове Немой.
Шестая ночь
Да, Немой; и Лот радовался, что ненадолго покинет стройку, барак и эти шумные деревья. Впрочем, деревья изменились. Особенно здесь, внизу. Когда Лот проезжал здесь в прошлый раз, деревья были покрыты пестрой листвой, а теперь почти все листья оборвал ветер. Деревья казались истощенными, и бурые, и черные листья лежали под дождем на дороге, и шины оставляли на них широкие блестящие следы.
Хорошо, что они с Брайтенштайном поехали. Без них Самуэль потратил бы три часа на расчистку одного того отрезка дороги перед крутым спуском. Да и дальше внизу потерял бы много времени. А так дело шло довольно быстро, оба они бежали перед грузовиком, убирали с дороги каменные глыбы, а Самуэль медленно ехал за ними. Потом, когда пошла более чистая дорога, они стояли на подножках и спрыгивали, только когда видели завал. А начиная от развилки, на последнем отрезке дороги, никаких завалов не было.
Дома. Первые дома Мизера. Лот узнал их. Они появлялись справа и слева и постепенно выстроились в две длинные шеренги, укрывшись от ветра за кабиной, он заглядывал в маленькие палисадники, иногда до него доносились голоса — это переговаривались в кабине Самуэль и Брайтенштайн, — и Лота, правда же, не очень огорчало, что он сидит один на ящике; от дождя его защищал кусок брезента — настоящая плащ-палатка, и каска, которую дал ему Кальман, тоже была на нем.
Здесь не пахло лесом. Не пахло взрывами и бараком. Пахло улицей. Дождем и улицей, асфальтом, домами, Мизером. Лот узнал этот запах. Узнал он и улицу, по которой они проезжали, эту очень длинную, прямую, как стрела, улицу, — сейчас будет угол, на котором он тогда стоял, и все почти так же, только что воздух сейчас не мерцает от зноя, и движение довольно оживленное — машины, туристский автобус на стоянке, мопеды, а на тротуарах люди, не так, как тогда, — пустая, прямая улица, ведущая в никуда, и только отец с двумя чемоданами выходит из двери и входит в следующую.
Потом они проехали гараж. Лот узнал и его. Здесь красили автомобили, и ему вспомнился Бенни, который тогда взял его с собой. «Лот, — сказал Бенни, — завтра я еду в Мизер. Можешь поехать со мной, если хочешь».
Наверное, Лот задремал; когда Самуэль закричал: «Вылезай!», он вздрогнул и быстро перелез через борт. Брайтенштайн уже вылез из кабины.
— Ну, Немой, я смываюсь, — заявил он. — Я пошел. Лот кивнул.
— У меня тут есть кой-какие делишки. Ну пока, Немой.
Лот услыхал смех Самуэля. Брайтенштайн остановился.
— Что? — спросил он Самуэля.
Самуэля было не видно за машиной. Лот слышал только, как он засмеялся и крикнул:
— Смотри в оба!
Теперь засмеялся и Брайтенштайн:
— На что смотреть?
— Ну там, куда ты идешь, — крикнул Самуэль.
— А ты откуда знаешь, куда я иду?
— Не прикидывайся. — Самуэль подошел к ним. — Во всяком случае, — сказал он, продолжая смеяться, — ты идешь на ту сторону. — И, повернувшись к Лоту: — Спорим, Немой, что он пойдет на ту сторону?
Лот не понимал, о чем говорит Самуэль. Но тоже на всякий случай засмеялся и, чтобы показать, что он в курсе дела, подмигнул.
Теперь оба громко расхохотались.
— Вот видишь, — закричал Самуэль, — он тебя тоже насквозь видит. Ну, иди развлекайся. И еще раз повторяю, — он так хохотал, что едва можно было разобрать слова, — смотри не ошпарься! Помни! Обратно поедем в полпервого.
Они пошли; Самуэль через двор в старое здание (это было строительное управление, Лот узнал его), Брайтенштайн, минуя его, дальше. «Он идет на ту сторону», — подумал Лот. Он постоял, глядя вслед Брайтенштайну. «Он хромает», — думал он. Лот заметил это только сейчас, только здесь, глядя, как Брайтенштайн уходит от него по плоской, ровной улице.
Он побрел в направлении гаража. Поплотнее завернулся в брезент — настоящую плащ-палатку на шнурах. Он не думал о том, как странно он выглядит в этом необычном плаще, да еще в защитной каске. Встречные велосипедисты, проехав, оборачивались, несколько женщин, шедших по улице с хозяйственными сумками, тоже оборачивались, а иногда и останавливались, чтобы как следует рассмотреть его и поглядеть, куда он пойдет. А потом перед ним снова оказался переулок, где тогда стоял мотоцикл, и он снова увидел все — угол, и велосипеды, и мальчишек на сверкающих колесах, и резкую границу тени, которая придвигалась все ближе; на мгновение он снова ощутил запах реки и свернул на запах, навстречу запаху; он вспомнил, что тогда ему хотелось спуститься к Ааре, но надо было стеречь мотоцикл и ключ, и поэтому он остался здесь, на углу.
Все выглядело почти так же, разве что стало чуть меньше: узкая мощеная улица начиналась далеко внизу, у моста, и тянулась вдоль реки, сараи загораживали реку, скудная, грязная трава росла перед сараями, а позади них был ржавый забор из проволочной сетки, в дыры которого, наверное, ночью пролезали рыбаки, потому что ловить рыбу здесь запрещено, — все, и, наверное, сама вода, которую отсюда не было видно, выглядело почти так же. Вот сюда они въехали на мотоцикле, отец и он, и вниз по этой улице покатили, возвращаясь домой. Мимо того самого места, где он сейчас переходит улицу, чтобы выйти к реке, они проезжали на велосипедах и тогда, с Бенни. Он хотел тогда остановиться здесь, но Бенни сказал: «Поехали», потому что им надо было в мастерскую, где красят автомобили.
Он перешел улицу. Здесь пахло рекой, угольными сараями, ржавчиной, дождем, битым стеклом, глухой крапивой, подорожником, камышом и Ааре. Чуть-чуть пригнуться, повернувшись боком, подобрать полы плащ-палатки — и вот уже пролез сквозь дыру в ржавой проволоке и вышел на берег. Вдоль берега протоптана тропинка, земля здесь смешана с речным песком, растет чертополох, частуха, маленькие кустики подорожника, шлемник, фиолетовые цветочки которого давно опали, а пониже, уже к самой воде, камыш. На листьях камыша маленькими шариками висел дождь. Шарики желто-черного мрамора — желтого от реки, которая беззвучно струится позади. Желтая река вздулась. Не блестела. Некоторое время Лот шел вдоль берега. У стены одного сарая валялась ржавая бочка из-под смолы, он прошагал сквозь крапиву и уселся на бочку. Огляделся. Кругом безлюдье и тишина. Только дождь шуршит в крапиве и на крыше у него за спиной. Да порой шушукается камыш. И больше ничего. Вдруг совсем близко раздалось «дрррит-дррит». На голом берегу метрах в десяти вверх по течению сидел черно-бурый пятнистый улит [2] и обращал к мимо текущей воде свой зов. Лот поплотнее закутался в плащ-палатку. Иногда с противоположного берега на поверхность воды садился дым из труб красильной фабрики, потом его сгонял резкий порыв ветра, который вскоре долетал и сюда, заставляя с шуршанием склоняться погруженные по пояс в воду невысокие камыши.
Чем дальше Лот смотрел сквозь камыши на воду, тем более отчетливо вспоминался ему Бенни и как они вместе ездили в мастерскую, где красят автомобили. Бенни затормозил у входа и слез. «Пойдем, — сказал он, — ты можешь подождать внутри». Но Лот не хотел ждать внутри. Всю дорогу, может быть, еще со вчерашнего дня и почти всю ночь он думал о том, как бы ему уговорить Бенни поехать с ним к тюрьме. Бенни стоял и смотрел на него странно задумчивым взглядом, какой у него иногда бывал, а потом вошел в мастерскую. Но Лот и сам знал, где тюрьма. Отсюда можно было даже спуститься на лодке, если она здесь найдется, вниз по желтой, вздувшейся реке, туда, где справа и слева нет уже больше ни фабрик, ни красивых домов, ни мостов, ни казарм, чистое поле, и только справа, на том берегу, у самой воды — тюрьма.
Лот подогнал лодку к берегу. Услыхал скрежет киля по песку. Вылез. Вот она, тюрьма. Она отчетливо вырисовывалась перед ним, высокие, недоступные стены с вделанным поверху в бетон битым стеклом, колючая проволока, за ней черно-серый фасад, зарешеченные окна, тишина. Тишина, и никто не может ни войти, ни выйти. Он поднялся по откосу. Остановился наверху у ворот. Да, вот она какая, тюрьма. В точности такая, как он себе представлял: серая и безмолвная. Вот сюда-то ему и надо. Времени хватит, Бенни наверняка еще не освободился. Он подошел совсем близко. Ворота были закрыты. Конечно, их закрыли, чтобы никто не мог войти. Проще всего было бы, если бы его все-таки забрали тогда солдаты; но если немножко подождать, возможно, кто-нибудь выйдет.
Он заглянул сквозь железные прутья во двор, обвел взглядом стены, посмотрел вверх, на решетки в окнах. Он там — Лот вдруг вспомнил, зачем он пришел сюда; там, за одной из этих решеток, подумал он, и, может быть, даже цепью прикован к стене, и на шее у него деревянный ошейник, тюремщики не спеша избивают его кнутом. На мгновение Лот увидел перед собой тюремщиков. Они смеялись. Его бросило в жар. «Я войду, — подумал он вдруг. — Я не я буду, если не войду». Он вздрогнул. За его спиной сигналил автомобиль, вот он поравнялся с ним, остановился перед железными воротами. Снова дал гудок. Новый серый автофургон марки «VW». Он сверкал на солнце. И тут во дворе раздались шаги. Лот вжался в стену. Ключ заскрежетал в замке, и железные ворота распахнулись. Автофургон проехал мимо, шофер даже не взглянул на него, машина медленно въехала в ворота, остановилась, тюремщик вскочил на подножку (это было слышно), и машина поехала дальше. «Вот сейчас я войду!» Лот рванулся вслед за машиной. Но автомобиль ехал слишком быстро, расстояние между ними все увеличивалось, он свернул налево и уехал, а Лот замедлил темп и вскоре остановился. Стены, широкий двор, а метрах в семи от Лота, справа, другие железные ворота, поуже, и даже отсюда видно, что за ними еще один двор.
Он медленно подошел ближе. Автофургон исчез из виду. Пустой, залитый солнцем двор. Только его собственная тень двигалась впереди него. Еще не дойдя до решетчатых ворот, он увидел людей. Двое, трое, четверо, еще и еще, они шли по ту сторону решетки, метрах в трех от нее, друг за другом, но на довольно большом расстоянии, каждый сам по себе. Так тихо, так удивительно медленно они шли, и такие чудные были на них черно-серые полосатые костюмы, что Лот ускорил шаг и не решался смотреть ни вправо, ни влево, пока не добрался до ворот. Прижавшись к стене, он заглянул через решетку во двор.
Вот они. Оказывается, их очень много, они идут и идут мимо ворот и дальше, описывая большую дугу вокруг газона посреди двора; обойдя его, движутся в обратном направлении и исчезают за столбом ворот. Жутко смотреть на них. И они, оказывается, не так уж похожи друг на друга. Один очень маленького роста, у другого — он как раз сейчас проходит мимо Лота — белые, очень коротко остриженные волосы. Коротко острижены они все. Впереди — долговязый, идет, скрестив руки на груди, и смотрит себе под ноги. А перед ним еще один, и это отец, Лот знает это, хотя видит только широкую спину, и затылок, и обритую голову, он знает это, и затаив дыхание он смотрит ему вслед, и теперь уже уверен; это он, это он, стучит у него в голове, он здесь, вот он идет, тихо и медленно, он уходит; дрожь пробегает по телу Лота, но он ничего не может, только стоять и смотреть сквозь прутья, как отец уходит все дальше, вот он уже на другой стороне. Он еле расслышал, как кто-то позвал: «Лот!» и еще раз громко: «Иди же, Лот», он даже не оглянулся, и только когда отец поднял голову, и вдруг остановился, посмотрел сюда, его охватил ужас, и он помчался обратно.
Ворота были закрыты. Снаружи стоял Бенни. Подбегая к воротам, Лот увидел еще тюремщика, который подходил справа.
— Эй, ты, постой, — сказал тюремщик, когда они встретились у ворот, — откуда ты взялся?
Лот посмотрел на него, потом на Бенни.
— Откуда ты взялся?
Тюремщик вставил ключ в замок, но не открывал. Лот чувствовал его взгляд.
— Вы не знаете, случайно, как он сюда попал? — спросил тюремщик у Бенни, который стоял снаружи.
Бенни медленно покачал головой.
— Случайно, — сказал он, — нет, не знаю. Но он не может говорить. Он немой. Это мой мальчик. И звонил я.
— Скажите лучше, что у него не все шарики на месте, — произнес тюремщик и посмотрел на его голову.
Потом он приоткрыл ворота.
— А вы, — сказал он, — приглядывали бы за ним. Мало ли что может случиться. Наверное, прошмыгнул за машиной с овощами. Верно? — спросил он у Лота.
Лот кивнул.
— А теперь убирайся, — сказал тюремщик.
Лот вышел.
— Иди давай, — сказал Бенни, и все исчезло, только вздувалась желтая река, и шуршал дождь, и улит громко хлопал крыльями в воздухе.
Порывы ветра все еще гнали вниз дым красильной фабрики, и Лот почувствовал запах пережженного клея. «На ту сторону…» — в его памяти промелькнул смех Самуэля и его голос: «Спорим, Немой, что он пойдет на ту сторону?» За этим смехом скрывалось какое-то завистливое любопытство. Что там такое, на той стороне? Откуда Самуэль знал, что Брайтенштайн пойдет именно туда? Может, тут замешана какая-нибудь женщина, может, подумал вдруг Лот, Брайтенштайн пошел туда, потому что там та женщина, Марта, и Брайтенштайн пошел к ней. Он медленно сполз с бочки и направился дальше, задами сараев, старых складов и старых, покрытых пятнами сырости домов, дальше, по берегу, все ускоряя шаг, перешел на бег, побежал быстро, не стараясь держаться узкой, разрытой дождем тропы; он бежал, вытянув голову, все вниз, вниз по берегу. Он знал, что вскоре должен показаться мост. Мост соединял базарную площадь Мизера с Новым районом. Правда, Новый район уже тоже стал старым, но ту сторону продолжали так называть, хотя там только старые фабрики, и несколько мастерских, и пивные; еще несколько метров, и он увидел мост. Лот бежал, как бегун на длинную дистанцию, быстро и ритмично. Он откинул плащ-палатку. Снял и зажал под мышкой каску — так ему легче было взять крутой подъем. Он хрипло дышал, и его подбитые гвоздями башмаки твердо, ритмично и громко стучали по мосту.
Гримм (узкоколейка)
Дело было не в деревьях. Деревья те были в норме. Ты, конечно, прекрасно это знал. Но, как ни странно, все равно не мог отделаться от своего дурацкого ощущения. Это началось с утра, вскоре после того, как Самуэль на своем грузовике вместе с Брайтенштайном и Немым выехали в Мизер. Вы приступили к работе, ты и Луиджи Филиппис, Керер, Муральт и Гайм; из работающих на узкоколейке отсутствовал только Брайтенштайн; Борер дважды опорожнил ковш своего экскаватора в твою вагонетку, и теперь она была полна; ты подобрал лопатой просыпавшуюся щебенку и просто мусор, валявшийся поблизости от вагонетки, потом выбил колодку.
Узкоколейка короткая. Всего около сорока метров. Твоя вагонетка покатилась, ты, как всегда, стоял на раме, держа левую руку на тормозе. Легкого нажатия на тормоз было достаточно, чтобы сбавить скорость. Покачиваясь, ты не очень быстро, в нормальном темпе, выехал из зоны буровых работ, где тарахтели инструменты, и покатил вниз, навстречу ветру. И тут на тебя вдруг нашло, и ты подумал: деревья наступают на меня. Ты смотрел прямо перед собой поверх горки мусора, поднимающейся над краями вагонетки. Дождь хлестал в лицо, и тебе пришлось низко нагнуть голову, чтобы ветром не сорвало шапку. Но когда ты снова поднял голову, то ясно увидел: они наступают снизу, и слева — оттуда, где стоял барак, и справа. Разумеется, они надвигались невероятно медленно, но все же надвигались темной ревущей стеной. Стеной стволов, сучьев и неистово машущих веток. Они не только двигались вперед, но и все теснее сдвигались, по крайней мере внизу, там, где дорога терялась среди деревьев.
Конечно же, это обман зрения. Должно быть, он происходит из-за неверного освещения там, внизу. Вот видишь, Гримм, ты же это знал, но все-таки ты еще по дороге оглянулся разок, едет ли вслед за тобой Муральт; и когда ты нажал на тормоз и остановился, потому что доехал донизу и надо было опорожнять вагонетку, то оглянулся еще раз, надеясь, что Муральт уже едет. Но Муральт наверху еще преспокойно догружал лопатой свою вагонетку. Ты остался один. Правда, ты уже сотни раз оставался один здесь, внизу. Но сейчас все было по-другому: ты остался один на один с деревьями, а деревья медленно наступали на тебя.
Конечно, ты в это не верил. Деревья наверняка были в норме. Ты это знал. Не могут деревья приближаться, едва заметно и неудержимо. Ты опрокинул кузов у откоса и просто по чистой случайности еще раз взглянул вниз, на толстую сосну, росшую у самого откоса. Сейчас она стояла неподвижно. Слышно было, как она кряхтит, не желая сгибаться. Ну ладно, эта, по крайней мере, стоит на месте. Ты поставил кузов в прежнее положение. Теперь обратно. Только еще разок взглянуть. Но когда ты еще раз взглянул на сосну, ты снова почувствовал некоторую неуверенность. Правда, она неподвижно стояла на своем месте, а рядом и позади нее — сосны, и почти голые ясени, и буки, и все эти елки, и все равно она, казалось, приблизилась, чуть-чуть придвинулась, словно за этот промежуток времени украдкой сделала скачок вперед. Ты бросил тормозную колодку в вагонетку, согнувшись, тяжело уперся в нее обеими руками и погнал ее вверх по рельсам. Прочь отсюда, стучало у тебя в мозгу, прочь отсюда, наверх, как можно скорее к ним ко всем. Но уже шагов через двенадцать-пятнадцать ты остановился. Во-первых, ты вспомнил, что надо внизу подождать Муральта, потому что две вагонетки могли разъехаться только в самом низу, ну и, конечно, на самом верху; а во-вторых, было просто идиотством толкать вагонетку. Пустая она все же весила около шести центнеров. Итак, ты остановился, тяжело дыша. И оглянулся, просто так, неизвестно зачем. Правым плечом ты поддерживал вагонетку, а через левое оглянулся и ясно увидел, как они наступают. Сосна уже не стояла впереди других деревьев, остальные, шелестя, как обычно, — не сильнее и не слабее, — медленно надвигались сплошной стеной.
Когда ты вернулся наверх, ты весь взмок, и не только от дождя. Пот (или все-таки дождь?) градом катился по твоей шее на грудь. Наверное, ты не расслышал, что Кальман приказал сделать перерыв. А может, Кальман вообще велел прекратить работу и уходить? Ведь дождь лил теперь как из ведра. Да, конечно же, был приказ оставить рабочее место. Мимо тебя своим шикарным широким шагом прошел в сторону барака Луиджи Филиппис. «Шабаш!» — крикнул он и исчез за дождевой завесой. Моторы смолкли. Теперь мимо прошли Борер и Гайм. Треклятый дождь шумел, не давая разобрать, что они тебе кричат; ты быстро вставил тормозную колодку, остановил вагонетку и пошел вниз по откосу. Чудно было смотреть на Борера и Гайма, ковылявших впереди и пытавшихся перепрыгивать хотя бы самые страшные лужи. Ты радовался, что они идут впереди, а остальные позади тебя и что от деревьев тебя отделяет серая трепещущая завеса дождя.
Вскоре почти вся бригада набилась в тамбур. Облепленные грязью ботинки Луиджи Филипписа стояли у открытой двери в комнату, и слышно было, как потрескивает огонь, который он уже развел в печке.
— Ну хоть бы один! — сердито произнес Кальман за дверью и в то же мгновение вошел в тамбур вместе с последними — с Ферро, и Шава, и младшим Филипписом. Очевидно, они говорили о взрывах. Они внесли ящик со взрывчаткой, поставили его посреди комнаты, и Кальман носком ботинка откинул крышку. — Вот, полюбуйся, — сказал он.
— А откуда мне было знать? — возразил Шава.
Кальман:
— Не понял.
— Откуда мне было знать, что опять польет такой дождь? — сказал Шава. — А потом, Немой еще вчера оставил его открытым.
Ферро:
— Это ты брось!
Младший Филиппис нагнулся и вытащил два мотка шнура. Они промокли насквозь. На дне ящика поблескивала вода.
— А катушка? — спросил Кальман.
Младший Филиппис вынул и катушку.
— Вся вымокла, — пробормотал Ферро.
— А ну-ка, — сказал Кальман, — повесьте шнур над печкой.
Шава и младший Филиппис переглянулись.
— Да, да. Через час он высохнет. Можете дежурить посменно.
Филиппис и Шава понесли шнур в комнату.
— Ну и осел — оставить ящик открытым!
Шава появился в дверном проеме.
— Это ты про меня?
Кальман:
— Занимайся своим делом. Я не собираюсь здесь зимовать.
Шава побагровел. Хотел что-то возразить, но тут же исчез.
Снова наступила тишина, только деревья шумели да хлопала парусина. Вы подпирали стены друг против друга. Ты осторожно прислонился к мотоциклу Ферро, который стоял позади тебя, накрытый мешком. Ферро, правда, два или три раза взглянул в твою сторону, но промолчал.
Тишину нарушил Борер.
— Когда ты думаешь приступить?
Он не смотрел на Кальмана, а, наоборот, не сводил глаз с воды, которая натекла с ваших плащ-палаток и образовала лужицу вокруг ящика. Но все вы поняли, что вопрос обращен к Кальману и что речь идет о макушке.
— Скоро, — буркнул Кальман, — можешь не сомневаться.
По-видимому, ни у кого не было охоты продолжать этот разговор, во всяком случае, наступило необычно долгое молчание, а потом Кальман вдруг рассмеялся:
— Знаешь, Борер, мы наверняка сковырнем макушку скорее, чем ты найдешь свою канистру.
Но, кроме Кальмана, никто не увидел в этом ничего веселого. Все вы смотрели на воду, обтекавшую ящик, струившуюся к ямке, которую Ферро недавно выбил ломом.
— Одно могу тебе сказать, — отозвался наконец Борер, — если я поймаю того, кто ее спер, я ему все кости переломаю.
— Правильно, Борер, — сказал вдруг старый Муральт. — Не давай ему спуску. Кто ворует у своих здесь, в горах, тот подонок.
— Я его на тот свет отправлю, — сказал Борер.
И тогда ты, Гримм, сказал:
— Да что вы, ребята. Здесь у нас воров нет. Не верю я, чтоб кто-то ее спер.
А Керер, обращаясь к тебе:
— И главное, канистру с бензином. Добро б еще деньги, сотню — ну, это еще куда ни шло.
Борер:
— Как ни крути, а канистру сперли.
Глядя мимо Борера в окно, ты видел дождь, а за его завесой — смутные очертания деревьев. Интересно, продолжают ли они наступать, вдруг пришло тебе в голову; а что, если это правда и они наступают шаг за шагом, и в один прекрасный день снова будут стоять там, где стояли от века, и больше не дадут себя оттеснить, и уничтожат все, что вы сделали за все эти недели и месяцы? Кто знает, сколько их тут и сколько еще их подрастает позади тех, что окружают стройку, а ведь и этих не сосчитать! Кто из вас углублялся в лес дальше чем на несколько шагов?
— А вдруг это правда, — проговорил Муральт, — вдруг правда среди нас есть вор; как ты думаешь, Кальман, может, надо расследовать это дело?
И Керер:
— Да, смехом тут не отделаешься. Борер прав, что не хочет этого терпеть. Может, заявить в полицию?
— Да ну тебя, заткнись! На черта нам полиция! Или Борер потерял ее, тогда вопрос отпадает, а случиться такое может со всяким. Или Борер прав, и канистру украли, но тогда это касается только нас и больше никого. Дело ясное.
Борер:
— Я точно знаю.
А Кальман:
— И знаешь, кто именно?
А Борер на это:
— Нет.
— Вот то-то и оно! Так что хватит тебе.
— Главное тут вот что, — сказал вдруг Гайм, и все вы были поражены, что маленький Гайм вдруг подал голос, — главное, что если среди нас есть вор, — голос Гайма прямо-таки дрожал от возбуждения, — так неужели он не понесет справедливой кары?
Кальман в задумчивости посмотрел на него.
— Знаешь, Гайм, — сказал он, — уж на такую принципиальную высоту дело поднимать не стоит. Вы что хотите, — спросил он и по очереди обвел вас взглядом, — чтобы мы здесь устроили настоящее следствие, с перекрестными допросами, обысками и еще черт те с чем? Ну что мы можем сделать!
И тут раздался стук в дверь.
— Перестань, — обратился Кальман к Ферро, стоявшему рядом с Керером у двери.
— А я при чем? — пробормотал Ферро.
Он повернулся и открыл.
С твоего места дверь была не видна. Но вдруг стало так тихо, что шелест деревьев и хлопанье парусины заполнили тамбур, и сквозь этот шум детский голос произнес:
— Я ищу собаку. Овчарку. Может, кто из вас ее видел?
Ферро сказал:
— Погоди.
Он обернулся.
— Мальчик, — сказал он. — Ищет овчарку.
Вокруг ящика уже натекла целая лужа, и вода доставала своим длинным языком до неровного края ямки возле двери в комнату, где стояли Луиджи Филиппис и Шава. В печке потрескивало. Неистово хлопала парусина. Все молчали. Дверь за спиной у Ферро оставалась открытой.
— Зайди, по крайней мере, под крышу. — Кальман наклонился. — Давай заходи, — сказал он.
— Овчарку? — спросил Гайм.
Шава резко толкнул Гайма локтем.
Ферро и Керер немного посторонились; мальчика стало видно; он стоял у самого порога и смотрел на вас.
— Давай заходи, — пробурчал Кальман. — Заходи в комнату и посиди у печки, пережди хоть самую страсть.
— Самую страсть? — переспросил мальчик. В своем коричневом плаще-накидке и надвинутом на глаза капюшоне он был похож на гнома. Гном, заплутавшийся среди людей. Он как будто не совсем понял Кальмана; он все еще с сомнением смотрел на него.
— Давай, давай заходи, малыш.
Тогда он вошел, и Луиджи Филиппис вместе с ним направился к столу.
И снова все замолчали, и слышно было, как в комнате длинный Филиппис толкует с мальчиком. То есть Филиппис один говорил, все ему что-то втолковывал. Ферро открыл неплотно прикрытую дверь и вышел на порог. Его грузная фигура заполнила весь проем. Впустить немного свежего воздуха совсем не мешало. Правда, из двери потянуло холодом, но, по крайней мере, выйдет дым.
— Потише стало, — объявил с порога Ферро, он немного пригнулся и выглянул из-под крыши, верно, для того, чтобы посмотреть, все так же ли густые черные тучи проносятся над самым бараком, волоча за собой новые потоки дождя.
— Послушай, Кальман, — спросил ты, — может, ты расскажешь нам, когда ты собираешься закругляться?
И ты был прав, Гримм, — самое время было наконец выяснить этот вопрос.
— В июле нам сказали, что мы вернемся в Мизер в середине октября, не позднее, — негромко произнес Шава.
А Филиппис младший:
— Сегодня девятнадцатое.
Керер, громко:
— Дома нас ждут. Гримм прав, Кальман.
— Там, — сказал Кальман, — висит план. — Кивком он показал на стену позади тебя. И, не подходя ближе и, уж конечно, не различая деталей на таком расстоянии, он продолжал: — Видишь барак?
Да, конечно, барак был на плане. Черный прямоугольник, примерно пять на восемь миллиметров.
— Мы уже прошли на сто двадцать метров дальше. Я вчера отметил. Видите? Красная черта на четвертом от барака повороте дороги. Высоту перевала ты тоже видишь. Вот так.
— Ну а дальше что? — спросил Борер.
Кальман:
— Каждый может сам сделать вывод.
— Так ты считаешь, что мы хоть сдохнем, а должны прежде, чем ляжет снег, соединиться наверху с той бригадой?
Кальман:
— А что тут считать? Те, кто идет с севера, давно на перевале.
Борер пробормотал:
— Скажи лучше: давно дома. А на северной стороне склон не такой крутой, и этого проклятого дождя там не было.
А ты, Гримм, добавил:
— И этой чертовой липучей глины тоже.
Муральт подошел к тебе. Через твое плечо он разглядывал план, висевший за твоей спиной.
— Я думаю, — сказал он, когда все замолчали, — я полагаю, работы тут числа до двадцатого ноября. — Он медленно повернулся. — Но снег, Кальман, снег пойдет раньше.
Кальман рассмеялся. Смех получился невеселый.
— Снег… Да бросьте вы. Надо работать, пока не дойдем до верха. Логично?
Было заметно, что он старается воодушевить вас. В воздухе запахло лозунгами вроде: «Не отступать, ребята! Не сдаваться! Вы же настоящие мужчины!» А ты, Гримм, ты заметил и еще кое-что: охота пропала у всех. И у Кальмана тоже. И более того: Кальман боится. Боится оползней, и макушки, и снега. Взглянув в лицо Муральта, вы увидели снег: аспидно-серые тучи стеной за голыми, истощенными деревьями, глухой свист в воздухе, и снег. Он сыпал в комнату жирными хлопьями все гуще, заслонив своей пеленой старое серое лицо Муральта. Снег все шел и шел; он беззвучно окутал Муральта, безмолвно покрыл своей стылой известковой штукатуркой и откос, и щебенку, и экскаватор, и компрессор, и лужи, похоронил под известковым саваном все, что еще оставалось живого.
По чистой случайности ты взглянул на Шава. Шава стоял у косяка внутренней двери. Помнишь, Гримм, — стоял и таращил глаза. Так таращит глаза кошка, которую несут топить: она вцепилась в камень, который положили в мешок вместе с ней, и чует, что вот-вот появится вода, появится и заполнит мешок, и сверху мешок завязан, и вместе с камнем и с ней, кошкой, пойдет ко дну. Она ждет и таращит глаза. Шава не видел тебя. Наверное, он видел только все эти чудные вещи, может, даже и не связанные между собой: овчарку, ручьи в раскисшей глине, макушку, канистру с бензином, снег, деревья — эти деревья, которые и на него тоже наступают. Может, он видел еще окно барака, ночью, когда в свете карбидной лампы на нем вспыхивают золотом дождевые ручейки, и мальчика в плаще-накидке; может, он еще и слышал, как тарахтят буры, и рожок Ферро подает сигнал, и потрескивает шнур, и ночью хлопает парусина под ударами ветра, и кто-то стонет во сне; и может, он слышал голос Самуэля: «Пиши пропало, Кальман, я не могу проехать, нас отрезало…»
Да, Гримм, на мгновение у Шава появился этот чудной неподвижный взгляд, и челюсть у него отвисла. Ты не отводил от него глаз и никак не мог взять в толк, что с ним такое. Муральт, сказав про снег, продолжал совершенно спокойно:
— Видишь ли, Кальман, это дело с макушкой довольно-таки рискованное. И вот мы хотим знать, как ты его собираешься провернуть. Думаю, вы возьмете его на себя, ты и группа взрывников.
Из взрывников не присутствовал только Немой. Ферро, Филиппис, младший, Шава и Кальман были здесь. Ты украдкой взглянул на Ферро — какое впечатление произвели на него слова Муральта? Ферро их как будто вовсе и не слыхал. Он прислонился к стене своей крупной головой, полузакрыв глаза. Лицо его было неподвижно, только вдруг едва шевельнулись губы, и он сказал негромко:
— Чушь. При чем тут взрывники? Всякий может заложить там, наверху, взрывчатку, поджечь и смотаться.
И тогда — ты помнишь, Гримм, — на Шава нашло. Он весь посерел. Он больше не таращился, а шарил широко раскрытыми глазами по вашим лицам.
— Нет, — сказал он тихо и часто-часто задышал, — нет, Кальман, — сказал он и вдруг отделился от дверного косяка, и скользнул в комнату, и потом вы услышали, как он тихо заплакал, а потом все громче: — Нет, я не могу, только не я, нет, нет…
Вы сгрудились у двери в комнату. Из-за плеча Керера ты видел, что Шава стоит на коленях у своей раскладушки и яростно запихивает вещи в чемодан и в рюкзак. Кальман спросил со зловещим спокойствием, как он иногда умел:
— Шава, куда это ты собрался?
Возможно, кому-нибудь из вас следовало тогда войти в комнату — Кальману, Муральту, а может, и старику Ферро. Войти, схватить Шава за грудки и, не говоря худого слова, врезать ему хорошенько по морде. Может, это привело бы его в чувство. Но никто не вошел. Как на грех, тут был еще этот мальчишка в плаще-накидке. Он сидел за столом у печки и — мимо Луиджи Филипписа — неотрывно смотрел на Шава.
Шава закончил сборы. Он встал, надел рюкзак на спину, поднял чемодан и, обливаясь потом, направился к вам. Он тяжело дышал раскрытым ртом. Ничего не говорил. Быстро подошел к вам, и вы непроизвольно расступились. Он смотрел невидящим взглядом; протиснулся через дверь и, спотыкаясь, вышел.
Вы все столпились у наружной двери и смотрели вслед Шава; рядом с тобой оказался Ферро. Ты обернулся к нему и хотел сказать: «Хоть бы попрощался», но осекся, увидев его лицо. Подбородок Ферро подергивался; он сосал нижнюю губу, водянистые глаза сузились в щелочки и следили за Шава, который уже начал спускаться по дороге. На уровне кухни уже можно было только смутно различить огромный рюкзак, который быстро уменьшался и исчез в сумеречном лесу. И хотя теперь ничего не было видно, лицо Ферро продолжало беспокойно подергиваться, он по-прежнему вглядывался в откос. Он, можно сказать, инстинктивно сунул руку в карман и вынул фляжку, его палец, казалось, независимо от него, сковырнул крышку, а потом на тебя пахнуло резким запахом спиртного, и Ферро стал пить.
— Ну ладно, давайте работать, — сказал Кальман.
И правда, дождь почти перестал, лишь чуть-чуть моросил, вы разобрали свои каски и плащ-палатки, и мальчик вышел вместе с вами. Он шел за вами метрах в пятнадцати, потом стал отставать, и под конец вы услышали его тихий свист в лесу. Несколько протяжных свистков, они быстро удалялись, становились тише и вскоре совсем смолкли. А если и не смолкли, то их нельзя было расслышать здесь, наверху, где снова тарахтели буры и мотор экскаватора шумел, поглощая все другие звуки опять такая чертова трескотня стояла, что ты был просто счастлив уехать от всего этого на своей вагонетке. Ты пустил ее во весь опор, притормаживая только перед стыками. Ну и, конечно, затормозил в самом низу. Нужна сноровка, чтобы при таком уклоне как раз вовремя остановить доверху нагруженную вагонетку. Интересно, видел ли Муральт, как чисто ты это сработал. Ты оглянулся. Но Муральт все еще догружал свою вагонетку. Тогда ты стал смотреть, как щебенка сыплется вниз по склону. А когда ты потом поставил вагонетку на место, ты вдруг снова увидел деревья. Они медленно-медленно наступали на тебя.
Седьмая ночь
— Нет, — сказал Самуэль со своей койки, — мы не видели Шава.
Брайтенштайн расхохотался.
— Да ну его! Баба с возу — кобыле легче. Главное, что мы весело денек провели. Верно, Немой?
Лот стоял у своей раскладушки. Он расстегивал рубаху. «Весело», — подумал он. Он засмеялся, вернее, сделал попытку засмеяться, потом кивнул: «да», а Брайтенштайн, который сидел на столе и собирался стаскивать носки, снова расхохотался. Рядом с ним за столом Керер, младший Филиппис, Кальман и Гримм еще играли в карты. Позади, на границе освещенного пространства, сидел Гайм. Он читал свою маленькую затрепанную книгу. В тамбуре — Лот знал — возился отец, остальные, завернувшись в одеяла, уже лежали на своих койках. Хотя в комнате было холодно — печурка почти погасла, и больше никому, видимо, не хотелось подкладывать дрова, — холодно и сыровато, Немой почувствовал, как жаркая волна поднимается в нем при мысли о сегодняшнем дне, проведенном с Самуэлем и Брайтенштайном внизу, в Мизере. Уже лежа в постели и натянув одеяло до подбородка, он услыхал словно бы издалека голос Брайтенштайна: «Кальман, ты в следующий раз опять нас пошли. Верно, Немой? Нас вдвоем, Кальман, Немого и меня. Мы опять поедем».
— Что же там было такого веселого? — спросил младший Филиппис; он выигрывал.
Брайтенштайн:
— Ты знаешь, что значит настоящая пышная блондинка?
— Такая, что путается с тобой? — сказал Керер. — Нет уж, спасибо!
Лот услышал, как за столом расхохотались. Брайтенштайн был в отличнейшем настроении. Он подошел к Самуэлю, который уже завернулся в одеяло, сел в ногах его раскладушки и закурил сигару.
— О-о, — простонал Муральт со своей койки; он потянул носом, принюхиваясь, и сел в постели. — Высший сорт, — сказал он. — Послушай, дай курнуть.
Брайтенштайн еще раз глубоко затянулся, потом протянул сигару Муральту.
— Курни, — сказал он. — А знаешь, это подарок.
За столом снова засмеялись. Младший Филиппис повернулся к Брайтенштайну:
— Здорово расщедрилась!
Самуэль:
— Посмотрели бы вы на него, когда он возвратился! Сиял, как солнышко. Брайтер, говорю ему, ты что, увидел пасхального зайца? А он мне: «Ах, Сами, у меня все горит!»
Теперь хохот заглушил даже гул за окнами и над крышей, и — Лот увидел это, чуть-чуть приподняв голову, — даже отец показался в дверях; похоже, он собирался что-то сказать, с вопросительным и усмешливым выражением, но его все равно не услыхали бы из-за шума, а сам Брайтенштайн тер глаза и смеялся громче всех. Луиджи Филиппис подскочил на своей постели. Он, наверное, уже успел заснуть. «Что случилось?» — закричал он и удивленно посмотрел туда, где в свете лампы сидел Кальман и колотил кулаком по столу, а Керер, закашлявшись, чуть не свалился со скамьи. Самуэль, который тоже сел в постели, по-видимому, пытался пересказать всю историю Ферро и старшему Филиппису, но всякий раз доходил только до «Ах, Сами!», и тут приступ смеха снова не давал ему говорить.
Лот снова лег. Он натянул одеяло на лицо. Издалека к нему во мрак проникали обрывки смеха, слова Брайтенштайна — «штанишки», «блондинка», а потом полупьяные голоса затянули песню про девчонку, которой не было и семидесяти, а Лот лежал тихо-тихо, он приложил к носу правую руку и медленно дышал через нее, потому что хотел снова почувствовать ее запах, ее буйный, незнакомый запах, запах женщины. Но рука больше не пахла ею. Запах потерялся в дожде где-то на дороге. И все-таки сейчас, на короткое мгновение, Лот ощутил его, он снова увидел перед собой Марту, — увидел ее и в то же время увидел себя самого бегущим по мосту, увидел, как дождь низвергается на мостовую, увидел ботинки людей, проходящих мимо или останавливающихся и глазеющих ему вслед; увидел ее и услышал ее голос, и в то же время услышал, как его подбитые гвоздями башмаки равномерно стучат по асфальту, услышал свое тяжелое дыхание и испуганный стук своего сердца; увидел ее вплотную перед собой, крупным планом, совсем вплотную у своего лица, и в то же время ее за стойкой, и она не узнае́т его, когда он входит; или до этого: он увидел ее через окно, снова заглянул сквозь ослепительное стекло в полутемный зал, так зорко, как только мог, обвел взглядом стены и пустые столики, и испугался, когда она вышла из двери в глубине, не замечая, что он стоит напротив, у окна, и зашла за стойку, и, кроме нее, в зале было еще двое, за столиком в углу, справа, он скосил на них глаза через стекло, встал на цыпочки, на улице, не обращая внимания на прохожих, убедился, что ни один из них не Брайтенштайн, и, отойдя от окна, прошел прямо через открытую дверь в коридор, а потом в зал; или после этого (но видел он все почти одновременно): он сам за столиком, она приближается, у нее все та же светлая кожа и волосы, как темный ветер, она по-прежнему страшная, с этими выпуклостями под блестящей блузкой — теперь Лот знал, что это грудь, — она приближается и не узнает его, и что-то говорит про дождь, Лот не понимает ее слов, и она спрашивает его, что он будет пить или есть, и, так как он молчит, спрашивает, светлого или темного, и, когда он наконец кивает, уходит от него — у нее тонкие лодыжки — к стойке, наливает в стакан пива, возвращается, говорит: «На здоровье», и, не глядя больше на него, уходит, и исчезает в двери рядом со стойкой, и всего лишь секунду он еще охвачен ее ароматом, а потом он снова один, один за столиком, но все же видит ее, ибо она постоянно с ним, так же как жаркое колючее шерстяное одеяло, и в то же время с ним и та минута, когда он не мог больше сдерживаться и схватил ее за плечи и рванул к себе; он видит ее, как видел ее перед этим, перед тем, как он внезапно встал и в голове у него была одна мысль: «И она тоже, и она не узнает меня», и, не обращая внимания на двух стариков за столиком у двери, он прошел мимо них и мимо стойки к двери, в которую она вышла, распахнул эту дверь и увидел ее: она стояла, опершись о кухонный стол, она даже не подняла глаз, она водила пилочкой для ногтей по кончикам пальцев, и негромко спросила: «Да?», и когда он ничего не ответил и подошел ближе, а сердце у него неистово билось от страха и ожидания, она подула на ногти и подняла наконец глаза; такою он тоже видел ее, вполоборота к нему, и в глазах ее теперь мелькнуло узнавание; и, по-прежнему съежившись под грубым одеялом и прижимая к лицу ничем не пахнущие ладони, он услышал ее голос, в точности такой, как тогда, у голубых бензоколонок, — она тогда спросила «ты?»; и теперь он увидел ее улыбающееся лицо, прижался к нему губами; а до этого увидел самого себя, или, вернее, ощутил себя перед ней, — он и она теперь одни здесь в кухне, — и он увидел, как она рассеянно огляделась вокруг, как медленно подошла ко второй двери, открыла и, не волнуясь, выглянула, посмотрела налево, потом, сквозь щель у отворенной двери, направо — нет ли кого в темной передней; потом вернулась, двигаясь медленно, словно бы лениво, подошла ближе и тихо сказала: «Пойдем», и пошла впереди него, к третьей двери, и через нее в комнату, где стоял старый диван (не то небольшую гостиную, не то спальню); он увидел ее вплотную перед собой, как видел все это время, и одновременно увидел ее посредине комнаты, — она стоит и ждет, вполоборота к нему, — и увидел и ощутил самого себя, как он медлит закрыть дверь, и снова услышал ее голос, негромкий и тогда еще не враждебный: «До чего же ты грязный»; он видел ее и то, как она скользнула взглядом по его брюкам до промокших грязных горных ботинок и слышал слова, которые она произнесла, отходя к окну: «Нет, надо же, до чего грязный! Чего тебе? Ты его нашел?», и когда она снова посмотрела на него, он отчетливо прочитал ее мысли: «Господи, чего еще ему надо?! Что он себе вообразил?! Ведь я сказала ему все, что знала. Ведь он был здесь две недели назад, сперва месяц назад, а потом еще раз две недели назад, вошел, дошел до кухонной двери, и мне пришлось задавать ему вопросы, пока не выяснилось, что он хочет знать, где старик. Разве я не сказала ему все? Сказала: где-то там, на какой-то стройке, вряд ли в самом городе; скорее в окрестностях, на строительстве дороги. Нет, сам он здесь не был. Я случайно услышала, как про него говорили. Посетители, тоже дорожные рабочие, что-то про него рассказывали. Разве я не сказала ему все? Чего еще ему надо? Господи, разве я виновата? Это же все быльем поросло: этот давнишний случай, когда мы танцевали! Я его от души пожалела тогда, этого парнишечку. Сколько ему было, семь? Кажется, он сказал, что ему семь», — он читал все эти мысли, но не мог прочитать, что она думала еще: «Чего это он на меня так смотрит? Ну и глаза! Что я такого сделала? Сына это не касается. Конечно, я понимаю, но разве я виновата? Он и был-то у меня всего несколько раз. Адриан. Адриан Ферро, его отец, отец этого вот парня. Что это был за человек! Хотел меня. Непременно хотел меня, приставал, господи, как он гнался за мной вверх по лестнице в самый первый раз. Чего это парень на меня так смотрит? Ничего не понимаю. Только что он на меня злился. А теперь чудно, как у него вспыхивают глаза. Чудно, как он сейчас похож на своего старика, господи», — этого он прочитать не мог и медленно подошел ближе, и уже не помнил, чего ему, в сущности, от нее надо, ведь Брайтенштайна здесь нет, и, значит, он давно уже мог бы уйти, но он не уходил, а, наоборот, подходил все ближе и вдруг снова почувствовал жар, и сердцебиение, жар выжег в нем все, и он был не в силах думать, он вдохнул ее сладкий дурманящий запах, запах ее платья, и ее светлой кожи, подошел еще ближе, вплотную, увидел, как она отступила, и все-таки не остановился, придвинулся ближе, и, не в силах ни думать, ни дышать, потянулся к ее руке, ощутил шелковистую ткань, а вот и ее плечо, и теперь у него было только одно стремление — к темноте, к теплу; и услышал, как она зашептала: «Что с тобой, господи, ты что… сумасшедший мальчишка, нет, не смей, уходи, да уходи же», но он все еще не уходил, он сделал еще один, последний шаг к ней и словно бы погрузил в нее свое пылающее лицо, почувствовал на секунду, как прижимает ее к себе, ее твердое и мягкое тело, и ее волосы у себя на лбу, и на своих губах ее губы, хотя она тут же отвернулась, — почувствовал все это вновь и в то же время увидел со стороны, как это было; увидел внезапное превращение: ее брезгливый взгляд, она оттолкнула его, отшатнулась, мягкие плечи, извиваясь, выскользнули из его объятия; он увидел это и ощутил, и услышал ее теперь уже громкий голос: «Уходи! Ах ты, что ты себе вообразил, нет, не смей, отпусти, ты в точности как он, твой старик, да отпусти же меня, за кого ты меня принимаешь, нет, надо же, и еще в таком виде, весь в грязи, убирайся, вот дверь, и пей пиво где хочешь, только не здесь, что ты себе вообразил…» Он услышал это и увидел себя, как он оторвался от нее, медленно, не в силах думать, прошел через дверь в кухню, а оттуда в коридор, и в полутьме добрался до входной двери, не оглядываясь, вышел, постоял, ошеломленный, пытаясь языком разжать зажим у себя в горле, стоял до тех пор, пока она не вынырнула из-за его спины, и не протянула ему его плащ-палатку со словами «Возьми» и «А теперь иди», и не исчезла снова…
…исчезла, а он продолжал лежать неподвижно, натянув на лицо колючее одеяло. Пот бежал по его шее. Нет, думал он, и слышал вдалеке осипший негромкий голос Брайтенштайна, и одновременно «Нет, не смей, отпусти, ты в точности как он». Где же он? Почему отец не лежит по ту сторону свободной койки, на которой и под которой они держат свои вещи, почему он не приходит, и как было бы хорошо, если бы они могли еще немножко полежать рядом в темноте и тихонько поговорить, пока остальные все еще слушают Брайтенштайна или давно уже спят.
— Эй, Немой, а ты где пропадал? — негромко окликнул его Брайтенштайн. Нет, думал Лот. Не шевелиться. Лежать себе тихонько, спать. Брайтенштайн босиком прошел вдоль коек. Перед его, Лота, койкой он остановился.
— Вот кому хорошо, — сказал он, — может себе отмалчиваться, и никто не станет к нему приставать и выспрашивать. Как по-твоему, Гайм, верно ведь, ему хорошо?
— Не знаю, — сказал Гайм. Наверное, он все еще сидел на скамье и читал свою книгу или просто дремал. — Не знаю, хорошо ему или плохо, — услышал Лот его голос.
— Мы просто про него забыли, что Сами, что я. — Лот слышал, как шаги прошлепали обратно. — В последнюю минуту, мы уже сидим в машине, а он мчится со стороны базарной площади. Судя по виду, пробежал немалую дистанцию. Весь мокрый от пота и от дождя. Верно, Самуэль?
— Брайтенштайн, пора бы тебе угомониться, — сказал Борер. — Хватит с нас деревьев и ветра. Ты один, а нас десять, и мы хотим спать.
Слышно было, как Борер заворочался на своей раскладушке.
— Откуда «десять», — сказал Брайтенштайн и прошлепал дальше. Он был очень возбужден. Перед дверью он остановился. — А Ферро? — сказал он. — Ферро еще торчит в тамбуре и начищает свой драндулет, — он обернулся. — А Гайм, тот все еще размышляет. Верно, Гайм? Так что вас девять, Борер, девять человек хотят спать. Ты забыл Шава — на одного меньше, Борер. Ну ладно, — добавил он, — я еще на минуточку выйду. Поищу твою канистру. Ты же, кажется, говорил, что потерял канистру с бензином, верно, Борер?
Борер молчал. Возможно, он тем временем заснул. Брайтенштайн, выходя, давился от смеха. Скрипнула входная дверь. Отец что-то пробормотал в сенях. Шелест, дождь, хлопанье парусины. Муральт впереди тихо покряхтывал. Восемь, подумал Лот, спит восемь человек. Женщина… Он, Лот, не спит.
Гайм (узкоколейка)
«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою».
Ты опустил книжечку. Нет, невозможно сейчас думать о прочитанном. Что-то изменилось здесь, в бараке, где ты один еще не спишь, а сидишь на скамье на границе света от карбидной лампы. Или что-то изменилось за его стенами? Ты прислушался. Потом положил книгу рядом с собой на скамью, встал и открыл окно. Ты встал на колени на скамье и через круглую дырочку в закрытой ставне услышал журчание дождя. И больше ничего. Даже парусина перестала хлопать; наверное, она набухла от сырости и провисла до самого бака с водой. И не движется. Твои глаза начали привыкать к темноте, и теперь ты мог различить клочья тумана; они беззвучно скользили мимо. Но ветер — где же ветер? Вот сейчас, подумал ты, вот сейчас начнется. Ветер просто переводит дух, но вот сейчас он снова завоет в лесу и ринется вверх, к перевалу. Где-то вверху, в кустах, пронзительно закричала сойка. Ты стоял на коленях затаив дыхание. Холод обтекал тебя. Тишина. Она оказалась громче, чем прежний шум. Ну да, дождь. Он все идет и идет не переставая, сорок дней продолжался потоп, и вода подняла ковчег, и он возвысился над землею, но нет, Гайм: это не потоп, право же, нет. Это октябрьская морось, и упругие капли, которые наливаются на ветвях и на желобе крыши, и звучно шлепаются о землю, а барак — это не ковчег, а всего лишь грубо сколоченная сборная постройка, и она прочно стоит на бревенчатом основании, которое вы заложили с месяц тому назад.
Осторожно, чтобы никого не разбудить, ты закрыл окно. Постоял. На столе — пустые стаканы. Пепельницы из консервных банок наполнены остывшими окурками. Все как всегда. Но в то же время все вдруг как-то изменилось, стало чужим, как в самом начале. Так или нет, Гайм? Ты прислушался. Ветер молчал. По какой-то там неизвестной тебе причине, которая побуждает ветер дуть или затихать, сейчас он затих, может быть, ненадолго, может, он просто дольше обычного переводит дух; но теперь почувствовалось: ничто больше не связывает тебя с этой длинной комнатой и теми, кто в ней спит. Чужие эти люди, лежащие в ряд с замкнутыми лицами, впереди, у двери — Самуэль, рядом с ним Муральт, потом Брайтенштайн, — и он наконец, заснул; дальше Гримм, потом младший Филиппис за ним Керер, за Керером Кальман с широко открытым ртом, потом Шава, вернее, его пустая койка. Ты посмотрел на нее, ты еще раз оглядел каждого по очереди отсюда до двери и снова в обратном порядке. Может, в этом все дело, Гайм? Может, дело в том, что каждый, по крайней мере в этот поздний час, один и замкнут в себе, и даже шум перестал связывать их с тобой, они снова бесконечно далеко от тебя и замкнуты в свои сны и в эту странную тишину, и каждый воспринимает окружающий вас мир на свой, неизвестный тебе лад; может, в этом все дело? Ничто не связывает тебя с ними, ничто не связывает их между собой. Ничто, разве только грубая бревенчатая крыша, да и она в этой жуткой тишине перестала быть кровом, под которым вы все вместе находили защиту. Шава сегодня ушел, а тебе и в голову не приходило, что он может уйти. Не была ли история с Шава прямым доказательством того, как мало вы здесь, в сущности, знаете друг друга?
Что касается тебя, то ты — это уж точно — один из самых добросовестных рабочих, какие когда-либо работали у Кальмана. Один из самых упорных. А еще: ты тощ, мал ростом, у тебя остренькое личико, и чудные очки без оправы — тебя можно принять за архивариуса, за конторскую крысу или за степенного маленького учителя, какие раньше преподавали в сельских школах. Ты — член методистской церкви, ты принадлежишь к одной из славных общин горной местности, и каждый день прочитывать пять страниц священных текстов — один из христианских обетов, который ты на себя возложил. Что знают об этом остальные? Что для них эти затрепанные страницы, на которые теперь снова падает белый свет прикрытой абажуром карбидной лампы? Ты один, и ты читаешь дальше, слово за словом.
«Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей».
«Нет!» — вскрикнул вдруг кто-то, это был младший Филиппис, Джино, и ты увидел, как он вцепился в изголовье своей кровати. «Только не я», — пролепетал он. Он спал. «Ему что-то приснилось», — подумал ты. Младшему Филиппису действительно что-то снилось. Он метался в постели, сопел, и даже отсюда было видно, как вздымается его грудь. «Господи, — подумал ты, — пошли ему праведный сон». Но, видно, господь его ему не послал, или, по крайней мере, не сразу, потому что младший Филиппис теперь громко закричал сонным голосом, разобрать можно было только «нет», и «вниз, в укрытие», и протяжное: «Немой, в укрытие!» При этом он взмахнул рукой. Немой лежал почти прямо напротив тебя. Теперь он приподнял свою большую голову, медленно сел в постели, повернулся к Филиппису, а потом посмотрел на тебя. Удивленно посмотрел на тебя, потом снова на Филипписа, и ты сказал: «Спи, Немой. Это он во сне». Немой кивнул. Снова улегся на бок. Больше никто не проснулся.
Ты откинулся назад. Поднес книгу к стеклам очков.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя…»,
но смысл слов не доходил до тебя, ты чересчур устал для того, чтобы раздумывать над ними; ты попытался представить себе, как дракон воюет с другими детьми этой женщины, и как он вышел на берег моря и стоит там, в вертикальном положении, огромный старый дракон, охваченный скорбью и гневом, и как он извергает изо рта воду, но сон или, вернее, какое-то полузабытье постепенно овладевало тобою, и как раз в ту минуту, когда старик Ферро, лежащий у стены метрах в двух от тебя, застонал и беспокойно задвигал головой, ты прислонился затылком к стене и отдался во власть тишины, и она словно опьянила тебя. Сквозь полуопущенные веки и уже запотевшие от холода стекла очков ты еще смутно различал его завернутую в одеяло фигуру на койке, иногда тебя пробирал легкий озноб, «Ферро, — подумал ты, — опять он напился», все расплылось перед твоими глазами, ты задремал.
И, стало быть, про Ферро ты тоже, в сущности, знал очень мало — разве только, что сейчас он спит, но про его сны ты ничего не знал. А снилось ему вот что.
Тарахтит бур. Затихает. Перед ним голая крутизна. Шумит дождь. Ферро, тяжело дыша, взбирается по крутому склону. Кто-то карабкается вслед за ним. Сверху он не может разглядеть, кто это. Он видит только светлую каску, и чем выше поднимается Ферро, тем выше и тот, другой. Ферро достигает подножия макушки. Отсюда она поднимается почти отвесно. Выходы пластов, изогнутые, черно-серо-зелеными вкраплениями, образуют чуть заметные уступы. Над каждым пластом — узкая, иногда не шире ступни, ровная полоса. Ферро оглядывается. Он по-прежнему видит светлую защитную каску, поднимающуюся по склону, она еще очень далеко. Ферро ощупывает мокрую скалу, отыскивая выступы, которые не отломятся, если он схватится за них, и начинает карабкаться, шаг за шагом, выступ за выступом. Больше он не оглядывается. Рыхлая, пористая поверхность известняка с горизонтальным полосатым узором — единственное, что он видит, она совсем близко, прямо перед ним. А за ним — бездна. Наконец он достигает уступа чуть пошире остальных. Пот течет по его лицу. Он подтягивается, находит довольно широкий выступ, на который можно встать, немного поворачивается и, прижавшись к стене и не глядя вниз, начинает продвигаться вперед по уступу. Пробуя путь подбитыми гвоздями ботинками, он продвигается очень медленно и не может понять, откуда берется глухое тарахтенье, которое он слышит — то ли это буры внизу, то ли его собственное сердце. Метрах в четырех от того места, где он сейчас находится, уступ расширяется в небольшую площадку, и там лежит животное. Это отнюдь не дракон, изрыгающий воду, а собака. Обыкновенная овчарка, поджарая, бурая с черными пятнами, она лежит на боку, лапы свободно раскинуты, морда вытянута вперед, а высунутый язык шевелится в такт дыханию. Она смотрит на Ферро. Ферро не удивляется. Цепляясь за скалу, он продолжает двигаться вперед. Он рад этой площадке, он как будто знал заранее, что есть здесь такое место — место, где он хоть ненадолго окажется в безопасности. Площадка достаточно просторна, на ней уместятся и собака, и человек. Он подходит, садится, придвигается к стене и к собаке близко-близко, сидит, выставив один ботинок за край площадки, а другую ногу поджав под себя, а собака все смотрит, и такие у нее глаза… Он устал. Он тяжело опускает руку на ухо собаки. Собака вертит головой, пытаясь достать мордой до его кисти. Несколько раз она лизнула его, и тут только он заметил, что собака, наверное, ранена. Сперва Ферро подумал, что собака просто прилегла отдохнуть. Но это странно-беспомощное движение собачьей головы и эта печаль в ее глазах с черно-зеленым отливом… наверное, она ранена и, если присмотреться, то, похоже, недолго протянет.
Ферро ни разу не взглянул в ту сторону, откуда вот-вот покажется его преследователь. Все еще тяжело дыша и обливаясь потом, он смотрел на собаку. Он сказал:
— Тебе хорошо.
В глазах у собаки застыла печаль.
Немного погодя Ферро сказал:
— Здесь нам крышка. — Он задыхался. — Мы погибли. Сначала погубили тебя, а сейчас придет тот, другой, и наступит моя очередь.
И вправду, позади собаки уступ кончался. Там была крутая стена, возможно, доступная для тренированного скалолаза, но не для него.
— Больше нет смысла скрывать, — сказал он. — Но тебе, — продолжал он, повернувшись к собаке, — все-таки хорошо. Я так думаю — тебе хорошо.
Ты помнишь, Гайм? Ты сидел в полудреме и слипающимися глазами смотрел на Ферро, который спал беспокойным сном, и если бы ты наклонился к нему пониже, то, может, даже расслышал бы, как он, задыхаясь, хрипит:
— Для тебя все кончится. Ну, судороги. Ну, не сразу умрешь. Ну, будет больно. Но потом все кончится.
Он умолк, потом снова заговорил:
— Кончится, понимаешь? Тебя не будет. Может, еще с месячишко полежишь здесь. Вороны растащат тебя по кусочкам. Или снежная лавина унесет тебя и похоронит внизу, между обломками, и все. Весной лисицы найдут клочья шкуры, остатки костей. Но тебе-то что до этого? Тебя не будет.
И опять только протяжный посвист ветра, тихий звук, с которым дождевые капли ударяются о скалу, да это трудное дыхание собаки. Собака со страхом смотрела на Ферро. А Ферро медленно, задыхаясь, продолжал:
— Ну ясно — тебе хорошо. У тебя и в мыслях никогда не было, что после смерти с тобой еще что-нибудь будет. Не было этого распроклятого чувства. Чувства, что вот ты подохнешь, а после еще что-то может случиться. — Ферро рассмеялся. Коротко, невесело, как всегда.
— Скажи, — обратился он к собаке, — кто-нибудь рассказывал тебе про ад? Небо не про нас с тобой. А вот как насчет ада? В этом вся разница между нами — у меня вроде бы есть выбор и все-таки его нет. Для тебя ничего не будет, даже и тебя самой не будет, а мне — уж о небе-то, во всяком случае, думать не приходится, так что вот видишь, до чего тебе хорошо по сравнению со мной.
Потом в кадре появился этот человек в защитной каске. Он немного постоял, огляделся, подошел поближе, поднял голову, наверное, чтобы определить расстояние между собою и Ферро, и тут Ферро узнал его. Это был Немой. Но Ферро не удивился.
— Вот видишь, — сказал он и повернулся к Немому, но говорил он по-прежнему с собакой, — видишь, он пришел. Я его знаю, и я был уверен, что когда-нибудь он придет. Он нашел меня. Сейчас я встану. Но толку от этого все равно не будет, он убьет меня, я знаю.
Я старый.
На мгновение перед ним возникло лицо Немого. Но он не испугался.
Ты проснулся, Гайм, — ведь ты задремал, — и не сразу сообразил, где ты. Ты встал. Руки и ноги ломило, и вдобавок ты замерз. Перед тобой лежал на своей раскладушке Немой. Он спал. А за ним, у самой стены спал Ферро. Спал? Нет, он не спал. Вспомни: полумрак, и Ферро сидит, скорчившись на койке, таращит на тебя свои хмельные глазки и бормочет: «Я его знаю. Я был уверен». И вдруг как заорет на тебя: «Убирайся! Убирайся прочь, слышишь! Оставь меня в покое!» Ты постоял в нерешительности. «Господи, — думал ты. — Ему что-то снится». Он медленно поднял руку, заслоняя лицо.
Снова стало так тихо, что слышно было дыхание спящих. Ты осторожно подошел к Ферро.
— Проспись, Ферро, — вполголоса сказал ты и слегка наклонился над ним. — Слышишь? Тебе что-то снится. Проснись.
Напряжение в лице Ферро ослабло. Он глубоко вздохнул и провел рукой по лицу, потом встряхнул головой. Посмотрел на тебя.
— Гайм, — сказал он. На тебя пахнуло водочным перегаром. — Гайм, в чем дело?
— Тебе что-то снилось.
— Что случилось, Гайм?
— Ничего, Ферро. Теперь спи.
— Что случилось, — спросил он, — почему здесь вдруг так чудно стало?
Ты сказал:
— Ветер стих, вот и все.
— Ветер? Гайм, а Немой, что с Немым?
— Ничего, Ферро. Ты же видишь, он спит. Тебе что-то снилось. Уже поздно.
— Поздно, Гайм?
— Ну да. Теперь спи.
А попозже, Гайм, — ты тогда уже разделся, закрутил карбидную лампу, спрятал книгу в карман и лежал на койке, — чуть попозже возвратился ветер. Он снова заревел во всю мочь, и снова слышно было, как за окнами в темноте с силой раскачиваются деревья, а внизу, у кухонного барака, хлопает парусина.
Восьмая ночь
Когда съели суп, Керер с Джино Филипписом принесли рис, и Керер в свободной руке нес еще мешок. Они поставили миску с рисом на стол, а в мешке оказались мясные консервы, по банке на брата. Младший Филиппис раздавал, Керер держал мешок, и все стали молча есть. Но хотя все молчали, тишины не было, вокруг полно было всяких звуков, они назойливо лезли в уши: ножи скребли по банкам, а ложки по тарелкам; выругался про себя Борер — он открывал банку, и у него вдруг закрылся складной нож, после пяти часов работы в ушах продолжал тарахтеть пневмобур, и отец словно бы снова вдруг произнес: «Давай, Немой, попробуй-ка ты». И посмотрел на него сверху слезящимися и все равно, как всегда, настороженными глазами. «Давай, не мешает тебе иметь хоть представление, как это делается, — сказал он. — Совсем не помешает».
Лот воткнул кайлу в землю и взобрался на два-три метра повыше.
«Прежде всего занять устойчивое положение, — сказал отец. — Так. Теперь берись, — и он отошел в сторону, а Лот взял пневмобур. — Так, правильно. Двумя руками на уровне бедер. Слегка упереться. Выключатели на рукоятках. Нажми как следует. Давай!»
Пневмобур заработал. Его сотрясение отдавалось во всем теле Лота. «Давай!» — кричал рядом отец и еще что-то кричал, но нельзя было разобрать что. Лот отпустил выключатель. Шум сейчас же прекратился. Он посмотрел на отца. Невольно улыбнулся, и у прищуренных глаз отца тоже собрались морщинки, и отец сказал: «Я тебе говорю, горизонтально держи. Не крути. А это значит, — добавил он, показывая на отметку на буровой штанге, — вот до сих пор надо вгонять. Дальше давай».
Снова затарахтел бур, и Лот слегка упирался, держал горизонтально и видел, как, дымясь, раскалывается скала и как буровая штанга, стремительно вращаясь, проникает все дальше, дальше, и Лот смеялся, жмурил глаза, держал рукоятку двумя руками на уровне бедер и работал, пока штанга не ушла в скалу по отметку. Тогда он выключил.
Отец сказал: «Вытаскивай».
Он вытащил бур.
Потом отец сказал: «Пошли», и Лот взял буровую штангу — она была горячая — и перенес пневмобур на три метра левее, и отец сказал: «Включай. Вот здесь, видишь», — и указал на вылом в желто-белом мокром известняке, и Лот ногами нащупал устойчивое положение на покатой осыпи, потом включил и посмотрел отцу в лицо. «Да».
Пневмобур заработал, но вдруг он резко отклонился вправо, и Лот выключил его.
«Нет, — сказал отец, — не вошел. Поначалу, конечно, надо нажимать сильнее… Давай сюда».
Теперь отец сам вогнал бур в скалу. Лот видел, как вздулась жила на мокром виске отца, и почувствовал на лице крохотные брызги осколков. Наконечник бура ушел в камень. «Дальше давай ты», — сказал отец, и потные теплые рукоятки снова оказались в кулаках у Лота. Перед тем как включить, он услышал, как Джино Филиппис, который бурил справа, рядом с Кальманом, что-то крикнул, и отец коротко рассмеялся. Потом бур затарахтел снова.
Теперь уже все открыли свои банки. Лот любил этот острый студень. «Хлеб», — сказал рядом с ним Керер, и Лот передал ему ковригу. На верхнем конце стола у стены сидел отец. Он ковырял ножом в своей банке и смотрел на Лота. Его не смутило, что Лот тоже посмотрел на него, — он не отвел взгляда. Настороженного взгляда. Лот снова стал быстро есть. «Он узнал меня, — вдруг пронеслось у него в голове, — наверное, он меня узнал. Господи, что, если он меня узнал?» И он попытался представить себе, как это произойдет: отец подходит к нему, смеется и говорит: «Я узнал тебя. Ты Лот».
Но когда он снова поднял глаза, отец был занят едой и смотрел на свой нож. А Лоту расхотелось есть. Почему отец смотрел на него? И почему он вообще совсем не такой, как Лот всегда себе представлял? И в чем дело с этой канистрой бензина? Когда он подумал об этом, кровь вдруг бросилась ему в лицо, так что ему пришлось быстро нагнуться над тарелкой и начать есть, чтобы никто не заметил, о чем он думает. Он думал об этом свертке под пустой койкой рядом с его вещами, об этом обвязанном веревкой пакете в оберточной бумаге, и знал, что есть какая-то связь между свертком и тем, что отец сидел в тюрьме, между свертком и теми поступками, которые отец совершал раньше и которые, значит, продолжает совершать и сейчас. Он негодяй, почти что убийца, да и обманщик. Тетя… «Вспомни о Лене! Не зря же его посадили!» Он снова увидел себя в кровати, темно — хоть глаз выколи, он стоит на коленях, прижав ухо к стене, а за стеной слышны голоса, дядин и тетин голос: Лот знал — они говорят об отце, он не смел шелохнуться до тех пор, пока не продрог и пока через стену не донеслись протяжные звуки, означавшие, что дядя и тетя заснули. Теперь он тот же, что и тогда, и вместе с тем совсем другой, продолжал он думать, и вдруг решил: сегодня! Сейчас, сразу же после еды. Пусть узнает. Я покажу ему ключ, так лучше всего: возьму ключ и покажу ему, и тогда он поймет.
«А потом, — подумал он, — потом я, может быть, даже покажу ему канистру, чтобы он понял, что я все знаю. Почему бы нет?»
На верхнем конце стола кончили есть. Кальман встал. Отец тоже встал, только Керер и Джино Филиппис еще ели. Лот тоже встал. Он подождал, пока отец выйдет из барака, потом медленно обогнул весь ряд кроватей, остановился и стал ждать у двери в тамбур. «Пропусти-ка меня, Немой», — сказал Муральт и прошел мимо. Лот увидел, как он вынимает из кармана спецовки «Курьер Юры», привезенный Самуэлем, а потом снова пропустил его: Муральт вернулся в комнату. И вот он стоит в тамбуре, прислонясь к стене у двери, и больше нет никого, только он и он.
Отец не замечал, что он в тамбуре не один. Как обычно, вытащил ящик из-под консервов и присел рядом с NSU. Он снял мешковину с мотоцикла и вывинчивал ослабевшую пружину из заднего сиденья. Знакомые медленные, уверенные движения, напоминающие прежнее время и сегодняшнее утро: «А сейчас, — сказал отец, — будем заряжать. Ты знаешь хоть, что такое заряд?» — и он повернул к нему обросшее лицо. В жесткой седой щетине поблескивали капли пота и дождя.
«Ну так вот», — сказал он. Они спустились. Кальман и Филиппис уже забивали заряды. Ящик со взрывчаткой стоял рядом с компрессором. Мотор не работал, и снова стало слышно экскаватор и свист ветра в лесу. Ветер задувал все злее. Теперь он стал резким, порывистым. Сквозь общий гул в лесу прорывался треск сухих веток, сломанных ветром. Точно далекие выстрелы. Отец поднял мокрый брезент, прикрывавший ящик, и показал на отделения, в которых лежала взрывчатка. «Капсюли-детонаторы, — сказал он. — Вот эти. Восьмой номер. Они всегда упакованы по десять штук в коробке». Он вынул капсюль.
«Берешь запальный шнур, — продолжал он и отделил шнур от связки, — слегка постукиваешь капсюль, вот так, чтоб высыпались опилки. Выдувать нельзя, тут внутри пистон. Если на него дуть, он отсыреет, и никакого взрыва не будет. Вводишь запальный шнур — вот так. Ясно? Потом вот так», — и отец поднес капсюль с воткнутым в него запальным шнуром ко рту. Зажал медный капсюль зубами.
«Теперь крепко, — сказал отец. — На, держи». — Лот взял капсюль с запальным шнуром в руку. «А это, — сказал отец, — шеддитовый заряд». Он вынул тоненький бумажный столбик длиной сантиметров в двенадцать и закрыл ящик. Вынул из кармана маленькую деревянную палочку, потом развернул бумажную обертку с одного конца столбика. — «Так», — пробормотал он и слегка наклонил шеддитовый заряд в сторону Лота. Лот заглянул: внутри был желтоватый порошок.
«Шеддит, — сказал отец. — Шеддит шестидесятый номер».
Деревянной палочкой он провертел ямку в шеддитовом порошке. «Запальный канал. Видишь? Вот сюда воткни капсюль. А ну давай».
Лот воткнул капсюль в бумажную обертку с шеддитом.
«Держи, пока я буду завязывать».
Отец вынул из ящика обрезок шнура и завязал им бумажный столбик сверху. Торчавший из него запальный шнур свисал через руку Лота. Длиной он был примерно в метр. «Теперь быстро, — сказал отец, — а то заряд отсыреет». Он взял еще три шеддитовых патрона и один из двух забойников, и они снова поднялись. Лот нес шеддитовый патрон со шнуром и капсюлем внутри, и от шнура на его руке появились черные, влажные пятна.
«Сперва заряд», — сказал отец и взял у Лота заряд и воткнул в шпур. Это был первый шпур, тот, который пробурил Лот. Запальный шнур болтался, свисая со скалы.
«Заряжаем», — бормотал отец, загоняя забойником бумажный столбик поглубже в шпур, так, чтобы запальный шнур вылезал сантиметров на двадцать, не больше. Потом он взял два других шеддитовых столбика, засунул их в шпур, протолкнул забойником, сказал: «Забивай».
Лот знал, как это делается. Он взял горсть раскисшей желто-бурой земли, отец затолкал ее в ямку, и еще горсть, а потом Лот вынул из кармана свой ножик, раскрыл его, и отец взял нож и надрезал конец запального шпура на три сантиметра в длину.
«Все, — сказал он. — Теперь можешь сам подготовить второй заряд. Я займусь третьим».
Они вернулись к ящику. Кальман и Джино Филиппис уже оттаскивали свой компрессор.
«Ну как он, справляется?» — крикнул им Филиппис, и Лот уголком глаза увидел, что он улыбается. Отец что-то пробурчал в ответ, а потом сказал Лоту: «Обрати внимание на запальный шнур. У нас его мало, и он, — отец кивнул в сторону Кальмана, — заранее весь его нарезал на куски такой длины. Когда прибудет новый?» — крикнул он Кальману.
«Сегодня».
«Ты уверен?» — крикнул отец. Кальман ничего не сказал. Они с младшим Филипписом унесли буры и шланги, а отец с Лотом продолжали заряжать. Отец — знакомыми Лоту медленными, уверенными движениями, Лот — как можно быстрее, чтобы отцу и остальным не пришлось его ждать. Когда все заряды были забиты и только концы запальных шнуров выглядывали из скалы, три — у них наверху, четыре — ниже, у Кальмана, отец взял рожок. Подул. Три коротких громких сигнала. Лот снова видит его перед собой, как он тогда стоял и трубил. Шум леса подхватил и унес звуки рога, и Лот снова подумал о ключе, он не хотел больше ждать; он стоял у стены в тамбуре, за спиной у отца, и думал: «А что он мне сделает?» И перед ним всплыло лицо матери, он отчетливо увидел его, большое мягкое материнское лицо, темно-серые глаза, серьезную улыбку, мягкие темные волосы. И пока еще он видел ее перед собой, и пока она постепенно таяла и медленно исчезла, оставив лишь ощущение мягкости, тишины и спокойствия, и нежности, он вытащил из кармана кошелек, не сводя теперь глаз с отцовского затылка, вытащил кошелек, открыл его, вынул ключик и опустил кошелек в задний карман брюк. «Вот он», — подумал Лот и опустил руку с ключом в карман комбинезона. Кончиками согнутых пальцев он ощупывал зубчики и бороздки, медленно проводил по ним пальцами; он чувствовал тепло влажного металла и смутно ощущал, как в голове у него, как рыбы в реке, медленно движутся мысли: «Ключ… Убил… Вор… Теперь забивай… У нас слишком мало… Зачем украл… Мать не кричала… Канистра… Под пустой койкой… Он хочет уехать… Куда… Пневмобур… Внимание… Сигнал. Ну как он, справляется? Ты в точности как он… В укрытие… Мотоцикл… Он. Он пьян… Пружина ослабла; поцеловать, поцеловать ее в губы, сию минуту; уходи; ни единого слова. Ни единого слова, и запах спирта и бензина. Дождь за окном. Сейчас, ключ — талисман, и он узнает меня, он должен меня узнать, он должен…» — и вдруг Лот выпустил ключ из пальцев и застыл. Отец, тяжело дыша, обернулся.
— Чего тебе?
Тихо было в тамбуре, если не считать хлопанья парусины и негромкого гула голосов, доносившегося из комнаты, — Керер, и младший Филиппис, и все остальные еще там, за столом, и слова отца, прежде чем отзвучать, мгновение висели в воздухе над головой Лота.
Чего тебе, думал Лот, да, чего же ему… Что ему сделать, чтобы отец понял, почему он стоит тут, в тамбуре, у него за спиной.
— Ты что-нибудь понимаешь в машинах? — спросил отец, поворачиваясь к Лоту всем телом.
«Так это ты…»
Потом он вернулся к своей работе — вынул из бумажного пакета новую пружину для заднего сиденья и вставил винт.
Теперь уж было совсем не холодно, стало даже слишком тепло. Жарко. Тут открылась дверь из комнаты, и вышли младший Филиппис и Керер с чугуном и большой корзиной, в которой лежали мешок и тарелки. Джино Филиппис посмотрел на них, и они с Керером вышли, хлопнула дверь, и снова он и отец остались вдвоем в тамбуре, и Лот вынул из кармана ключ. Он подошел поближе, и теперь стоял рядом с отцом около мотоцикла. Сейчас только переложить ключ в другую руку и показать его отцу. Слова для этого не нужны. Ключ лучше, чем слова, достаточно показать его, и отец узнает его и все поймет.
Вот сейчас.
И отец смотрит на ключ, а может быть, только на протянутую к нему руку, смотрит на ключ или на руку довольно долго, и сверху видно, как сдвинулись его косматые брови, но неизвестно, ключ ли его удивил или дрожь руки; рука дрожит, и безумно громко стучит там, в груди, а потом голос отца:
— Это как понять?
«Это как понять? — думал Лот. — Как понять, что он чувствует сейчас, и как понять, что будет дальше, после того как он возьмет ключ, и узнает, и встанет…»
— Как же это понимать? — спросил отец и повернулся к Лоту, а потом медленно протянул руку, взял ключ и поглядел на него. Лот немного отступил. Там, в груди у него, так громко стучало, что отец не мог не слышать.
— А знаешь, Немой, — сказал отец. — Он очень похож на ключ, который я ношу вот здесь. — Он показал на маленький кармашек для часов под своим поясом, и Лот вдруг вспомнил, что отец и раньше всегда вынимал ключ оттуда. — Очень похож. Как это понимать?
Лот оставался нем. Ему казалось, будто он поджег запальный шнур и не двигается с места, не идет в укрытие, а стоит и смотрит на тонкий, стелющийся по земле дымок и видит, как быстро — сантиметр в секунду — обугливается шнур, и слышит его шипенье, и чует сладковатый запах пороха; он стоит и по какой-то причине, которую забыл, а может, никогда и не знал, не способен сдвинуться с места, и предвидит мгновение, когда заряд взорвется, и все взлетит на воздух — скала, и корни деревьев, и он, Лот, — вот так он стоял и ждал, и когда отец сказал:
— Ты его нашел, верно?
И когда он продолжал:
— И ты подумал, никак это старик Ферро потерял, верно, Немой?
И когда он потом проворчал:
— Это ты молодец, но ключа я не терял, и у меня еще два в запасе. Я их на заказ сделал, когда-то у меня пропал… да, такой же, таких много, но если ты хочешь мне его отдать, будет тоже у меня в запасе, верно…
И когда он открыл заколотый кармашек в своем рабочем мешке, разложенном перед ним, сунул туда ключ и сказал:
— Ладно, Немой, спасибо, пусть будет тут, в запасе, ну а теперь давай я буду продолжать, а то уж поздно…
Он не понял из всего этого ни слова, он только вышел из барака и остановился под дождем на вытоптанной площадке между бараком и откосом; не понял он и того, что кричал ему Самуэль: он, правда, видел, как подъехал грузовик, и с него соскочили и Муральт и Луиджи Филиппис, и даже отчетливо слышал голос Самуэля, потому что Самуэль очень громко крикнул: «Кальман! Кальман! Мы отрезаны!», но хотя Самуэль находился всего в каких-нибудь пятнадцати метрах от него и сейчас бежал к нему бегом, понять он не понял ни слова.
Керер (кухня)
Сказать, что парусина злила тебя, пожалуй, нельзя. Нет, это была не злость. Ты сам и придумал — и совсем неплохо придумал — натянуть ее как навес над бочкой с водой, прикрепив к крыше барака, а два свободных конца привязав к двум вбитым в землю высоким столбам. И она действительно защищала питьевую воду от дождя; находилась она с верхней стороны кухонного барака, и практически у нее был только один минус — она не пропускала света в окно, выходившее на откос; поэтому, когда огонь в очаге догорал, в кухне было темновато. Но с недостатком освещения, с полумраком можно было примириться, да против него и существовало такое средство, как карбидная лампа; при ней света было достаточно. Возможно, существовало средство и против хлопанья парусины, и ты все время собирался закрепить ее перекладиной или, по крайней мере, потуже привязать. Но все время забывал.
Ты и вправду забывал? Или ты не закреплял ее еще и по какой-нибудь другой причине? Помнишь, Керер: ты, бывало, сидишь у очага, или крошишь лук на широком подоконнике, или моешь сковородки, а над тобой кусок брезента неустанно бьется между крышей и столбами? И хлопает много часов подряд, звук то нарастает, то убывает, то иссякает — лишь кое-когда устало щелкнет, — то снова учащается до резкой дроби, словно бы кто кулаком барабанит по стене, барабанит до тех пор, пока ты не поднимешь голову и не спросишь себя, и как только эта проклятая парусина не разорвется в клочья? Помнишь? Но парусина была крепкая, она выдерживала, и все продолжала хлопать, наполняя воздух своей бешеной музыкой.
Ну а ты, Керер, сам ты — крепкий, у тебя-то как о выдержкой? Здесь, значит, и была настоящая причина: может быть, сам того не сознавая, ты вступил в спортивное состязание, в своего рода игру, в совершенно бессмысленный поединок, целью которого было установить, у кого из вас двоих, у парусины или у тебя, больше выдержки. И возможно, в тот четверг, когда ты как раз собрался вместе с младшим Филипписом заняться мытьем посуды и чисткой очага, ты впервые смутно ощутил, что вот-вот проиграешь это чудное тайное состязание. Было довольно темно, огонь в очаге догорал, и потому Джино Филиппис, наверное, не видел твоего лица. И слава богу. А то бы он или спросил, что с тобой, или смолчал бы, но, уж во всяком случае, не заговорил про эту историю с Ферро. Твое лицо было скрыто, одни только глаза видны, большие, немного навыкате, устремленные на отверстие трубы и на воду, которая непрерывной струей текла оттуда в лохань для мытья посуды; лицо было скрыто, замкнуто, и за ним скрыт страх, а может, еще и печаль, во всяком случае, чувство, которое, как ты теперь понял, переполняло тебя уже довольно давно: страх перед этой парусиной, которая хлопала, не унимаясь, и даже как будто все сильнее. Ты попробовал подавить это чувство, подумав про дом, про Маргрит и вашу младшенькую, которой не было еще и трех; ты подумал про Урса, который уже ходил в школу и был одним из лучших учеников, про ваше путешествие в Вельшенрор месяц назад — тебе удалось тогда отпроситься на три дня; ты вспомнил свою давнишнюю мечту будущим летом всем вместе поехать в туристском автобусе через Фурку, но тебе не удавалось так ясно вообразить себе все это, как ты обычно воображал, механически перетирая тарелки, ложки и вилки: в ушах у тебя звучали дробные залпы парусины, и только когда Джино Филиппис, подтолкнув тебя, спросил: «Что ты об этом думаешь?» — ты повернулся к нему, отвлекся наконец от этого чувства и спросил:
— Я?
— Я спрашиваю, что ты об этом думаешь.
Он понял, что ты замечтался.
— Ведь ты же сам их только что видел, — сказал он, — верно?
— Кого?
— Ну, Немого и Ферро. Заметил, какое у него было лицо?
— Не понимаю. У кого?
— Да у Немого же. Что-то с ним неладно. Ты же видел, он стоял у двери в комнату, прислонился к стене. А Ферро перед ним. У Немого на лбу были капли пота, и когда мы проходили, он так уставился старику в затылок, как будто там вот-вот взорвется заряд. Ну и глаза у него были! Я думаю, с ним что-то неладно.
— А что может быть?
— Я же тебе рассказывал про пакет.
— Про пакет?
— Керер, ты, наверное, и вправду спал. Про пакет под кроватью, где Немой держит свои манатки. Когда он приехал, у него этого пакета не было. Помнишь, две недели назад, он только приехал, а я как раз случайно был в тамбуре, когда он вносил вещи, и я помог ему, поднес рюкзак; у него был тогда рюкзак и чемодан, и больше ничего. А вчера в обед, сам он тогда был в Мизере, ты знаешь, я подошел к кровати Луиджи, у него в рюкзаке мой крем для обуви. Я нагнулся и, когда вытаскивал мешок Луиджи из-под его койки, совершенно случайно взглянул под соседнюю койку. И я увидел, что под ней ничего нет; но под следующей, под свободной койкой, кроме рюкзака Немого и его чемодана, был еще этот пакет. Понимаешь?
Младший Филиппис стоял рядом с тобой. Теперь он нагнулся с тарелкой в руке и заглянул тебе прямо в лицо.
— Сам не знаю почему, — продолжал он, — но я вдруг подумал: смотри-ка, это она. Канистра Борера. Ее взял Немой. Она у него, он ее запаковал. Представляешь?
Он смотрел тебе в лицо, дышал тебе в лицо, и ты медленно проговорил:
— Немой? Значит, ты думаешь, Борер все-таки прав? Немой украл ее, ты это хочешь сказать, Филиппис?
Младший Филиппис смотрел тебе в лицо, и в красноватых неспокойных отсветах тлеющих углей видны были его глаза, черные, блестящие, он поводил ими, в волнении ожидая твоего ответа, видна была бронзовая кожа, и видно было даже, как слегка дрожат уголки его рта. Он медленно выпрямился и сказал:
— Не знаю. Я знаю только одно — с Немым что-то неладно.
— А зачем ему канистра бензина? — спросил ты.
А он сказал:
— Если он… Видишь ли, Керер, мне пришло это в голову, потому что у него был такой чудной вид, сейчас, в тамбуре, а вдруг он, например, хочет смыться, может, он потому так волнуется, что он худое задумал?
— Ну что он мог задумать!
— Мало ли. Мне кажется, он хочет умотать на мотоцикле Ферро, и для этого ему понадобился бензин. Верно? Возьмет мотоцикл и был таков. Представляешь?
— Уж и не знаю, — ответил ты. — По-моему, он не из таких. Нравится он мне. Бедолага, а парень хороший.
И снова захлопала парусина; она дергалась как бешеная, тщетно пытаясь оторваться от крыши, и никак не унималась, а потом младший Филиппис, ставя стопку тарелок на полку, сказал:
— Но я видел этот пакет, и он выглядит точь-в-точь как завернутая в бумагу канистра, и я видел его там, и тут уж никуда не денешься.
Огонь в очаге погас.
— Ну и что же ты собираешься делать? — спросил ты младшего Филипписа.
— Сам не знаю. Может, поговорить с Кальманом? А может, проще всего припереть к стенке Немого и велеть ему уладить это дело?
Скоро надо было уже идти; остальные приступали к работе в четверть второго, а у вас с младшим Филипписом, как у рабочих кухни, обеденный перерыв кончался всего на пятнадцать минут позже, чем у других. Ты посмотрел через круглое окно вверх, туда, где среди деревьев стоял барак. Но никто еще не выходил, и дверь барака была закрыта.
— Надо сначала удостовериться, — сказал ты тогда. — Сперва попробовать выяснить, правда ли, что в этом пакете канистра.
— Постучать по нему, вот и выяснишь.
— Стало быть, Филиппис, — начал ты еще, и как раз в это мгновение Немой вышел из барака. — Вон он идет, — пробормотал ты, и вы оба наблюдали из затененного парусиновым навесом окна, как Немой вышел на утоптанную и снова размякшую от дождя площадку между бараком и ступеньками, выбитыми по откосу, и остановился под дождем, без защитного шлема, и Филиппис, устав стоять, согнувшись в три погибели, выпрямился и сказал:
— Представляешь, я голову даю на отсечение, с ним что-то не… — но даже на таком близком расстоянии невозможно было расслышать, что он сказал еще, потому что здесь, у самого окна, парусина хлопала оглушительно, звук нарастал, барак содрогался, и тут вы увидели, что шум производят не только парусина и ветер: между вами и Немым втиснулся могучий корпус Самуэлева грузовика.
Грузовик остановился. В кузове сидел старший брат Филипписа. Он вылез, а из кабины вышли Самуэль и Муральт. Самуэль что-то крикнул и побежал вниз по откосу; он подбежал к Немому, пробежал мимо него, и когда он был метрах в трех от барака, там снова открылась дверь и быстро вышел Кальман.
— Не иначе что-то стряслось! — крикнул Филиппис и выбежал из кухни.
«Отлично, — подумал ты, — только этого и не хватало». Ты медленно отошел от окна и вернулся к своему молчанию, и страху, и печали, притаившейся где-то внутри — сейчас она проснулась, разбуженная хлопаньем парусины, которая все-таки, как ты теперь понял, одержала победу в вашем бессмысленном тайном состязании.
Девятая ночь
Лот постоял перед бараком. Значит, он ошибался, думая, что и без слов сможет все сказать отцу. Ключ от мотоцикла был его талисманом, но талисман оказался бессильным; возможно, талисманы вообще имеют гораздо меньше силы, чем он думал. Во всяком случае, теперь это всего лишь ключ от NSU-405, и он находится у отца, и лежит в тамбуре, в брезентовом мешочке, где отец хранит и другие запасные ключи. Он сделал на заказ два новых, думал Лот, он забыл, что произошло с этим, со старым ключом. Он забыл его и, возможно, вообще давно уже не вспоминает о том, о чем думает Лот.
Он медленно поднялся по откосу; увидев прямо перед собой грузовик, он вспомнил, что мимо него проходили Самуэль, и Муральт, и Луиджи Филиппис, а потом еще Джино Филиппис. Наверное, это было не очень давно, хотя он за это время почти совсем успокоился — от мотора все еще пахло горячим бензином, и потом, ведь иначе другие уже успели бы подняться сюда, так как пора было приступать к работе. Он зашагал вверх по шпалам узкоколейки и только теперь заметил, что забыл защитную каску, а дождь льет как из ведра, и холодные струйки стекают ему за шиворот. Но сейчас это неважно. Важно, что у него больше нет талисмана. Наверное, надо поискать что-нибудь другое. Что-нибудь посильнее, такое, чтобы отец все понял. Наверное, он сможет достать карандаш и кусок бумаги, возьмет у Гайма, он просто напишет, что хотел сказать, отец прочтет письмо, а Лот может даже при этом не присутствовать, и отец все-таки узнает самое важное. «Письмо», — думает он, и ему вспоминается тот клочок бумаги, на котором он писал письмо в комнатушке над гаражом; сидел у стола в полутьме и писал письмо, которое начиналось словами: «Милый дядя, спасибо тебе за все. Теперь я вырос и должен уйти. У меня есть важное дело…»
Он добрался до стройплощадки, огляделся и примостился на подножке экскаватора, где его не так поливал дождь, и стал ждать остальных, и все это время он снова видел себя, как он шел тогда, шаг за шагом, с письмом в руке через темную переднюю в комнату Бенни, на цыпочках, чтоб никого не разбудить, — прошел через темную переднюю и остановился, тихонько постучал, еще постучал и подождал, и вот Бенни проснулся, и громко прошлепал к двери и открыл. Он дал ему письмо, Бенни хотел подойти к столу, к лампе, но он удержал его за руку, затряс головой и показал на то, что он написал на внешней стороне сложенной бумаги: «Дяде Паулю». Тогда Бенни приблизил к нему свое старое лицо, взглянул на него, и он посмотрел на Бенни, а потом отошел от двери, торопясь уйти поскорее, чтобы Бенни не увидел слез, которые внезапно навернулись ему на глаза, и вот он уже внизу, во дворе, а потом на улице, а потом на проселочной дороге и наконец у канала; луны не было, но облака светились, и этого было достаточно, и он двинулся берегом канала. Одно он знал наверняка: канал вытекает из реки, а река протекает в Мизере; как ни далеко дотуда, но, если он будет держаться канала и реки, он не заблудится.
Было совсем не холодно, и так тихо, что слышно было, как ветер поудобнее устраивается в кустах до утра. А утром он будет уже далеко. Еще не в Мизере, но уже далеко, и дядя не будет знать, куда он пошел. Бенни, думал он, наверное, догадается, но он ничего не скажет. Тихо. Надо идти быстрее. Может быть…
Может быть, дядя уже встал, может быть, он уже распахнул ворота гаража или позвонил по телефону, и сейчас — а вдруг — снова понаедут солдаты, колонна грузовиков с солдатами, и, может быть, они привезут с собой собак. Надо идти быстрее. А вдруг собаки уже взяли его след и идут за ним? Он оглянулся. Но увидел лишь плоские поля, далеко позади несколько огоньков. Не прожектора, а тихие уличные фонари, и высоко над ними белесо светились облака. Ни звука, только все тот же тихий ветерок в кустах, прижавшихся друг к другу на берегу. А может, это вовсе и не ветер, а сами кусты, они чуть-чуть колышутся и дышат во сне. И еще кваканье, он только сейчас его заметил, оно доносилось откуда-то снизу, от плотины, и Лот представил себе лягушек, как они сидят рядышком под причальными мостиками и квакают так громко, что даже здесь слышно. Или это все-таки лают собаки?
Он остановился. Нет. Ничего. Огромные тени скользят по сжатым полям. Тени облаков. Взошла луна. Лунный прожектор ощупывал местность, подбираясь все ближе. Серебрились кусты, серебрилась вода в канале, серебрилась бесшумно и текла мимо. Под ногами трава — здесь началась трава; на ней — его измятая тень. Он почувствовал, что трава влажная. Значит, на ней остаются следы. Следы, по которым его найдут солдаты, и дядя, и прожектора. Он нагнулся и стал рукой выпрямлять примятую траву. Возможно, она будет стоять прямо, и если он выпрямит еще десять, еще двадцать кустиков, они все потеряют его след. Какое-то время он пятился, пятился и после каждого шага проводил рукой по сырой надломленной траве, пока кровь снова не бросилась ему в голову: он забыл про собак, ведь собаки почуют его след даже и на выпрямленной траве; они же ищут его следы не глазами, а обнюхивают землю.
Тогда он спустился к каналу; он снял ботинки и вошел в холодную серебристо-черную воду; он заходил все дальше, вода стала ему выше колен, дошла до бедер и чуть не опрокидывала его, но когда он перестал ощущать под ногами подушки мха, а снова нащупал твердую почву, когда он вышел из воды и сел на откос и снова надел ботинки, у него, правда, стучали зубы, но страха он больше не чувствовал. Теперь, думал он, его не найдут и собаки. Он встал и побежал бегом; бежал вдоль канала в лунном свете и знал, что может бежать так больше часа. Утром он увидел трубы цементного завода, и вот он в городе.
Ворота были уже открыты. Служащий в строительной конторе рассмеялся, когда Лот попытался жестами объяснить ему, что он хочет работать, и смеялся до тех пор, пока за Лотом не закрылась дверь; потом — огромный двор красильной фабрики, где никто не понял, чего он хочет, и женщина вернулась в дом, оставив его стоять у крыльца; приветливый мужчина из окружной тюрьмы — не тот, с которым Лот уже когда-то имел дело, — объяснил ему, что им не требуется дворник; и наконец, ремонтная мастерская, где его взяли с испытательным сроком и через три недели выгнали, потому что он сломал паяльник. А потом августовские вечера; темнело уже раньше, но на улицах было тепло, девушки в светлых легких платьях гуляли по площади перед мостом или смеялись на задних седлах мопедов, держась за плечи водителей, и волосы их развевались на ветру; в ресторанах у реки мужчины пили пиво и играли в карты, а во дворах стояли их мотоциклы и маленькие автофургончики торговцев фруктами, иногда он видел в темноте даже NSU, но чаще легкие, более новые модели; собаки, низкорослые дворняги в пятнах, еще хромавшие после какого-нибудь уличного происшествия, по трое обгоняли его на длинной дороге, которая вела от тюрьмы, уже окутанной мраком, к городу, останавливались, а потом ковыляли следом за ним, то ли из любопытства, то ли от голода, то ли потому, что боялись одиночества, и их лапы, затвердевшие от бесконечной беготни по ночному асфальту, сухо и неритмично постукивали за его спиной, а потом тот день в бюро найма; он сидел там много часов подряд, в тесном помещении с окошечком; приходили люди в потертых куртках, молодые, ненамного старше его, и старые, они приходили и уходили, иногда, прежде чем молча выйти, вновь закуривали недокуренную сигарету, а некоторые читали газеты, развешанные по стенам, и только когда служащий, сидевший в окошечке, вышел, запер дверь и сказал, что сейчас обед, он тоже встал и провел обеденный перерыв внизу, у реки, на своем обычном месте; а потом та же комнатушка, тот же служащий за окошечком и то же ожидание; потом зазвонил телефон, и служащий дал ему адрес строительной фирмы на Рингштрассе; а через много дней его навестил дядя: дядя подъехал на своем «опель-рекорде» — теперь у него был «опель-рекорд», — вылез и зашагал по территории, долго говорил с десятником, а потом подозвал к себе Лота и под конец подал ему руку и сказал: «Ну, стало быть, Лот, старайся. И приезжай, что ли, к нам в гости на День поминовения»; а еще какое-то время спустя, в дождливый вечер, он шел по мосту, и когда уже был на той стороне, заглянул в какое-то окно, увидел ее и вошел; она сперва не узнала его, потом рассмеялась и на минутку присела рядом с ним за столик, на который поставила пиво, и ее светлая кожа мерцала, и он почувствовал жар у корней волос. «Ты видел его?» — вдруг тихо спросила она и со странной серьезностью посмотрела на него сбоку, он покачал головой, а она добавила: «Я слыхала, он опять на свободе, — и продолжала: — Ты знаешь, где он?» Он снова покачал головой и немножко отодвинулся от нее, потому что в груди у него так сильно, подпрыгивая до самого горла, колотилось сердце. «Он, говорят, теперь снова работает на дорожном строительстве. Ты не хочешь к нему?» Он покачал головой, но сам думал — и да, и нет, да, конечно, и нет, нет, ни за что, а она сказала: «На какой-нибудь стройке ты его обязательно найдешь. В самом городе вряд ли, скорее в окрестностях, на дорожном строительстве, — и когда он посмотрел на нее, она быстро добавила: — Нет, сам он тут не был; я слыхала, как о нем говорили посетители, строительные рабочие», — и она не взяла у него денег за пиво и так провела рукой по его волосам, что его бросило в дрожь, и он быстро вышел и побрел обратно в темноте, по туманной сентябрьской улице; а потом в его памяти четко всплыл тот день, когда он стоял перед воротами строительного управления, асфальтированный въезд, высокое здание, сам он — за воротами. День светлый и холодный, начало октября, молочно-белое освещение, солнце в тумане — как автомобильная фара над крышами. Никаких теней, только звуки, тонущие в тумане, и он сам у ворот; он заглянул в ворота и ждал, думая о том, что надо было отпроситься у десятника, а потом медленно пересек асфальтированную площадку, не зная, куда ему идти, а потом стоял перед служащим строительного управления, и тот сказал: «Да, ты можешь получить работу. Разговаривать там необязательно. У меня есть для тебя место в третьей строительной бригаде. В горах».
Остальные до сих пор не показывались. Лот подошел к компрессору. Он знал, как его запускать. Когда двигатель затарахтел, он пошел дальше, взял бур отца и поднялся по обломкам камней туда, где надо будет бурить, — они все вместе перед самым обедом расчистили этот участок; бур был тяжелее, чем ему помнилось с утра. Он установил бур. Нажал на выключатель, буровая штанга неистово завертелась, а он уперся в бур бедром, чтобы на этот раз он не отклонился. Штанга медленно погружалась в скалу. «А потом я увидел здесь, в бараке, мотоцикл», — подумал он.
Барак был отсюда не виден. Он теперь находился далеко позади; передний фронт работ продвинулся уже метров на двенадцать и проходил чуть ли не под самой макушкой. Лот перестал бурить и посмотрел вверх. Голые кроны деревьев почти закрывали макушку. Она была то светло-серой, то серой, то темно-серой, в зависимости от того, какой густоты туман проплывал перед ней; а в те мгновения, когда туман не закрывал ее, она была черной.
«Мотоцикл стоял в углу, в тамбуре, — думал он, — там же, где стоит и сейчас, — и он снова запустил бур, тарахтение отдавалось во всем его теле, — и когда я приехал с Самуэлем, отец был там. Там, среди них. Он гораздо меньше ростом, чем раньше, меньше, чем я его себе представлял. Он по-прежнему пьет. Больше прежнего, наверняка больше. А теперь, — вдруг пришло ему в голову, — он еще взял эту канистру с бензином. Мерзавец — так сказал старый Муральт: кто ворует у своих здесь, в горах, — мерзавец, — думал он и даже услышал теткин голос: „Этот мерзавец сидит в тюрьме“». Он уперся изо всех сил в пневматический бур, который очень медленно входил в скалу. И зачем отцу это понадобилось, далась ему эта канистра, и что будет, если остальные дознаются. Не будь он немой, он поговорил бы с отцом, и, возможно, отец понял бы его, и они вместе начали бы все сначала. Но отец даже не узнал ключа, а теперь, думал Лот, ничего у него нет, и больше ничего нельзя сделать. Написать — нет, написать не годится — буквы, написанные на бумаге, передадут только внешнее, но не то, что можно передать голосом, — сокровенное, и то, чего сам не знаешь, а только чувствуешь. Нет, надо найти что-нибудь вернее, чем талисманы и буквы. Но, сколько бы Лот ни думал, выключив бур, чтобы немного отдышаться, он ничего не мог придумать.
«И все-таки я что-нибудь найду», — подумал он вдруг; он выбрал новую точку опоры, поднял кулаки с рукоятками на уровень бедер, включил бур и не останавливался больше, пока буровая штанга не ушла в дымящийся камень точно по отметку. Что это будет, он и сам пока не знает. Но что он это найдет, он знает, и, наверное, самое лучшее сейчас — просто подождать.
Он вынул бур и перенес его туда, где надо было бурить второй шпур. Оглянулся. И тут он увидел далеко внизу, на самом нижнем конце узкоколейки, человека под дождем. Человек махал ему рукой. Это Филиппис, подумал Лот; потом положил бур и пошел навстречу Джино Филиппису. Он увидел, как Филиппис приложил руку ко рту. Теперь сквозь дождь и завывание ветра до него донесся протяжный крик: «Возвращайся!»
Самуэль (грузовик)
Тот ветреный четверг: Муральт — рядом с тобой в кабине, в кузове — длинный Филиппис. Ты ехал медленно. Видимость была никуда. Дождь, клочья облаков, и похоже, что сегодня так и не развиднеется. А ведь было уже одиннадцать. Ты ехал очень медленно, сидел, вытянув шею, справа и слева в туманной мгле скользили навстречу едва различимые деревья. Вскоре привычно запахло разогретым маслом, бензином и горячей кожей. Муральт ничего не говорил. Только один раз, — вы отъехали всего метров на двести, и прямо перед машиной вырос камень величиной с верстовой столб, прямо посреди дороги, так что ты едва смог объехать его, — он пробормотал: «Осторожнее». И снова тишина; горячий шум мотора, дрожание руля и побрякивание переключателя передач. Да еще скрип «дворника», и тишина, и только через полчаса перед тобой вдруг выросла гора обломков высотой метра в два, а ширину даже невозможно было определить. Остановились, вылезли; при ближайшем рассмотрении последние сомнения исчезли. Обвал был совсем свежий. Из камней торчали стволы деревьев. Муральт, а потом и Луиджи Филиппис молча сели в машину вслед за тобой. На мгновение, когда ветер разогнал туман, стало видно место, откуда начался обвал, и под ним — широкий след, оставленный его движением. Как всегда, лавина при спуске постепенно раздавалась в ширину, и теперь можно было определить, что ширина завала на дороге не меньше двенадцати метров.
Муральт сказал:
— Нас отрезало.
А ты:
— Приехали. Надо возвращаться.
Только через двадцать пять минут ты, давая задний ход — Луиджи Филиппис показывал, как ехать, — довел машину до места, где можно было развернуться. Снова та же тишина, та же горячая шумная тишина, наполненная звуками работающего мотора, видимость, правда, немного улучшилась, но теперь у тебя неотступно стояла перед глазами эта заваленная дорога, и тебе вспомнился Кальман, и как он не захотел тебя слушать.
— Но уж теперь-то все, — сказал ты, и сидевший рядом Муральт повернулся к тебе лицом.
— Все? — спросил он.
— Больше я ни за что не поеду.
Муральт смотрел на тебя сбоку.
— Я думаю, надо все-таки закончить. Никуда не денешься. Мы взяли на себя обязательства.
— Делайте что хотите. Но без меня.
Этот остолоп Муральт понятия не имеет о том, что значит вести машину по такой дороге; ну и пусть себе выполняет свой долг, покуда не увязнет по уши в грязи, а то и в снегу. Но без тебя. Ни Кальман, ни управление не могут требовать от тебя, чтобы ты и дальше водил машину по такой дороге. Чистое самоубийство. А вот и барак.
А потом, Самуэль, произошел тот чудной разговор с Кальманом. Помнишь? Кальман стоял на пороге, а ты перед ним, и ваши лица постепенно багровели, и Кальман быстро сказал:
— Заткнись. Борер возьмет шесть человек и расчистит дорогу. Завтра утром сможешь снова отправляться. Хватит об этом, — и он повернулся и хотел уже войти в барак.
Да не на такого напал! Видно, он в последний раз пытался сыграть роль сильной личности, которою он не был, и, заговорив быстро и резко, запугать тебя, чтобы ты не заразил своим настроением остальных. Но он ошибся — не на такого напал. А может, ошибся он не в тебе, а в самом себе.
— Кальман, — крикнул ты, — Кальман, нет, не хватит! А ну, стой!
Кальман остановился, словно прирос к порогу.
— Кальман, — продолжал ты уже тише и так спокойно, как только мог в такую минуту, — Кальман, это хорошая мысль — расчистить дорогу экскаватором. Тогда мы проедем. Ну а что если за ночь три новых лавины завалят дорогу? Что тогда? Ты понимаешь, что я хочу сказать? Я ни за что больше не поведу машину, только последний раз отсюда в Мизер и прямиком в гараж. Все. Нас отрезало. Усек, Кальман?
Пока ты держал эту длинную речь — под конец ты даже охрип, — ты все ближе придвигался к Кальману; ты знал, ты победишь, в этом единственном, но самом важном случае ты победишь, Кальман уступит, хочет он этого или нет; только оставаться твердым, только на этот раз не проявить слабость, а остальное приложится; твое дело правое. Ты так вошел в раж и с таким нетерпением ждал ответа Кальмана, что не заметил старика Ферро. Тот уже в самом начале разговора вышел из-за спины Кальмана, вместе с ним сделал несколько шагов тебе навстречу, потом вместе с ним снова вернулся к порогу, под узкий выступ крыши, защищавший крыльцо от дождя, и теперь стоял у стены возле двери, уставившись на раскисшую площадку, на лужи, на маленькие расползающиеся горки щебня и желто-бурой глины. Он стоял так тихо, что его легко было не заметить, и только перед тем, как войти в тамбур вслед за Кальманом, который так тебе и не ответил, ты посмотрел на него; но лишь днем позже ты вдруг вспомнил про него, про него и про то, как странно тих, погружен в себя он был. Пожалуй, тогда — на следующий день часов в девять — ты даже смог себе представить, что происходило со стариком Ферро в четверг. По крайней мере, до некоторой степени. Но в тот момент ты наверняка этого не знал, да и Ферро тебя тогда совершенно не интересовал. Знал ли сам Ферро, что с ним происходит? Нет. Или тоже лишь до некоторой степени; он знал или, по крайней мере, чувствовал — подсознательно, но совершенно безошибочно — только одно: это он, это Лот. «Он меня нашел, он меня знает, он — мой сын, Лотар Ферро, Лотар Адриан Ферро. А Бет, малышка, что с ней? Лот. Это он, совершенно точно. И ключ. И точно тот же взгляд. Лена. Ее сын, мой сын, и когда он отводит глаза, у него в точности такой же взгляд. Немой. Я никогда об этом не слыхал. Ну и что? Это он, Лот», — непрерывно, медленно и четко звучали в нем эти немногие слова: он стоял, прислонясь к стене, и пытался выйти из их круга, но снова и снова попадал в него; слова были точно цепь, звено за звеном; и эта круглая цепь, или замкнутый круг, или что там это было, не выпускало его. Он был замкнут в эту цепь, в этот круг, он не освободился и тогда, когда в нем возникло еще одно, тоже издавна знакомое чувство.
В то самое мгновение, когда до него издалека донесся твой голос, Самуэль, голос, говоривший о завале на дороге, и о трех новых оползнях этой ночью, и о том, что вас отрезало, его словно бы позвал мотоцикл. То, что в нем происходило, было подобно тому, как если бы окна барака не смогли больше выдержать натиск бесконечного дождя и начали бы пропускать воду. Они начали пропускать воду, и вода стекает черными полосками от подоконника вниз по стене, она собирается в длинную лужу на полу, растекается длинными языками, ее натекло уже много, и на ее поверхность всплывает старая пыль, клочки бумаги, щепочки; так и зов мотоцикла вынес на поверхность обрывки старых картин: пустая-пустая стена камеры, выкрашенная серо-голубой масляной краской; высоко зарешеченное окошко; взгляд надзирателя в глазке; Лена; мальчик у зарешеченных ворот смотрит во двор и вдруг поворачивается и убегает, он похож на Лота; снова камера и снова NSU, эта далеко не новая, правда, но все еще быстроходная и надежная машина. Сесть в седло, включить зажигание и помчаться, легко переключая скорости и точно зная, что уж бензина-то у тебя хватит; бензина достаточно, и ты можешь в любую минуту, даже ночью, сесть и уехать, свернуть в бесконечно длинную, прямую как стрела улицу и уехать от всего этого — куда-нибудь, где никто ничего про тебя не знает, где никогда нет опасности быть отрезанным, где все по-новому; куда-нибудь, а может, и никуда — вот что значит зов мотоцикла. И к нему постепенно примешивалась мысль о канистре бензина, об этой канистре, которую он спрятал где-то там, под пустой койкой, сам толком не зная зачем; эта мысль все больше заполняла его, как дождевая вода мало-помалу заполняла бы помещение (а в это время метрах в двух ты, Самуэль, вел свой чудной разговор с Кальманом и как раз сейчас прошел за ним по пятам в тамбур), и на мгновение эта мысль затопила Ферро целиком, и он стоял и уже не мог думать словами, и тихо — так, по крайней мере, могло показаться, — а потом вода начала вдруг спадать назад, на дно воспоминаний, и к нему вернулась способность думать словами, простыми словами, вроде: «Это он, Лот. Он немой».
Но все это только так, Самуэль, между прочим. Тогда это не играло для тебя никакой роли, хотя, как мы знаем теперь, через какие-нибудь несколько часов это стало чертовски важно для всех вас и для тебя в том числе.
Но сейчас для тебя важно было другое: дорога и дождь, камнепад, оползни и Кальман. Он остановился, увидев остальных — они сгрудились в комнате у двери и заглядывали друг другу через плечо: им хотелось знать, что происходит в тамбуре. Он повернул к тебе голову.
— Есть еще вопросы?
— Да, Кальман. — Ты говорил и в самом деле спокойно. — Я хочу знать, усек ты или не усек. Надо возвращаться. Надо свертываться.
Из-за твоей спины вынырнул младший Филиппис. По его шумному дыханию слышно было, что он бежал.
— В чем дело? — спросил он. — Самуэль, что случилось?
Но и на Филипписа ты не обратил внимания, хотя после его слов стало тише. Было слышно, как за окном ревет буря. Кальман сверлил тебя взглядом, потом посмотрел на остальных и сказал, и никому из вас не забыть, как хрипло звучал его голос:
— Ну, стало быть так. Свертываемся.
Десятая ночь
Когда Лот с младшим Филипписом вернулись с площадки, все уже сидели в бараке. И отец тоже. Но сейчас Лоту хотелось быть от него подальше. Не глядя на отца, сидящего за столом вместе с Кальманом, Луиджи Филипписом и Гриммом, он прошел мимо коек в самый угол и сел на свое место у стены рядом с Гаймом. Только теперь он заметил, что все возбуждены и громко говорят, не слушая друг друга. Еще на стройплощадке, когда никто не пришел, он понял: что-то случилось, и то, как Джино Филиппис кричал ему, подтверждало это предчувствие: а теперь он вспомнил, как Самуэль, не успев подъехать, тут же бегом бросился вниз, зовя Кальмана.
— Тише! — крикнул кто-то.
Это был Гримм. Но никто не обратил на него внимания. Лот наклонился вперед, и теперь ему стал виден Кальман. Кальман сидел с отсутствующим видом, и его, судя по всему, совершенно не трогало, что Брайтенштайн напротив стучал кулаком по столу, и хохотал, и кричал: «Керер, где пиво? Я хочу выпить. Выпить за Сами» — пока Гримм не встал и не крикнул ему, чтобы он заткнулся. Брайтенштайн тоже встал. На Гримма ему было плевать, он поставил одну ногу на скамью, огляделся, все еще смеясь, а потом сказал, перекрывая своим зычным басом гул голосов:
— А ну замолчите! Кто сию минуту не заткнется, того мы раз — и пошлем на макушку. Верно, Кальман? — Он посмотрел на Кальмана. — Правда ведь, того мы пошлем наверх, и пусть напоследок он взорвет эту растреклятую загогулину. А мы посидим внизу, и посмотрим, и выпьем! Или нет, мы сделаем по-другому, — надсаживался он, — мы пошлем его искать Борерову канистру.
Тут почти все рассмеялись, и Гримм и Борер тоже, никто не заметил, что кровь прилила к голове Лота, а потом подал голос Керер, который стоял позади Брайтенштайна и теперь наклонился над столом из-за его плеча:
— Ну так как, Кальман, принести два ящика?
На виске у Кальмана вздулась жила.
Казалось, он сейчас вскочит и выдаст им как следует. Но он взял себя в руки.
— Минуточку, — сказал он.
— Тише, — рявкнул Гримм, и, когда все немного успокоились, Кальман продолжал:
— Одну минуточку. Вы все слышали. Завтра с утра мы возвращаемся. Работа на сегодня: прежде всего расчистить дорогу. Этим займется Борер, в помощь ему — пять человек. Ты, Гримм, и вы, Муральт, Гайм, Филиппис и Самуэль. Я потом подойду. Керер вместе с Джино подготовят кухню, узкоколейка и все относящееся к ней остается. Остальное, что есть на стройплощадке, снести к грузовику и подготовить к погрузке. Ферро, ты возьмешь Брайтенштайна и Немого и пойдешь с ними наверх. Кстати, запишешь, чего недостает. У кого какие пропажи, ставьте в известность Ферро. Барак очистим завтра с утра. А надраться сможете, когда все будет кончено. Вопросы есть? — и, не дожидаясь ответа, Кальман встал и направился к двери.
— Будет исполнено, ваша честь, — вполголоса сказал Брайтенштайн.
Кальман остановился у двери. Он с расстановкой произнес:
— Брайтенштайн, у тебя вопрос?
Все молчали. Он вышел.
Гримм:
— Надулся как индюк.
А Брайтенштайн:
— Нам-то что? Не забудьте: завтра в Мизере получка. — Он расхохотался.
Теперь Лот знал, что случилось, но не знал, радоваться ли этому, как Брайтенштайн и остальные. «Пакет. И зачем только он это сделал? Почему, — думал он и разок быстро взглянул на отца, — почему с ним всегда случаются всякие истории? А что, если они сейчас найдут канистру? Обо всякой недостаче надо заявлять. Заявлять ему». Нет, как бы Лоту ни хотелось уехать отсюда, радоваться этому он все-таки не мог. Сборы, приготовления — это ловушка, в которую попадется отец. «Если я немножко задержусь…» — пришло ему в голову. Он мог бы попробовать вытащить пакет и зарыть его где-нибудь внизу, где они тогда зарыли овчарку.
Пока еще, казалось, все никак не могут раскачаться и взяться за работу. Борер, Самуэль и Гримм у двери громко обсуждали, как будут расчищать дорогу. Брайтенштайн, как всегда, острил, и только на верхнем конце стола, где находился отец, было спокойно, а сам он по-прежнему сидел, полузакрыв глаза. Похоже было, что он обосновался там навсегда и никогда не встанет и не уйдет. Но в нем-то в самом спокойствия не чувствовалось. Он словно бы пытался обдумать и разрешить какую-то трудную проблему, наперед зная, что она неразрешима.
«Если я немножко задержусь… — продолжал думать Лот. — Надо подождать, и когда все выйдут, я возьму его». Но какой смысл, зачем это ему, раз отец даже не узнает его. Гайм, сидевший рядом, наклонился к нему:
— Ты небось тоже рад, что мы домой едем, а, Немой?
Лот вздрогнул. «Почему, — подумал он, — почему он спрашивает меня об этом? Что знает он обо мне?» Но, взглянув в лицо Гайма, он понял, что его вопрос не ловушка, и попытался выразить мимикой, что он тоже рад вернуться домой.
Кто-то остановился перед ним. Он поднял глаза — Джино Филиппис; Джино Филиппис пробормотал:
— Немой, я хочу тебя кой о чем спросить. Пошли. — Он кивнул на конец комнаты. Лот встал и последовал за ним к задней стене. Джино Филиппис сказал, повернувшись к нему: — Насчет той койки. — Не глядя туда, куда Филиппис указал движением подбородка, Лот понял, что речь идет о свободной койке. Он кивнул. — Эти шмотки и эта картонка — старика Ферро, верно?
Лот кивнул.
— А ты, — спросил Филиппис, — ты держишь свои манатки на полу под этой койкой, верно, Немой?
«Да», — кивнул Лот. При этом он посмотрел мимо Филипписа на стену. Пакет.
Филиппис:
— Знаешь, мне хотелось бы знать, что у тебя в пакете из оберточной бумаги. Ты не покажешь его мне? — и Лот почувствовал, как взгляд Филипписа метнулся ему в лицо.
Но тут из тамбура загремел чей-то голос:
— В чем там дело? Идете вы наконец или решили здесь зимовать? А ну, сию минуту выходите!
«Нет!» — Лот поспешно покачал головой. И, обогнав Джино Филипписа, он машинально снял с крючка в тамбуре свою защитную каску и стал подниматься вслед за старым Ферро и Брайтенштайном на стройплощадку, подгоняемый ветром и дождем и охваченный злостью, ослепший от злости, так что он не раз спотыкался о рельсы и шпалы; он сам не знал, на что злится больше: на Филипписа, на зажимы у себя в горле или на отца. На отца, виновного в том, что он не может говорить, что он не может вернуться домой, как Гайм и остальные, не может вернуться завтра домой, потому что некуда ему возвращаться. Отец, который теперь вместе с Брайтенштайном тащит сюда пневматический мотор, виноват во всем. Даже к Марте он не сможет завтра пойти, потому что ведь она прогнала его, и потому что, возможно, к ней пойдет отец, подумал он, и на мгновение для него умолкла буря, и он увидел перед собой ее, ее лицо, и волосы, как темный ветер, и мерцающие зубы, и улыбку; он увидел ее, а потом вдруг, все в ту же секунду, пока он подходил к мотору, а буря все еще молчала, появилась мать: большое лицо, обращенное к нему; серьезная улыбка и ощущение мягкости, которое ей неизменно сопутствовало, появилась она сама, а вместе с ней тот давнишний запах чистого белья и горячего утюга, консервируемых фруктов, приторного бузинного сиропа и окна, открытого в августовский вечер; появился даже ее голос, как тогда она в темноте тихо рассказывала про всякие необыкновенные вещи — про ангелов-хранителей, про волков, и про орехи, про поля, про пресвятую деву, про горох, про облака, и про мышей, и про железную дорогу… На какое-то мгновение он ощущал только ее голос, и больше ничего, ощущал ушами, носом, и губами, и руками, и глазами, — а потом снова зашумела буря.
— Да идешь ты, наконец, — сказал Брайтенштайн. Как видно, у него испортилось настроение. Он упирался плечом в компрессор. Рядом с ним — отец.
— Давай, Немой, не стой сложа руки, — сказал он.
Лот взялся за железное дышло впереди, стал тянуть.
Колесики с эбонитовыми шинами медленно пришли в движение, и примерно через час они уже свезли почти все оборудование: компрессор, четыре бура, кирки и лопаты, кроме тех, которые понадобились для расчистки дороги; все стояло и лежало, готовое к погрузке, а под конец они занесли обратно в тамбур взрывчатку.
— Так, — сказал Брайтенштайн, когда они опустили ящик со взрывчаткой на пол под окном. — Сходи к Кереру и принеси нам несколько бутылок.
У Лота тоже пересохло в горле.
Он снова вышел. Поднимаясь по ступенькам, он подумал о том, что в кухонном бараке сейчас Филиппис. Он не остановился, но замедлил шаг. «Ты не покажешь мне пакет?» Что имел в виду Джино Филиппис, что он заметил, знает ли он, что это не Лот положил пакет под кровать? «Он считает, что это я, — подумал он, все больше замедляя шаг. — Он думает — я, и он хочет, чтоб я ему сам его показал, потому что хочет меня уличить. А я ведь тут ни при чем, вообще ни при чем, и, может быть, надо было бы показать Филиппису кто… — мелькнуло у него в голове. — Если Филиппис спросит еще раз, показать рукой на отца», — он шагал все медленнее и, дойдя до бочки с водой, зашел под парусиновый навес и остановился.
Он не знал о том, что в это время произошло в тамбуре жилого барака. Когда Лот вышел, отец посмотрел ему вслед и подумал: «Ну, теперь не зевать!» Некоторое время они с Брайтенштайном проверяли наличие взрывчатки; он механически повторял за Брайтенштайном: двадцать шеддитовых патронов. Пятнадцать ящиков со взрывными капсюлями. Два каменных молотка. Две буровые коронки; он повторил и последние слова Брайтенштайна, который вытащил разрезанный на куски запальный шнур и сказал: «Все равно бы нам его ненадолго хватило, шесть метров, не больше». «Да, шесть метров, не больше», — пробормотал он, но это сейчас для него не имело значения. У него была еще возможность, последняя, он это знал. Каким же он был идиотом, когда отцепил эту канистру, принес ее сюда, в этот самый тамбур, и завернул в бумагу! Была ночь. Он, вероятно, хватил лишнего, иначе он не сделал бы такой глупости. Все уж спали. Он смутно припомнил, как, шатаясь, шел вверх по дороге и вдруг очутился перед экскаватором, увидел слева под кабиной водителя канистру, закрепленную на петлях, сорвал ее с петель, принес под дождем сюда, а потом засунул пакет под пустую койку. Сейчас подходящий момент. Лота еще нет, и если он на несколько секунд отделается от Брайтенштайна, он запросто возьмет канистру и закинет ее куда-нибудь в чащобу. Конечно, поворачиваться надо быстро. Того и гляди придут Керер и младший Филиппис, и вернется Лот, а то и Кальман.
Он встал.
— Ума не приложу, куда он запропастился с пивом…
Брайтенштайн все еще сидел на корточках перед ящиком. Он укладывал все обратно.
— У меня у самого пересохло в горле, — ответил он.
И встал.
— Сходить бы взглянуть, что с ним стряслось, — сказал Ферро.
А Брайтенштайн:
— Жуть как пересохло, — и вышел. Ферро провожал его взглядом, в то же время медленно продвигаясь к внутренней двери. Увидев, что Брайтенштайн остановился вверху на краю дороги, под дождем, спиной к нему, он бросился в комнату, в дальний угол. Наконец-то он один! Он нагнулся и вытащил канистру. Вещи Лота. Ну да. Тот самый старый чемодан. Значит, точно. Скорее.
Он почувствовал, как у него заколотилось сердце. Что это? Свист. Сверху, со стороны барака, наверное, это Брайтенштайн. Скорее…
Но если обо всем этом Лот не знал, то голоса за деревянной стеной, в кухне, он слышал. Слов он не разбирал, говорили тихо. Хлопанье парусины у него над головой и стук передвигаемых в кухне ящиков время от времени заглушали голоса, потом они возникали снова: вот голос Филипписа, а вот — Керера, и вдруг он услышал совершенно четко:
— А он головой качает. Представляешь!
Филиппис. Джино Филиппис. Лот знал, о ком речь.
О нем самом. Он не шевелился. Только еще ближе придвинулся к стене барака. Что ответил Керер, он не расслышал. Потом опять голос Филипписа:
— Видел бы ты его лицо! Перепугался до смерти.
— Вот болван-то! — Это был голос Керера. — Уж сделал бы хоть как-нибудь похитрее!
Лот широко раскрыл рот, но все равно не расслышал, что еще сказал Керер.
— Похитрее? — голос Филипписа. — А чем же это не хитро? Кому бы что пришло в голову? Представляешь!
Снова хлопает парусина. Если б хоть ветер не ревел. Это не я. Честное слово, не я. Отец. Не я. Если б хоть ветер не ревел, можно было бы и вправду все расслышать. Он, Лот, услышал бы даже тарахтенье экскаватора далеко на дороге.
— Заявить Кальману. А что ж еще остается? Хотя бы для того, чтоб он знал на будущее, что за воровство по головке не гладят. Верно? — голос Филипписа.
Потом раздался свист. Лот обернулся. Наверху, на дороге, там, где начинался спуск к бараку, стоял Брайтенштайн. Он размахивал руками, и похоже было, что он что-то кричит.
Но ведь я не могу войти, думал Лот, сейчас — не могу, и он очень медленно обошел барак и оказался на другой его стороне. Дверь была открыта, и перед ней уже стояли друг на друге три ящика, а рядом с ними корзины с пивом. Не сводя глаз с двери, Лот подошел еще ближе, схватил верхнюю корзину и быстро унес. Он не чувствовал ее веса. Брайтенштайн ушел, наверное, он увидел, что Лот уже несет пиво, и Лот радовался, что принесет сразу восемнадцать бутылок.
— И где ты околачивался! А ну, тащи эту батарею сюда. — Брайтенштайн первым вошел в комнату. Отец уже сидел за столом. Лот поставил корзину на скамью. Вынул три бутылки.
— Твое здоровье, старик, — сказал Брайтенштайн. Лот был рад, что они начали пить, и, не глядя на Брайтенштайна и на отца, снова вышел в тамбур и повесил на свой крючок защитный шлем и мокрую плащ-палатку. Он услышал, как отец в комнате произнес: «Твое здоровье, Немой». Больше уклоняться было нельзя. Он вернулся в комнату и взял бутылку. Откупорил, и пена выплеснулась наружу. Пиво было холодное.
Муральт (узкоколейка)
Снега, Муральт, пока еще не было и в помине. К вечеру только чуть похолодало. Впрочем, те, кто работал внизу на трассе, этого почти и не заметили, попробуй-ка помахать лопатой три часа без передышки — взмокнешь под плащ-палаткой; и только когда дорога была расчищена и вы ехали домой на грузовике, вы вдруг ощутили холод и сгрудились потеснее, а когда слезли и возвратились в барак, заметили, что руки и ноги у вас совсем закоченели. Правда, за горячей похлебкой и жареной колбасой с картошкой вы постепенно разогрелись. Однако же настроение за столом по-прежнему было унылое, и похоже было, что и последний вечер в бараке пройдет так же, как все вечера до этого, — тупая усталость, и ничего интересного. Все сидели на своих местах за столом, неприятное чувство подспудного напряжения вроде бы исчезло, каждый почувствовал облегчение оттого, что вся эта морока в горах приближается к концу, но к веселью никто не был расположен. Только Брайтенштайн, кажется, снова был в ударе; он говорил очень громко, и похоже было, что пока вы за всех отдувались там, внизу, он уже успел хватить порядочно пива. Впрочем, и Ферро, судя по всему, уже усосал несколько бутылок; он сидел с мрачным видом наискосок от тебя, и его слезящиеся глаза покраснели еще больше обычного.
Но вернемся к снегу — очень уж не по душе тебе был снег. Может быть, потому, что он напоминал тебе про тот случай на горе Пасванг, про вашего тогдашнего экскаваторщика на строительстве туннеля; он был из Французской Швейцарии и завел себе внизу, в Рамисвиле, девчонку, иногда он вовсе не приходил ночевать, пока однажды его не застиг снег. Нет, в снег можно разве только в крайнем случае вырыть несколько сточных канав в Мизере, но прокладывать горные дороги — это тебе не по вкусу.
— И даже снег нас не захватил, — воскликнул рядом с тобой Брайтенштайн и подтолкнул тебя локтем. — Хотя Муральт пророчил нам снег!
— Ну что ж, — отозвался ты, и по лицам видно было, что настроение теперь поднялось хоть бы до среднего уровня, — просчитался!
Гримм наклонился вперед:
— Муральт, ты недавно рассказывал мне про случай на Пасванге. Давай, остальные, наверное, тоже хотят послушать.
— Давай, Муральт, — подхватил Брайтенштайн и заорал: — Тише! Муральт расскажет про случай на Пасванге!
— А вы правда хотите послушать?
Ну, конечно же, они хотели — хотя в общем-то все давно это знали — и ты, стало быть, начал, и когда ты дошел до этого места, как рамисвильские парни подкараулили твоего экскаваторщика за церковью и избили и как он вырвался и давай бог ноги, лесом, наверх, стало тихо-тихо, только в печке потрескивало, да вода тихо журчала за окнами, и порой хлопала парусина внизу, и звучал твой голос:
— Он как припустит по лесу; и еще какое-то время слышит, как эта компания гонится за ним с дубинками, хотите — верьте, хотите — нет, все это всплыло потом на суде, вот такие они там бандиты. Темно — хоть глаз выколи. Ни зги не видно. Перед ним все кусты да деревья, и только он остановится, чтоб дух перевести, как слышит, что они с криками его догоняют. И вдруг что-то холодное, мокрое и холодное, у него на щеке; он сам не знает, то ли это пот, то ли кровь, а на самом деле это был снег. Конечно, разумнее было бы спрятаться в подлеске, верно? Через полчаса они бы разбежались по домам, и он мог бы спокойно подняться. Черт, забыл его фамилию. Из Французской Швейцарии, из Мутье. Но он, когда увидел снег, еще сильнее припустил вверх по лесистому склону, выбежал на первые луга, бежит дальше, снова в лес, дальше среди елей, снег у него перед глазами, на волосах, снег забился за шиворот. Про рамисвильских парней он и думать позабыл. Думает только про снег, который застиг его и сейчас засыплет. Думает: вот он-то меня и доконает. Если только мне не повезет и я не добегу до барака, здесь он меня доконает. Он чувствует, что у него вязнут ноги, задыхается, добирается до трассы, которую мы построили, добирается до входа в туннель. Но до барака, где мы все спали, он уже не добрался. Кто-нибудь видел этот барак? Он, по-моему, и сейчас еще там стоит, примерно в сотне метров от туннеля, в лесу. Сердце у него сдало, ноги подкосились, и так он и остался лежать. Я первый вышел утром из барака, и он так и лежал у входа в туннель, уже занесенный снегом.
— Ну, а дальше? — спросил Брайтенштайн.
— Какое там дальше. Тут ему и крышка. Хана.
— Это я и без тебя понял. Но мы хотим знать, что вы сделали, отомстили вы этим, из Рамисвиля, или нет? — Волосы у Брайтенштайна упали на лоб, и видно было, что он с нетерпением ждет рассказа о грандиозной драке.
— А за что им мстить? Они, что ли, виноваты? — возразил ты. — Они-то при чем, если у него сердце сдало?
А Брайтенштайн:
— Здрасьте, а кто же виноват? Кто-то же, наверное, был, кого стоило избить, так или нет? — Он обвел вас чудными остекленевшими глазами, одного за другим, и вдруг расхохотался и стукнул тебя своей лапищей по плечу: — Муральт, все ты врешь, черт тебя подери! Все-то ты нам голову морочишь: «Думает только про снег», ведь так ты сказал? «Думает, он меня доконает» — и так далее — и ты хочешь, чтобы мы тебе поверили? Да ты-то откуда знаешь, что он думал, твой экскаваторщик? Ты что, перекинулся с ним словечком, когда нашел его замерзшего у туннеля? Ладно тебе заливать, Муральт, я тебя поймал, все это небылицы.
Все рассмеялись. А Гримм подмигнул тебе и кивнул в сторону Брайтенштайна:
— Он не такой дурак, каким прикидывается.
— Пива! — крикнул Брайтенштайн. — Повеселимся напоследок. Последний у нас сегодня вечер или нет? Кальман, скажи-ка!
Кальман рассмеялся.
— Да я не меньше тебя рад.
Керер принес из прихожей пять бутылок.
— Больше нет, — сказал он.
Брайтенштайн встал.
— Керер, что за дурацкие шутки? Тащи сюда пиво.
— Серьезно, — сказал Керер. — Больше нет.
На мгновение стало тихо.
— Ты хочешь сказать… — пробормотал Брайтенштайн и осекся, и вдруг Ферро сказал:
— Керер, а ну давай тащи водку.
И так, стало быть, продолжалось еще некоторое время, Брайтенштайн пел, но по-прежнему только он один и был в ударе, а потом Брайтенштайн снова обратился к тебе и сказал:
— А ну, Муральт, расскажи-ка нам еще что-нибудь. Расскажи про суд. Это был настоящий суд?
У тебя — да и, как ты заметил, не только у тебя одного — промелькнула мысль насчет Ферро, у которого нашлось бы что порассказать на эту тему. По крайней мере, такие слухи ходили, кажется, Самуэль рассказывал, что-то про тюрьму, и про его жену, точно никто не знал, да это было и неважно. Ты сказал:
— Ну а как же, конечно, было следствие. К нам наверх заявился инспектор. И масса шпиков, в форме и в штатском. Мерили следы, выспрашивали нас поодиночке, как на настоящем допросе; потом укатили, и мы только слыхали потом, что и в Рамисвиле все эти расспросы оказались без толку. Через десять дней мы свернулись и возвратились в город. Одно могу сказать — эти десять дней в снегу были самые скверные.
— Вот интересно бы при этом побывать! Настоящий суд. Здорово интересно, — кивнул Брайтенштайн.
Он теперь, как видно, вступил в фазу задумчивости и, хотя бы ненадолго, угомонился. С полчаса или больше настроение в бараке было сносное, стало тихо, уютно, только уже догоравшая печка пофыркивала и урчала; в густом дыму карбидная лампа казалась далекой-далекой; дым окружал ее густыми клубами, и тут появилась водка. Керер поставил на стол пузатую оплетенную бутылку, и Гайм, который сидел в самом низу стола рядом с Немым, хихикнул себе под нос, взглянул на Кальмана и снова захихикал, и вдруг Гримм спросил:
— Что это с ним? Гайм, ты чего развеселился?
А Гайм на это, продолжая хихикать — и очень он был похож на крота:
— Я вспомнил про Шава. Зря он убежал. Я говорю, оказалось, не было в этом нужды. Кальман все равно никого не посылал наверх…
— Что значит — не посылал наверх? — спросил Кальман, хотя он, конечно, как и все остальные, понимал, что Гайм имеет в виду макушку.
— Точно, Гайм, нам и с макушкой повезло, — произнес длинный Филиппис, и тут Брайтенштайн рядом с тобой вдруг снова встрепенулся. Он стукнул по столу и закричал: «Выпьем же, выпьем за растреклятую загогулину». Он схватил тебя и заставил встать, и вскоре вся бригада кружком стояла у стола с поднятыми стаканами, в которых до половины мерцала водка; кто-то затянул «Маленькую Жильберту», вы качались из стороны в сторону, подхватывая припев, а Брайтенштайн отбивал такт по столу пустым стаканом. Вспомни, Муральт: как ветром сдуло усталость, и этой тоскливой атмосферы вечернего барака вдруг словно не бывало; теперь вы почувствовали, что завтра — в обратный путь, завтра — домой, и на третьем куплете все лица уже лоснились от пота и водки. Ты слышал, правда, как Гримм заметил Кальману, что, в сущности, мол, это жаль, и что он предпочел бы, чтобы вы уже сковырнули макушку и сейчас могли не думать о том, что весной первым делом надо будет произвести этот взрыв, но Кальман махнул рукой и сказал: «Пускай остается как есть», ну а когда потом братья Филипписы встали и исполнили «Коломбу», тут уж вы поняли, что всей этой волынке по-настоящему пришел конец.
Брайтенштайн больше не сидел рядом с тобой. Ты заметил это только тогда, когда он заорал у двери:
— Я требую тишины в зале!
Раздался хохот, все оглянулись, а он, как бог свят, стоит у двери, подняв руку, лицо полупьяное, в плащ-палатке, а на голове его собственная черная шляпа. Но он ее перевернул, так что поля были не снизу, а сверху. Вид чудной до невероятности.
— Угадайте, кто стоит перед вами? — закричал он.
Борер крикнул: «Санта Клаус!», но это, конечно, была ерунда, это был какой-нибудь ученый хмырь, адвокат, что ли.
— Судья! — кинул Гайм своим тоненьким голоском.
Брайтенштайн кивнул.
— Правильно. — Он продолжал, и его голос звучал, как будто он говорил в пустую бочку: — Поступила жалоба. Жалоба на неизвестное лицо. — На мгновение он вынужден был замолчать — его душил смех. Потом продолжал снова совершенно серьезно: — Пусть суд займет свои места. Ферро, — крикнул он, — Муральт, сюда!
— С ума ты сошел, парень, — сказал Ферро, уже довольно тяжело ворочая языком, — ну только не я.
— Давайте, — закричали у стола, — давайте, вы двое — старшие.
Ну и ты встал. А почему бы и нет? Хотя никто из вас не знал, в чем заключается игра, наверное, и сам Брайтенштайн понятия не имел, главное, что происходило что-то интересное, и теперь было ясно, что этот последний вечер под самый конец все же окажется веселым. Ты стоял рядом с Брайтенштайном. Теперь подошел и Ферро, и когда вы встали как следует, слева Ферро, справа ты, а Брайтенштайн в своей чудной шляпе посередке, он объявил:
— Суд хочет пить. Тащите сюда водку!
Самуэль принес вам стаканы, хохот за столом не прекращался, и чуть ли не громче всех смеялся Кальман. Он крикнул:
— Одну минуточку! — Стало потише, и он сказал: — Сначала некоторые формальности. Выражаем ли мы доверие этому суду? — Он оглядел стол.
— Выражаем, — крикнул Гримм.
И другие подхватили:
— Конечно, выражаем!
А Кальман:
— И этот суд имеет право приговаривать к наказаниям?
— А как же, непременно к наказаниям, — заорал Самуэль, он стоял рядом с Гаймом, еле держась на ногах. И все подтвердили: да, имеет.
Ты, Муральт, спросил: «К каким наказаниям?», но Брайтенштайн уже снова вступил в игру, громовым голосом он потребовал тишины, потом сказал:
— Поступила жалоба. Где Борер? Почему Борер не предстает перед судом? Иди сюда!
Тут у тебя мелькнула смутная догадка насчет того, куда клонит Брайтенштайн. Ведь у Брайтенштайна с Борером старые счеты, и вот тут-то он ему и покажет. В сопровождении Самуэля, который молча взял на себя роль судебного пристава, — пристав, впрочем, был уже пьян в дым, — вышел Борер. Правда, в лице у него застыла настороженность, и, стоя перед вами, он сказал:
— В чем дело, Брайтенштайн?
— Я тебе не Брайтенштайн! Это суд. Суд должен выяснить некоторые обстоятельства. Вот истец, — обратился он снова к остальным. — Истец вчинил иск, он утверждает, что его обокрали. Верно я говорю?
— Совершенно верно, — рассмеялся Борер, но видно было, что чувствует он себя при всем при том здорово не в своей тарелке.
— Другими словами, — воскликнул Брайтенштайн, — Борер утверждает, что один из нас — вор. Верно?
Борер:
— Так оно вроде получается.
А Брайтенштайн:
— Правильно. Значит, все мы, — закричал он, и его язык начал заплетаться, — подозреваемые. Значит, требуется расследование, верно?
Самуэль, и Гримм, и длинный Филиппис рассмеялись. Кальман тоже не мог больше сдерживать смех, а те, кто сидел в заднем ряду, встали.
Несколько человек крикнуло: «Дальше».
— Одно из двух, — продолжал Брайтенштайн свое выступление, — или Борер прав, и среди нас есть последняя сволочь. Или он не прав, и тогда держись, Борер!
Вы покатывались со смеху. «Точно! — кричали со всех сторон. — Правильно», а Брайтенштайн кивнул, поднял руку и продолжал:
— У Борера сперли канистру с бензином. Истец, когда это было?
Никуда не денешься, пришлось и Бореру поддержать игру.
Самуэль принес ему водки.
— Две недели назад.
— Подозревает ли кого-нибудь истец?
Борер медлил. Он оглянулся, и у каждого екнуло сердце, но потом он наконец произнес:
— Нет, никого.
— Оставь ему лазейку, — подал голос Ферро. — Пусть возьмет назад свой дурацкий иск, если хочет уйти подобру-поздорову.
— Ничего подобного, — закричал Борер, — иск…
Но его прервал Гримм:
— Оставь ему лазейку, пусть Борер сам решает.
И со всех сторон раздалось: «Пусть сам решает».
А Брайтенштайн:
— Хорошо. Не возражаю. Ну, Борер, как ты — сдрейфишь или мы все-таки выведем эту сволочь на чистую воду?
Борер кивнул:
— Пропала канистра, — пробормотал он, — и тут мне никто голову не заморочит.
Аплодисменты покрыли его слова.
— Врезал он тебе? — сказал длинный Филиппис.
В это мгновение твой взгляд упал на Керера. Керер сидел рядом с младшим Филипписом, и они оба были очень серьезны, они вполголоса перекинулись несколькими словами, и Керер — ты это ясно видел — за спиной у Гримма протянул руку к Кальману и подтолкнул его. Кальман выпрямился. Через голову Гримма Керер что-то сказал ему, показывая на младшего Филипписа и кивая, но Кальман, очевидно, не понял, он только поморщился, махнул рукой, рассмеялся и стал снова внимательно слушать судебное разбирательство. А потом все снова завертелось, потому что Гримм воскликнул:
— А наказание? Ты должен ему сказать, что его ждет, если он проиграет.
— Наказание, — объявил Брайтенштайн, — определяет народ. Лично я — за виселицу, — и он посмотрел на потолочную балку.
— Точно, вздернуть! — восхищенно заорал Самуэль и хотел добавить еще что-то в этом роде, но длинный Филиппис спокойно произнес:
— Да ну, что за чушь. Каждый врежет ему разок, и хватит.
Но у тебя, Муральт, была другая идея. Ты, правда, уже здорово захмелел, но еще соображал, что приятное можно совместить с полезным.
— Я думаю, раз уж все равно надо взрывать макушку, почему не поручить это Бореру или тому, другому, кого мы найдем? По-моему, так лучше всего, верно?
Ты и не задумался о том, как поведет себя Борер, который почувствовал теперь, что дело принимает весьма серьезный оборот. Две-три секунды он оставался странно спокоен. Твое предложение было для всех неожиданностью, и Гримм крикнул: «Молодец, Муральт!», но тут Борер понес всякий вздор.
— Постойте, — закричал он, и вся его злость словно была у него на роже написана, — вы что, все с ума посходили, об этом и речи быть не может, только не я. Разве я…
Дальше дело у него не пошло. Все остальное, если он что-то еще и лепетал, утонуло в хохоте Брайтенштайна. Ты помнишь, Муральт: Брайтенштайн, смеясь уже довольно жутковатым смехом, стоит рядом с тобой, потом поворачивается к тебе, пошатываясь, со стаканом в руке, ширено раскрыв огромную пасть, а пот ручьями течет по его лицу; этот здоровенный парень перед тобой, — уже больше не добродушный, смеющийся Брайтенштайн, а огромное пьяное двуногое животное, тяжелые волны хохота, поднимающиеся из глубины его собственного существа, сотрясают, захлестывают его. Нет, у Борера не оставалось никакой лазейки. Все, что он сказал или все еще пытался сказать, было смыто волнами этой противоестественной веселости судьи в перевернутой шляпе и мантии из плащ-палатки. Только порой в шквале его хохота можно было различить отдельные слова: «То, что нужно, как раз то, что нужно», или: «Муральт, друг, ты…» или, к примеру: «Великолепно, ну и вылупит он глаза!» Ясно было одно; твое предложение, которое ты высказал наобум — просто оно вдруг пришло тебе в голову, когда ты смотрел на их лица, — твое предложение страсть как пришлось ему по сердцу. Он и сам не ожидал, что игра, которую он затеял тоже наобум, окажется такой веселой. Впрочем, и другие этого не ожидали, и тем горячее откликнулись на шутку Брайтенштайна их разгоряченные водкой сердца.
Итак, судебный процесс — ты, конечно, и сейчас помнишь все подробности — шел своим чередом. Правда, какое-то подобие тишины восстановилось лишь минуты через три, не раньше. Борер, обведя вас всех растерянным взглядом, попытался сесть на свое место. Но это ему не удалось, потому что Самуэль и длинный Филиппис, багровые от смеха, схватили его и вытащили вперед. После длительного сопротивления он как будто подчинился и неподвижно стоял между ними.
Брайтенштайн снова потребовал тишины в зале, повернулся к истцу и, заикаясь, провозгласил:
— Борер, тихо! До приговора еще далеко. Все будет расследовано, можешь не сомневаться! Держи хвост пистолетом! Если правда кто-то спер у тебя твою кастрюлю, суд выведет его на чистую воду. Будь спокоен, не сомневайся. Мы хотим справедливости.
Ты сам не слишком сочувствовал Бореру. Парень он вообще-то неплохой, но эта история с канистрой — наверное, он ее просто потерял и никак не хотел в этом признаться, даже самому себе. Ему только на пользу пойдет, если ему слегка вправят мозги, а завтра с утра пораньше он взорвет макушку — макушку, которую иначе все равно придется взрывать весной и тогда уже кому-нибудь другому. Конечно, если ночью пойдет снег, то эта и так уж не слишком веселая работенка может стать более чем неприятной, подумал ты вдруг. Но потом все опять очень быстро завертелось.
Ты не замечал того, что происходило рядом. А между тем все это имело непосредственное отношение к вашей игре. Во-первых, старик Ферро: он стоял по другую сторону от Брайтенштайна и рукой нащупывал дверной косяк позади себя. Потом крепко вцепился в него. Во-вторых, Немой: он дрожащей рукой подносил украдкой к губам уже четвертый стакан; перед его глазами давно уже все колыхалось, но сквозь это колыхание он пристально смотрел в лицо старому Ферро. И в-третьих, вой ветра за окном, ветра, который гнал мимо окна и над крышей дождь вперемежку с первыми жидкими хлопьями снега.
Одиннадцатая ночь
Было слишком поздно. Шумели всё больше, и Лот глядел на длинного Филипписа, который, пошатываясь, странно пританцовывая, прошел мимо него в глубь барака и повернулся на месте; держа стакан в руке, он улыбался улыбкой наркомана, одинокий танцор запрокинул голову, и кружился, пьяный, в клубах дыма, и выпевал своим чужеземным певучим голосом: «Суд найдет его, суд его найдет»; одно и то же повторял он, монотонно, нежно, в отдалении. Лот через плечо наблюдал за ним.
Рядом кто-то шепотом произнес: «Справедливость», и, повернувшись, он оказался лицом к лицу с Гаймом. Маленький, забитый человек, обычно тихий, как мышка, был охвачен лихорадочным возбуждением, пьяная маленькая мышка-очкарик; Лот посмотрел в это лицо, увидел, как мерцают расширенные зрачки, и услышал шепот Гайма, тихо и самозабвенно повторявшего: «Мы хотим справедливости. Мы хотим справедливости».
Он отвернулся. Слишком поздно. Слишком поздно, чтобы подумать или чтобы выйти, или лечь и завернуться в толстое шерстяное одеяло; слишком поздно, остается только сидеть и наблюдать за лицами то хохочущих, то хихикающих, то вновь разражающихся хохотом людей. И водка не помогала: внутри засело чувство ужаса, он оцепенел от ужаса и лишь слегка вздрагивал, когда его взгляд встречался с серьезными глазами Джино Филипписа или падал на пьяное, растерзанное лицо отца у дверного косяка, возле Брайтенштайна.
Брайтенштайн, теперь уже в третий раз, крикнул: «Всем встать! Каждый становись у своей койки со стаканом в руке!» — и он понял, что этот приказ относится также и к нему. И под пение и смех он встал и со стаканом в руке направился в глубь комнаты. А смех Брайтенштайна — как пулеметная очередь в спину.
И вот уже Брайтенштайн кричит:
— Борер, встань на скамью! Следи за каждым движением. Ты будешь надсмотрщиком. Отличный надсмотрщик, верно? Ты, Муральт, иди в тот конец, а Ферро будет сторожить дверь. Быстро! Все готово?
Все было готово минуты через три. Филиппис, думал Лот, господи, Джино Филиппис, что у него на уме, и в его ушах возник голос Филипписа, говоривший за стеной кухонного барака: «Хитро? Еще бы нехитро… чтоб он знал на будущее, что за воровство по головке не гладят»; но кажется, пока Филиппис ничего делать не собирался; он стоял, как и другие, перед своей койкой, смеялся, поднимал стакан, он тоже был пьян, но когда Брайтенштайн в своей чудной страшной шляпе сделал несколько шагов и крикнул: «Все ясно?! Расследование начи… начинается!» — Джино Филиппис поднял руку.
— Стоп! — воскликнул он, обращаясь к Брайтенштайну. Голос у него был пронзительный, он прорвался сквозь шум, и на мгновение стало тихо.
Брайтенштайн посмотрел на него:
— В чем дело?
— Может, кто-нибудь, — сказал Филиппис, — хочет еще что-нибудь сказать.
— Вот отмочил, — послышался от двери голос Самуэля.
А Брайтенштайн:
— Не понимаю, куда ты клонишь. Суд…
Но Филиппис перебил его:
— Нет, я имею в виду… Может, кто-нибудь знает, в чем дело, и сейчас признается суду. Может же такое быть, верно? Ведь если кто-нибудь сейчас добровольно признается, ты смягчишь ему наказание, верно, Брайтенштайн?
Брайтенштайн посмотрел на Муральта, потом на отца, караулившего дверь:
— Что думает по этому поводу суд?
Но не успели Муральт или отец ответить, как Филиппис продолжал:
— Может, кто-нибудь что-нибудь знает, может, он даже хочет сказать? — Филиппис медленно повернул голову к Лоту, поглядел на него и закончил: — Но не может. — Лот увидел глаза Филипписа. Глаза, смеющиеся и угрожающие. Он знал, что думает Филиппис. Его горло сжималось, все смотрели теперь на него, а ведь он не виноват, он не имеет отношения к пакету под кроватью, где хранятся его вещи, он — нет; почему к нему направляется Брайтенштайн в своей жуткой шляпе и смеется этим неестественным смехом, почему вдруг стало так тихо, и только гул за окном звучит в ушах, и почему отец стоит на месте, почему не подходит прямо сейчас, сию же минуту; и Лот ткнул себя рукой в грудь и изо всех сил затряс головой: «Нет, не я».
«Стоп!» — голос Самуэля. И тут же Борер со своего наблюдательного пункта: «Стоп, одного не хватает. Ферро исчез. Суд…» Его слова потонули в новом взрыве шума. Все бросились к двери. Голос Самуэля раздавался уже из тамбура: «Ферро! Ферро!» И если бы Брайтенштайн, у которого была луженая глотка, не растолкал всех, не пробился к наружной двери, не отогнал от нее Гримма, Керера и Кальмана, который еле держался на ногах от смеха, и не захлопнул дверь, все бросились бы в погоню за Ферро.
— Ничего! — кричал Брайтенштайн. — Давай все назад. Каждый на свое место. Положить манатки на койки. Открыли мешки и чемоданы! Ферро я сам займусь. Наверное, блевать пошел, — добавил он. — Давайте дальше!
В тамбуре послышались голоса Самуэля и Керера. Дверь распахнулась, и Лот увидел отца. Подталкиваемый Самуэлем, отец, шатаясь, подошел к столу. Остановился. Он успел вымокнуть под дождем. Голова свешивалась на грудь. Кажется, он в чем-то убеждал его, но понять ничего нельзя было, потому что Самуэль все время кричал:
— Дальше, дальше давайте! Где водка?
А Гримм:
— Что у нас сегодня, последний вечер или нет? Кальман, скажи-ка!
Он взял со стола оплетенную бутылку и разлил водку по стаканам, протянутым Самуэлем, Кальманом и Борером.
— Давай, Немой, скорей! — услышал вдруг Лот голос Джино Филипписа. — Ты остолоп. Она же у тебя, давай. — Филиппис наклонился к Лоту, дохнув на него водочным перегаром. — Давай ее мне, и мы положим ее под пустую койку Шава. Они же все пьяные в дым. А завтра, когда будем уезжать, я им расскажу, тогда это будет уже неважно, да и к тому же они протрезвеют. А сейчас скорей давай, — он подмигнул, и Лот увидел, как он быстро прошел мимо него к пустой кровати, сел на корточки, стал шарить, обернулся, поманил Лота к себе, еще поискал и вдруг резко спросил: — Где она у тебя?
У стола уже снова раздался голос Брайтенштайна:
— Эй, давайте скорее, алкаши вы несчастные! Все манатки на койку! — Но Лот ничего не понимал, он присел на корточки рядом с Джином Филипписом и пытался в полумраке разглядеть под кроватью пакет. Его чемодан. Рюкзак, ботинки. Пакета не было. Лот посмотрел на Филипписа. Он покачал головой, указывая при этом на себя. Потом Филиппис вытащил чемодан, а Лот — рюкзак.
Над ними раздался голос Муральта:
— Эй вы, что вы так закопались? Манатки на одеяло!
Он смеялся, и Лот увидел в его глазах какой-то странный блеск. Оба встали, положили чемодан и рюкзак на кровать Лота, и Филиппис отошел. Ее нет, думал Лот, канистры нет, отец убрал ее, и на мгновенье чувство ужаса внутри отпустило, и ему даже удалось рассмеяться, когда Брайтенштайн в сопровождении Муральта подошел к нему и воскликнул:
— Отвечай суду. Все ли это, что у тебя есть? — Он указал рукой на вещи, лежавшие за спиной у Лота на кровати. — Открыть.
Муральт помог ему открыть чемодан. Брайтенштайн сказал:
— Ничего нет. Следующий.
Теперь стало потише, и, перейдя к Луиджи Филиппису, Брайтенштайн сказал то же самое, и все засмеялись. Расследование продолжалось. Муральт вернулся и перерыл вещи отца, лежавшие на свободной койке: два чемодана и рюкзак, потом он снова прошел мимо Лота. При этом он слегка подтолкнул его локтем, указал на перевернутую судейскую шляпу Брайтенштайна и постучал указательным пальцем по лбу. Ненормальный, мол.
Лот вытащил свою смятую пачку сигарет. Наблюдая за Джино Филипписом, до которого сейчас как раз дошла очередь, он закурил, выпуская дым одновременно изо рта и из ноздрей; это он теперь умел не хуже Самуэля и всех остальных, и он старался выглядеть таким же спокойным, как, например, Филиппис-старший, который стоял рядом с ним у своей койки и ждал конца расследования. Похоже было, что ему повезло и что всем постепенно надоедала слишком сложная игра, и, возможно, все бы сейчас и кончилось, они выпили бы вместе еще по последнему стакану и пошли бы спать, но тут Керер что-то крикнул младшему Филиппису, и тот, еще раз взглянув на Лота и пожав плечами, обратился к Брайтенштайну:
— Я хочу сделать заявление.
— Заявление? — воскликнул Брайтенштайн, и было видно, как ему приятно, что Джино Филиппис так активно участвует в игре. — Тихо! Филиппис сделает заявление.
— Я же говорил! — Борер слез со скамьи. — Кто-то же должен что-то знать, и если это Филиппис…
Брайтенштайн отстранил его.
— Тихо, — сказал он. — Слово имеет Филиппис. Ну, в чем дело?
Лот разобрал только отдельные слова: «Пакет, да, Немой, был на месте еще сегодня в обед, именно такого размера, представляете, — сказал Кереру». Но он знал, в чем состояло заявление Филипписа, и когда Брайтенштайн позвал его, он медленно двинулся вперед, опустив глаза в землю. Все собрались вокруг Брайтенштайна и Филипписа. Борер стоял на скамье, Самуэль в дверях. Только отец теперь сидел на скамье у стола. Лот знал это, хоть и не поднимал глаз; Брайтенштайн сказал «Немой», и Лот остановился. Он был спокоен.
— Немой, — продолжал Брайтенштайн, — как же так? Ты слыхал? Слыхал, ну так вот. Суд хочет знать. Суд хочет знать, куда ты девал этот пакет с канистрой. Давай показывай.
Лот поднял глаза. Он посмотрел на Брайтенштайна, посмотрел на остальных — разгоряченные водкой, напряженные лица, а Филиппис сказал:
— Сам знаешь, я хотел оставить тебе лазейку. Но ты наврал, ты все отрицал.
Он слышал его слова, он слышал и вой ветра за окном, слышал, как хлопает парусина, слышал — так обострены были все его чувства — легкое потрескивание в печке и скрип балок; слышал все, кроме того, как мокрые хлопья снега бесшумно падают на крышу и на карниз окна; даже тихое пыхтенье на верхнем конце стола услышал он и, чуть-чуть отведя глаза от груди Брайтенштайна, встретился (между плечом Брайтенштайна и плечом Муральта) с глазами отца. Глаза широко раскрыты. Блестят от водки. Он подпер кулаками лицо. Он старый. Рот у него полуоткрыт. Он трудно дышит. Пыхтит, как насмерть перепуганная собака. Густая тень лежит на половине его лица, и Лот вдруг снова почувствовал — довольно одного-единственного слова, и громадное расстояние между ним и этим человеком, его отцом, исчезнет, они будут вместе и вместе выдержат все. Но, как ни напрягался и ни извивался его язык, он не мог освободиться от зажимов, ничего не получалось, кроме нечленораздельного звука, которого никто не услышал. Нет, и он покачал головой. Покачал головой и вернулся к действительности, к Брайтенштайну и остальным, и Филиппис резко сказал:
— Немой, ты врешь. Ты знаешь. Где она?
А Брайтенштайн:
— Давай, Немой, показывай, ты же ее спрятал.
Лот качал головой. Он не знал, где канистра. Правда не знал. Знал он одно — взять ее не мог никто, кроме отца.
— Хорошо, — произнес Брайтенштайн. Он огляделся. — Все обыскать. Весь барак. — Он засмеялся. — Самуэль, Луиджи и ты, Джино, вы займетесь тамбуром.
Но теперь Лот знал и другое: что для них с отцом уже слишком поздно. Они оба теперь одиноки. Каждый сам по себе. И в общем-то эта история с канистрой потеряла для него всякое значение.
Филиппис Луиджи (узкоколейка)
Ты нашел ее. Она стояла в темноте за мотоциклом Ферро, в заднем углу тамбура. В комнате снова запели, кто в лес, кто по дрова, ты различал голоса Гримма, и Керера, и Кальмана, и даже Гайма. Ты поднял пакет за веревочку и тут же догадался, что это канистра. Подошли Самуэль и твой брат.
— Вот, — сказал ты. — Никаких сомнений.
— Да, — сказал Джино. — Я так и знал. Именно этот пакет я видел. Пойдем.
Вы вошли в комнату. Немой, ссутулившись, сидел на задней скамье и как раз поднес ко рту стакан. Но пить не стал. Так и застыл со стаканом в руке.
— Следи за Немым, — сказал Джино.
— Ловкач, — пробормотал за твоей спиной Самуэль, а тут подоспели и остальные и окружили вас, Борер радостно смеялся, а Брайтенштайн, который, похоже, за это время успел еще выпить, вспомнил вдруг о своей роли, облапил тебя вместе с канистрой и стал громовым голосом требовать тишины. Это продолжалось долго; наконец все снова уселись на свои места у стола. Ты сидел на нижнем конце стола, и тут же стоял обвиняемый. Самуэль — рядом с ним, в роли стража. У верхнего конца стола стоял суд. То есть стояли там Брайтенштайн и Муральт, Ферро — нет. Ферро по-прежнему горбился на скамье, и Гримм сказал:
— Оставь его в покое. Он готов.
Гримм был прав. Стоило только взглянуть на Ферро — он лежал на столе, опустив голову на руки, иногда по его плечам и затылку пробегала дрожь, да, он был готов. Допился до чертиков. Жалко его. А впрочем, это ведь последний вечер.
— Оставь его в покое, завтра ему полегчает, — сказал Муральт, когда Брайтенштайн хотел схватить Ферро за шиворот и поставить на ноги.
Брайтенштайн закричал:
— Но суд должен быть в полном составе. Гайм заменит Ферро, верно?
Никто не возражал. Гайм, покачиваясь и улыбаясь своей не слишком умной улыбкой, вышел вперед и встал слева от Брайтенштайна. Как ни странно, эта до невероятности идиотская сцена вовсе не казалась теперь смешной; вас охватило настроение мрачной торжественности; все были озадачены появлением этой дурацкой канистры, в существование которой давно уже никто не верил; но вот она, доверху налитая бензином, стоит перед вами на столе; все видят ее, а при желании каждый может потрогать, и очень интересно, как поступит суд при столь внезапно изменившихся обстоятельствах. Конечно, настроение изменилось и под действием водки. Каждый выпил свою меру, и теперь все перешли из стадии веселья в стадию задумчивости. Да и как было не задуматься, глядя на Немого: он стоял такой одинокий, такой печальный, с таким душераздирающе беспомощным выражением на широком лице, что на него просто больно было смотреть, по крайней мере, так было с тобой, Луиджи Филиппис, и у тебя вдруг появилось желание вскочить, выставить бедного мальчика за дверь, а всем остальным растолковать, что к чему. Но суд уже, кажется, удалился на совещание: Брайтенштайн стоял к вам спиной, Муральт и Гайм — справа и слева от него; они негромко беседовали, а все сидели и ждали, только Борер то и дело ударял кулаком по столу и разорялся насчет того, что, мол, он всегда был уверен и как он здорово утер нос Брайтенштайну, который думал, что ему удастся взять в оборот его, Борера. Странно, Филиппис, но у тебя было чувство, что все совсем не так просто, как кажется, и возможно, все-таки надо было дать Немому возможность защищаться; помнишь, Филиппис? Чем дольше ты смотрел на Немого, тем отчетливее становилось это чувство.
И когда Брайтенштайн повернулся к вам лицом и мрачно провозгласил:
— Следствие закончено. Канистра найдена. Сегодня в обед она была обнаружена свидетелем. Она была упакована и лежала среди вещей вот его, Немого…
И когда Борер прервал его возгласом:
— Молодец, Джино Филиппис!
И когда Муральт в ответ крикнул «Тише», а Брайтенштайн уже раскрыл рот, чтобы продолжать речь, тогда ты не выдержал, ты встал и громко сказал:
— Не так уж тут все ясно, черт подери. Факты как будто говорят против него. Но я думаю, кто-нибудь другой мог с таким же успехом…
Но Борер, и Гримм, и еще кто-то перебили тебя возгласами: «Брось! Все ясно! Посмотри на него! Мы за справедливость!» — и поднялся такой шум, что у тебя не было никакой возможности продолжать, особенно после того, как и Брайтенштайн включился и заорал громовым голосом:
— Правильно! Филиппис верно говорит. Да тише вы! Суд, слышите, я говорю: суд тоже задавался этим вопросом. Немому должна быть предоставлена возможность сказать «да» или «нет». Если он признается, дело закончено, и произносится приговор, если не признается — следствие будет продолжено. — Немой, — он возвысил голос. — Ты украл эту канистру? Да или нет?
Все замерло. Наверное, огонь в печке погас; во всяком случае, тебя знобило. Немой поднял голову. Он как будто прислушивался. Да или нет? Он перевел глаза с Брайтенштайна на тебя, с тебя на Кальмана, с Кальмана на Борера, а с Борера на Ферро. Ферро поднял голову и что-то пробормотал спьяну и под взглядом Немого снова замолчал. Теперь, Филиппис, задним числом, можно строить всякие догадки о том, что происходило в душе у Немого, и обсуждать различные варианты, и, пожалуй, можно с достаточной вероятностью предположить, что перечувствовал и передумал в этот тревожный и напряженный миг от вопроса Брайтенштайна до ответа Немого старый, допившийся до чертиков Ферро и что произошло между ним и его сыном. У каждого из вас, присутствовавших при этом, свое мнение, но никто не станет утверждать, что знает все и до конца убежден в своей версии, и потому лучше, пожалуй, держаться того, что все вы можете подтвердить со стопроцентной уверенностью.
А именно:
Немой медленно отвел взгляд от старика, посмотрел на канистру, на бутыль с водкой посреди стола, на свой стакан, на свои руки и при этом все ниже опускал голову.
А потом кивнул.
— Ну вот, — сказал Борер.
Наступила тишина. Такая тишина, черт побери, что снова стало слышно, как за окнами шумно вздыхает буря и хлопает парусина. Потом Брайтенштайн сказал, и он вроде даже опять уже смеялся:
— Немой, вопрос исчерпан. Ты, стало быть, свистнул ее. В общем-то тебе повезло, что мы все это провернули в своем кругу. Верно, Кальман, в сущности, надо было сообщить в управление, и тогда, голову даю на отсечение, они бы тебя выперли. Ты знаешь, что теперь от тебя требуется. Где макушка, тоже знаешь. Лучше всего отправляйся-ка туда завтра с раннего утра, перед отъездом. Где надо бурить шпуры, ты, наверное, тоже знаешь. Ты уж встань пораньше. — Он снова рассмеялся. — Работа, я думаю, займет часа два. Выпьем.
И он поднял свой стакан, снял левой рукой шляпу, нахлобучил ее на канистру, а потом выпил.
Немой, который все это время стоял очень спокойно, тоже схватил свой стакан, где водки, мерцавшей в свете карбидной лампы, осталось на донышке, быстро поднес его к рту и опрокинул. Но тебе-то, Филиппис, тебе, по правде говоря, расхотелось пить, а особенно когда ты снова поглядел на Ферро. До чего странный у него был вид! Все вокруг один за другим вставали, потягивались и, нетвердо держась на ногах, отбывали в направлении своих коек, а он все сидел у печки, из которой падал на пол тусклый отблеск тлеющих углей, сидел, привалившись к стене, прижав затылок к оконному стеклу, а подбородок — к груди; но хотя глаза его были закрыты, он не спал. Наоборот, сейчас он вдруг пошевелил губами, открыл рот, как будто приготовившись произнести длинную речь, но издал лишь еле слышный стон, поднял указательный палец, словно вел очень важный разговор, где каждое слово имеет значение. Он повел пальцем из стороны в сторону, опустил руку, покачал головой и возобновил разговор с пустым пространством. Да, вид у него был более чем странный. Упился, это само собой, но не только в этом дело. Было в нем что-то призрачное, а может, так казалось из-за плававшего вокруг дыма. И еще что-то хищное и жестокое. Он напоминал старого кровожадного зверя, с которым не справиться охотникам, а может, старого, измотанного охотничьего пса, прожившего уже четверть века и раненного, возможно, раненного смертельно. Ты стал продвигаться вдоль стола и оказался как раз напротив него. И тогда ты увидел, что на самом деле глаза у Ферро вовсе не закрыты. Нет, между веками оставались тоненькие щелочки, и сквозь них тебя обжег его взгляд. Взгляд, устремленный на тебя. Правда, неизвестно, видел ли он тебя. Ты вдруг протрезвел. Наклонился к нему через стол.
— Ферро, — негромко обратился ты к нему, — ты не спишь? Ты что, напился?
Он не отрывал от тебя взгляда.
— Господи, Ферро, да не смотри ты на меня так страшно. — Ты рассмеялся, надеясь, что и Ферро чуть-чуть повеселеет. Но Ферро только очень медленно приподнял веки и продолжал смотреть на тебя, потом в нем как будто проснулась жизнь, он оперся одной рукой о скамью, другой — о стол и попытался встать. Два-три раза пытался встать и снова падал на скамью. Потом наконец поднялся, встал на ноги, не сводя с тебя взгляда, прошел мимо тебя, схватился за дверной косяк и, спотыкаясь, вышел. Ты увидел в окно, как он исчез в полумраке. Ты все же хлебнул еще разок и в это время услыхал, как он двигает ящиками в тамбуре, что-то бормоча себе под нос. А когда ты сам вышел в тамбур, он как раз сел на ящик и, как каждый вечер, как все эти долгие недели, ссутулился на своем обычном месте перед мотоциклом.
Ты не подошел к нему. Ты остался на пороге; в комнате, за твоей спиной, все без лишних разговоров укладывались спать; тебя охватило какое-то смешанное чувство любопытства и тайного страха, перед тобой все время всплывало лицо Немого, настроение у тебя испортилось, разгоряченный водкой, ты мерз в тамбуре и все же не уходил и смотрел на старика. Он не видел тебя. Ссутулившись, сидел на ящике и даже не снял мешковину со своего мотоцикла, ничего не делал, только не отрываясь смотрел на мотоцикл; иногда его фигура словно бы сливалась с сумраком, не было слышно ни звука, даже в бараке за твоей спиной воцарилась мертвая тишина, и только иногда старый Ферро, подняв руку, начинал медленно водить указательным пальцем в пустоте и возобновлял свой одинокий пьяный разговор.
— Пошли, старик, — сказал ты. — Пошли, пора на покой.
Он поднял голову и повернулся к тебе лицом. Ты едва различал его лицо в темноте. Потом он сказал:
— Лот.
— Что? — спросил ты.
— Это ты. Лот.
«Ну вот, высказался, — подумал ты. — Господи, в таком непотребном виде я его еще не видел. Знать бы хоть, что это за Лот».
— Ну, ясно, Ферро, — сказал ты. — А как же. Но сейчас пойдем. Спать пойдем.
Ферро глядел на тебя, и в глазах у него мерцало и вспыхивало.
— Это ты, — сказал он. — Это ты — теперь я уверен. Лот.
— Ну, конечно, это я, — ответил ты. Только бы увести его отсюда; подхватит еще в этакой холодине воспаление легких со своим Лотом. — Что за вопрос, — продолжал ты. — Но сейчас это неважно. — Ты рассмеялся. — Знаешь, все мы надрались. Пошли, пора на покой.
— Вот здесь, — сказал на это Ферро, — здесь садись.
Ну что ж, видно, ничего не поделаешь. Ты похлопал его по плечу, а он снова указал рукой перед собой и сказал:
— Вот здесь. Садись.
Ты улыбнулся ему и сказал:
— Да, видишь ли, старик, тут и стула-то нет для меня, тут только твой драндулет стоит, и, кроме того, уже слишком поздно, ложись-ка ты тоже спать поскорее, — и ты открыл входную дверь, и увидел, что на дворе все посерело. Серый мокрый снег. И ветер… Ветер глухо завывал. Ты снова вспомнил Немого. Вспомнил его широкое лицо. Бедолага!
Когда ты возвратился, старик сидел в той же позе. Он снова поднял голову, посмотрел на тебя, что-то сказал, и опять про этого Лота, но тебе не хотелось снова ввязываться в такой чудной разговор, и ты пошел в комнату.
Последняя ночь
Утром вставали тоже без лишних разговоров, с похмелья всем было худо, не помогло и горячее какао — этот последний стакан какао выпили стоя. За окнами снова сеялся мелкий дождичек, а отца не было. Только выйдя в тамбур, Лот увидел его — отец сидел перед мотоциклом, лицо у него было серое — похоже, что он глаз не смыкал всю ночь. Лот, впрочем, боялся долго на него смотреть, он подтащил к окну ящик со взрывчаткой, открыл его и начал подготавливать заряды; вышел длинный Филиппис, присел на корточки рядом, они вместе молча работали.
— Кальман, — сказал Филиппис, когда тот тоже вышел в сопровождении Борера и еще двоих, — семи патронов хватит?
Кальман остановился. Лот увидел, что его ботинки перестали двигаться. Кальман ответил:
— Хватит и пяти.
Ботинки задвигались. Вышли.
Они продолжали работать, к ним присоединился Брайтенштайн, он на чем свет стоит ругал этот мокрый снег и дождь, а потом Филиппис вынул молоток и две тяжелые буровые коронки.
— Проверим, — сказал он. — Заряды. Молоток. Две коронки. Про запас два последних куска шнура. Изоляционная лента. Нож у тебя есть. А спички есть?
Лот кивнул.
— А рюкзак? — спросил Филиппис.
Об этом Лот не подумал. Он пошел в комнату. Там все собирались, он снова вывалил свои вещи на койку, чтобы освободить рюкзак, и в это время Самуэль велел выходить грузиться. Он слышал, как все выходили у него за спиной. Он остался один; он подумал: «Это я успею потом», ведь о взрыве он думал очень долго, почти полночи, и совершенно точно знал, что и как будет делать, и он думал: «Я быстро с этим справлюсь, а потом успею». Он, впрочем, еще увидел пожитки отца, они лежали неупакованные на койке, но он не мог больше задерживаться, теперь надо было думать о главном, не отвлекаться, а остальное потом, успеется, когда главное будет позади.
— Ну вот, — сказал Брайтенштайн, когда он вышел. Он и Филиппис помогли ему уложить все в рюкзак. Он взял защитный шлем, надел плащ-палатку, рюкзак и еще постоял перед дверью. Он думал: «Что с ним, почему он так сидит? Может, подойти к нему? Сделать как-нибудь, чтобы он понял: я иду вместо него только потому, что так лучше и проще, потому что он слишком много выпил, да и вообще старый», — но тут Брайтенштайн сказал:
— Ну вот, Немой. Но если ты считаешь, что лучше нам это уладить весной… — и Лот вышел. Когда он проходил по площадке, никто не поднял головы, так все заняты были погрузкой, и Лот увидел, что Кальмана среди них нет. Он остановился. Тогда Муральт в кузове оторвался от работы и сказал:
— Если тебе нужен Кальман, он пошел на кухню руки мыть. — Но Лот мог обойтись и без Кальмана, он и так понимал, что взрывать макушку надо было там, где начинается свес.
— Веревка у тебя есть? — спросил Муральт.
Нет, веревки у Лота не было.
— Веревку надо взять, на всякий случай, — сказал Муральт. — Давайте веревку! — крикнул он, и все прекратили погрузку, начали искать, открывать ящики, переглядываться, вроде бы даже были рады возможности искать веревку. Наконец Самуэль принес веревку из кабины. Это была хорошая, почти новая веревка, не та, которая запомнилась Лоту по первому дню, а гораздо короче. Он перекинул ее через плечо. Снизу, из леса, донесся протяжный свист. Наверное, это свистел мальчик в плаще-накидке, и, поднимаясь к стройплощадке, Лот подумал: «Хоть бы уж они ему сказали, чтобы он знал, что нечего искать эту собаку»; но и это лишь быстро мелькнуло у него в голове, сейчас он не имел права думать ни о чем, кроме макушки; он дошел до площадки, усеянной мусором вчерашних взрывов, и продолжал подъем. Снег уже почти растаял. Лежал он только на плоских местах, — посеревший от дождя, с маленькими темными углублениями, — в ямках и на подветренной стороне каменных глыб. Лот стал взбираться вверх точно над шпуром, который сам пробурил вчера, и только теперь увидел, как близко к основанию макушки они уже подвели дорогу. Еще метров двадцать — и он был у подножия макушки. Он продолжал подниматься.
Скала была мокрая. И холодная, он чувствовал это ладонями; однако на ней были удобные выступы, уступы и крапчатые серо-черные утолщения, и хотя иногда какой-нибудь камень, за который он хватался или на который ступал, подавался, а потом с шумом катился вниз, Лот быстро продвигался вперед. Глаза ему застилал пар — это застывало его собственное дыхание. А ветер, где же ветер? Он взглянул через плечо вниз.
Верхушки и ветви елей по-прежнему тяжело колыхались на ветру, и слышался гул, а впереди и правее, метрах в трех от Лота, ветер свистел на разные голоса. Только здесь, в этой вертикальной расщелине, в этой почти прямоугольной и почти отвесной траншее, по которой он взбирался, было затишье, хотя ветер дул именно с этой стороны. Наверное, дело в том, что воздух скапливается здесь и образует воздушную подушку, которая не пропускает сюда ветер. Лот стал подниматься медленнее. Здесь надо сориентироваться. Потому что, наверное, именно отсюда он должен подобраться к свесу. Да. Еще два метра по этому уступу, и он дотянется коронкой до свеса. Он нашел точку опоры, осторожно снял веревку с плеча, перекинул через каменную глыбу, выступавшую слева, медленно снял рюкзак и повесил пока на левую руку. Правой вытащил костыль, молоток и снова вбил костыль. Теперь у него было место для рюкзака. Он повесил рюкзак на костыль. Следующая задача — рассчитать. Рассчитать две вещи — где ему заложить заряды и где укрыться. Все шнуры были примерно с метр. Значит, гореть они будут минуту. За минуту он должен добраться до укрытия. Он поднял глаза и увидел, что траншея уходит вверх еще метров на десять. Значит, долезть до верха он никак не успеет. Перевел взгляд левее — уже лучше. В трех метрах — углубление. Если он доберется туда и вплотную прижмется к скале, он будет, пожалуй, надежно защищен. Он взял веревку и полез туда, вверх и левее. Запоминал, где хвататься за выступы. Наверху нашел еще один небольшой выступ и привязал к нему веревку. Попробовал — прочно. Осторожно спустился, по-прежнему лицом к скале: крохотные ручейки сбегали по узким щелям вниз, быстрой капелью спадали с маленьких выступов, встречавшихся им на пути; холод мокрого камня покусывал пальцы; запыхавшись, он добрался до рюкзака; сунув в правый карман второй костыль, а в левый два заряда, заткнув молоток и конец веревки за пояс, он начал взбираться и вдруг посмотрел вниз. Увидел отвесную стену, крутой склон под ней. Немного правее — мусор вчерашних взрывов. Еще правее, почти на одном уровне с ним, голые ветви буков и верхушки елей, а между деревьями стройплощадку. Там, внизу, стояли Филиппис, Луиджи Филиппис с Гаймом и Борером. Они смотрели вверх. В желудке у Лота появилась пустота. Люди внизу, деревья, склон, стена и макушка начали слегка смещаться вправо, поворачиваться, он почувствовал дрожь в пальцах, в руках, в коленях. Он быстро закрыл глаза, свесил голову на грудь, так что край шлема уперся в камень, схватился за скалу, крепко прижался к ней, ожидая падения; в висках и в горле у него стучало, потом головокружение стало отпускать, оно быстро проходило, прошло совсем.
Медленно и не сводя глаз со скалы, он пополз по уступу. Закрепил и тут веревку. Потом начал работать — пробивать в щели под свесом, прямо над головой, первый шпур, потом второй, третий, каждый глубиной сантиметров в тридцать. И все. Заложить заряды, забить дырки мхом, и камнями, и мокрой черной землей, которую ему удалось наскрести в расселинах, один шпур за другим, как можно скорее и не глядя ни вниз, ни по сторонам, и через час — пусть соленый пот, смешиваясь с дождем, заливал ему глаза — все заряды были на своих местах, все пять шеддитовых зарядов, которых, конечно, хватит, и запальные шнуры свисали из шпуров, и все было готово. Теперь он должен еще сложить инструмент в рюкзак и отнести его в укрытие, а там повесить на втором костыле. Он снова дополз по уступу до самого первого шпура, отвязал там веревку и закрепил ее у пояса. Теперь только бы не намокли спички. Он насек ножом концы запального шнура. Не оглядывался. Положил в рот пальцы и трижды свистнул. Внизу, конечно, услышат свистки и уйдут в укрытие.
Крепко держась за скалу и вынимая спички, он не видел, что происходит внизу. Он не видел, что погрузка почти уже закончена. Не знал, что Муральт еще раз зашел в барак. Старый Ферро сидел, в точности как час назад, перед мотоциклом, укрытым мешковиной, и только когда Муральт сказал ему, что, мол Филиппис сообщил — сейчас будет взрыв, он с какой-то странной медлительностью, вроде как бы во сне, поднялся и вышел.
— Где он? — спросил он вдруг и неожиданно зашагал вдоль рельсов с такой быстротой, что Муральт едва поспевал за ним, думая про себя, что, дескать, хмель из него еще не вышел. Ферро не ожидал ответа на свой вопрос. Когда Муральт был метрах в двадцати от остальных, — они все собрались на том месте, где вчера производились взрывы, и смотрели вверх, — раздалось три свистка.
— Давай в укрытие! — громко сказал Брайтенштайн.
Муральт свернул влево, остальные сбежали вниз и присоединились к нему, и Муральт забыл про Ферро.
— А этому что там понадобилось? — воскликнул вдруг Брайтенштайн, и только тогда они снова увидели Ферро. Он взбирался вверх по строительному мусору и обломкам камней. Взбирался быстро. Все удивились, а Кальман сказал:
— А ну верните его!
Но все стояли, и только потом Брайтенштайн сдвинулся с места.
Обо всем этом, стало быть, Лот не знал, и запальные шнуры быстро загорались, один за другим. Времени ему осталось мало. И, закончив, он быстро вернулся в траншею и взобрался налево вверх. Сейчас, подумал он. Он повернулся спиной к скале. Перед ним было небо. Одной рукой он взялся за костыль, другой ощупывал скалу в поисках выступа. Вот он. Голову он немного отвернул. Защитный шлем с ремешком, туго натянутым под подбородком, и чуть выступающая часть скалы мешали ему видеть макушку. Только бы от сотрясения не рухнула вся скала. Сейчас. Через четыре или пять секунд. Он приоткрыл глаза и, не поворачивая головы, стал смотреть вниз.
Брайтенштайн. Брайтенштайн с поднятой рукой, в двух-трех метрах от стройплощадки, на крутом склоне.
Брайтенштайн что-то кричал. И вдруг повернулся и двумя прыжками добрался до укрытия: и в то же мгновение Лот увидел отца. Отец взбирался быстро, он поднял голову, и Лот увидел сквозь дождь его лицо.
И все. Мощный удар — огонь, взрывная волна, грохот. Тишина, в ушах тоненькое жужжанье. Чернота перед глазами. Больше ничего. Ничего. Лот широко раскрыл глаза. Далекий гул осыпающихся обломков, туман, а в тумане, далеко внизу, — лицо. Он ничего не чувствовал, ничего не слышал и даже не почувствовал, не услыхал собственного крика, в пустое небо полетело слово из глубины его души, слово из того прежнего времени: «Отттец». Громко, два, три раза подряд. Громко: «Отеццц!»
Он долго не мог шевельнуться. Потом повернулся, снова лицом к скале, отец умер, он не взял ни рюкзака, ни веревки и начал карабкаться вверх по траншее; свеса больше не было, вверх, вверх, он не решался больше смотреть вниз, он достиг верхнего края и, оставив позади стену и усыпанный свежими обломками склон, где был отец, и стройплощадку, где были остальные, вошел в колючий кустарник, он опустился на колени, упал ничком в заросли, скрестив руки на мокрой земле, покрытой палым листом, и уткнулся лицом во мрак. И так остался лежать.
Примерно через полчаса они нашли старого Ферро. Не считая раны на правом бедре, он был невредим. Но, без сомнения, мертв. Они посовещались, и кому-то пришла в голову мысль снарядить Ферро в обратный путь, завернув его в парусину Керера. Двое вернулись к кухонному бараку, сорвали парусину, и еще через час все было готово: и пожитки Ферро погрузили, и его мотоцикл, и его самого; только Немой еще не вернулся. Тогда трое двинулись по крутому склону, дошли до перевала на Фарис и в обход поднялись на самый верх. Они нашли место, где Немой, видно, выбрался из расщелины. Нашли и его следы, и место, где мокрая листва была примята лежавшим здесь человеком, нашли защитный шлем; но Немого они не нашли, и он не появился, как громко они его ни звали.
Тогда они вернулись и все собрались у грузовика; кто-то сказал, что сразу же после взрыва слышал, как Немой кричал; на это ему никто не ответил, а потом они решили, что ждать бесполезно и что Немой, наверное, как-нибудь уж доберется. Они оставили его вещи в бараке, оставили дверь открытой и сели в машины. Первым тронулся экскаватор, потом грузовик, и в кузове, где сидели люди, лежала парусина с телом Ферро. В Мизер они прибыли в начале первого.
Вот что остается добавить: 27 декабря того же года в полицейский участок Фариса (округ Морнек) явился человек. Его одежда была изорвана, и похоже, что он целый месяц ничего не ел. Совсем еще молодой парнишка; он заявил, что 21 октября на дорожном строительстве у перевала убил своего отца.