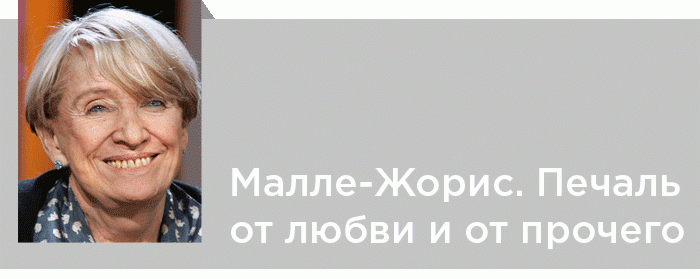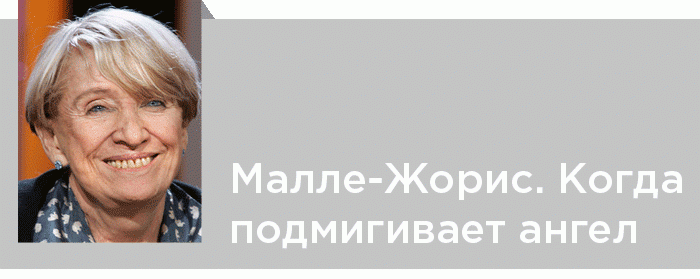Франсуаза Малле-Жорис. Дикки-король
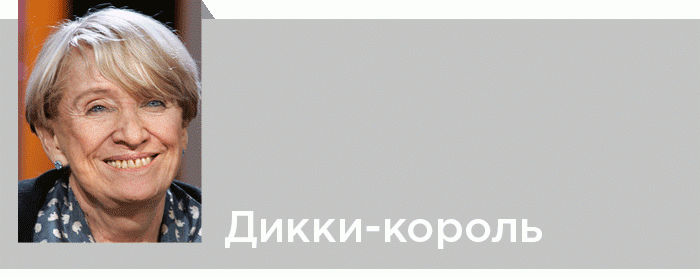
(Отрывок)
Часть первая
Клоду тридцать восемь лет, Фанни на десять лет моложе. Они поженились пять или шесть лет назад, и вот теперь она собирается уйти от него к пятидесятишестилетнему барону Оскару. Клод — человек добрый, здравый, веселый, немножко грузный и временами медлительный: типичный антверпенец, купец (в широком смысле слова, так как служит финансовым инспектором в «Синеко»), из тех фламандских дельцов, что втайне вынашивают множество грандиозных планов. И трезво, вернее, практически мыслят. Клод любит деньги и не стыдится этого, ему нравятся деньги и риск. Он интересуется всем на свете, всем, что происходит, меняется в мире. У него привлекательное лицо, живой взгляд, обезоруживающая улыбка. Он может быть обворожительным, хотя и неаристократичен: это человек увлекающийся, он всего добивается сам.
Клод покупает картины, потому что любит живопись и потому что они растут в цене. «Мне претит твоя вечная погоня за двумя зайцами», — говорит Фанни. Неприспособленность к жизни, элегантная томность придают ей еще больше очарования. Фанни — жгучая брюнетка с невероятно хрупкой, стройной фигуркой, настоящая красавица, и красота ее столь изысканна и утонченна, что даже навевает легкую грусть.
Фанни познакомилась с Клодом в Брюсселе, в кругу дипломатов и иностранных специалистов. То ли на коктейле в отеле «Хилтон», то ли в посольстве одной из малых стран. Перед ней предстал широкоплечий, весьма модно одетый мужчина; он говорил по-французски, английски, нидерландски, держался непринужденно. Она не разглядела в нем фламандца, человека с такими прочными корнями, что хоть весь мир обойдет, а домой всегда вернется. Он только что приехал из Гамбурга и уже вылетает в Токио открывать японский филиал своей фирмы. Клод заводит ее в дальний угол гардеробной и целует. И все же это человек с севера, из Антверпена, города, где картины прячут под замок, задернув их занавесками из зеленой саржи.
Клод встречается с Фанни. Восхищен. Очертания ее губ бесподобны. Он убежден, что глаза у Фанни фиолетовые, а то, что утонченности в ней больше, чем интеллекта, придает ей какую-то загадочность. Фанни польщена, заинтригована такой пылкостью. (Современные мужчины, из тех, что попадаются ей на каждом шагу, не способны на такие страсти.) Любовь эта прежде всего чувственная, но не только. Клод чувствует, что надо убедить, увлечь молодую женщину, хотя и не начавшую жить, но уже пресыщенную; он посвящает ее в тайны своего ремесла, объясняет механику денежных оборотов: она этим приятно поражена. В ее семье говорить о подобных вещах было не принято. И она, которую пичкали лишь отвлеченными идеями, вдруг заинтересовалась подлинной жизнью; голова у нее идет кругом. Благодаря Клоду она надеется сделать массу открытий: увидеть все, что скрыто за поверхностной и в чем-то претенциозной культурой, которую ей прививали, за показной красивостью теорий. Благодаря Клоду она узнает, что жизнь — это несправедливая, а иногда и абсурдная вещь.
Ей внушают, что он «чужд французскому духу» (так говорят ее родители и их друзья) и «несколько реакционен» (так утверждает ее лучшая подруга, изучающая историю искусств в Брюссельском университете). Вот почему, придя к нему на свидание в бар отеля «Хилтон», она чувствует себя героиней. «Он меня обожает», — твердит она подругам. Словно извиняясь за то, что надела розовый пуловер из ангорской шерсти: безвкусный, но очень уж теплый. «Клод такой „китчовый“», — заявит она накануне того дня, когда в комнате своей подруги уступит ему, не успев сказать «здравствуй». Случившееся одинаково ошеломило обоих. То было бездумное и чистое влечение, как в начале мира. Не увидеться на следующий день было невозможно. Клод терзался оттого, что не сумел облечь эту великую страсть в красивые слова, уверения, клятвы: так все-таки полагается. До самой свадьбы они не найдут для этого времени: их сжигает нетерпеливое желание быть вместе, всякий раз убеждаясь, что им доступна эта неиссякаемая радость… Таких потрясенных, опьяненных друг другом их и поженят под негодующий ропот обеих семей.
Фанни, в сущности, еще ребенок: своим восхищенным подружкам она рассказывает, будто Клод уже во время третьего свидания овладел ею силой, зажав рот рукой. «Не думала, что в наше время такое возможно», — призналась Анни, та самая, что предоставляла им комнату. Это она изучает историю искусств; на свадьбе ей предстояло быть подругой невесты.
Помимо описания этой бурной страсти и силуэта Антверпена, что маячит на заднем плане, к рассказу об этой женитьбе добавить нечего: у Клода есть дом (в Брюсселе говорят — маленький особняк), вилла в Зуте, акции в банке, где он служит; а теперь будут два автомобиля. Фанни сможет приезжать в Брюссель, когда пожелает. Она побывает в Париже, Гамбурге, Токио. Они не будут расставаться. Всегда будут вместе. Но Фанни очень быстро остывает. Без конца выступать в роли советчицы, соучаствовать во всем, что Клод делает, разглядывает, переживает, ест, — право же, утомительно. По ее мнению, он слишком многого хочет от жизни. Дела (о! Клод не из тех мужчин, что избегают разговоров с женой о своих делах! Он чуть ли не в банк готов был тащить ее за собой, чтобы показать, как там интересно!), живопись, связи, личная жизнь служанки Юлии, нервные срывы садовника, супружеская жизнь его компаньонов, выставка художника X и концерт артиста Y, которые нельзя пропустить, — все нужно ему попробовать, проглотить, переварить. Жизнь в Антверпене оказывается для нее чрезмерно пышной, перенасыщенной удовольствиями; и потихоньку Фанни теряет к ней вкус. Когда поглощаешь все подряд, тут уж не до открытий.
У Фанни спрашивали, не тоскует ли она по Брюсселю, по светской жизни, приемам, легкому флирту. Нет, отвечала она, уверяя, что в Антверпене жизнь еще напряженнее, требует больше сил. И правда, в доме ее родителей силуэты людей казались расплывчатыми, а слова — незначительными, один за другим появлялись атташе по делам культуры, романист из «Альянс франсез», корреспондентка крупной женской газеты, датский скульптор, какая-то женщина-биолог в сари… Они мелькали как фигуры в балете, а ритуал бесед, знакомств, осмотра музея Хорты или старого Брюсселя — все это вместе с интересными, но неглубокими разговорами, не тревожившими душу, было разнообразно, но взаимозаменяемо. Эти люди обо всем имели какое-то понятие, но, как говорила Анни, ничто их не «задевало». И случалось, что подруги с умеренно левыми взглядами сочувствовали ей. А теперь Фанни даже чересчур многое «задевало», вот как.
Думая об этом, она краснеет. Комплекс вины. Все, что делает, переживает и узнает Клод, все это должна была делать, переживать и она… Устала. Уже? Она-то ждала какого-то откровения, ключа от тайны, бог знает чего еще! Как глупый ребенок, которому исполнилось семь лет и он разглядывает себя в зеркало, надеясь увидеть, как он повзрослел.
Стоило Клоду заговорить о безработице — ей уже казалось, что она должна участвовать в какой-то борьбе; о болезнях — значит, надо быть медсестрой, сиделкой у бедных; о живописи — хотелось схватить карандаш и стать гением…
— Я чувствую себя неполноценной… Ему все интересно, он просто невыносим… И куда все это заведет?
— А куда, по-твоему, это должно завести?
— Но все же зачем лезть из кожи вон?
Как только Фанни решила уйти, она снова повеселела. В небольших дозах Клод был очень мил. «Уверена, будь он просто моим любовником, я любила бы его всю жизнь», — сказала она барону Оскару, которого это ничуть не задело.
— Вам будет приятно погрустить о нем…
Разумеется, она знала, что будет грустить о Клоде, но так, как грустят о детстве. «По крайней мере я любила», — успокаивала она себя, немного досадуя, — так говорят «он все-таки сдал на бакалавра» о ребенке, который, как известно, дальше не пойдет.
Фанни уложила чемоданы. Она знала, что Клод понесет их до конца, донесет до вокзала. Только здесь он по-настоящему осознал, что она уезжает. Бомба разорвалась посреди Центрального антверпенского вокзала, красивого здания, отделанного изнутри уже покрывшимися копотью металлическими волютами. Фанни остановилась под стеклянным куполом крыши во вкусе Моне, рядом с тремя чемоданами приглушенно-красного цвета. Посмотрела на часы.
— Право, это очень мило… — прошептала она. Фанни редко договаривала фразы до конца.
— Неужели я действительно ничего не могу сделать? — пробормотал Клод. Он не слышал собственного голоса. Она уезжала. В самом деле уезжала. Будто собралась, как делала это множество раз, провести уик-энд у родителей. Только теперь, преступив определенную грань, она уже не будет его женой.
— Проводите меня на перрон, — сказала она в ответ.
Перроны расположены высоко. Нужно подниматься по эскалатору. Не дождавшись, когда ее муж стряхнет оцепенение, Фанни нагнулась, решительным жестом ухватилась за самый маленький чемодан и, сделав три шага, ступила на эскалатор, который неумолимо поднимался. Чуть замешкавшись, он подхватил два других чемодана и пошел за ней. Когда происходит катастрофа, жене, которую теряют, не говорят «возьмите носильщика».
Они подошли к вагонам. Казалось, Фанни выбрала один из них наугад. Вот так она умела придать малейшему своему движению довольно милый флер бесшабашности, чуть ли не растерянности и оттого казалась еще очаровательней. Быть может, выбирая другого мужчину, она говорила себе: «Возьмем-ка вот этого, у него, кажется, красивый костюм…» Клод передал ей чемоданы. Физическое усилие пошло ему на пользу. Фанни спустилась на подножку, инстинктивно понимая — чутье ей никогда не изменяло, — как нужно себя вести.
— Мы еще увидимся, — сказала она. — Все эти предрассудки… (И как бы отмела их своей изящной ручкой). Не встречайтесь слишком часто с моими родителями в ближайшее время. Они могут быть невыносимы. С вашей матерью тоже: ей порой не хватает такта. Кстати, завтра в доме Рубенса замечательный концерт. Вам следует пойти. Ну-ну, не смотрите так… Вы ведь много путешествуете и обязательно встретите подходящего человека…
Она улыбалась. Поезд тронулся плавно и осторожно, словно это было необходимо для того, чтобы смягчить переход от «до» к «после». Фанни исчезла. Автоматические двери бесшумно закрылись. Наступило «после».
Поезд ушел. Вокзал наполнился людьми, которые издалека окликали друг друга, размахивали руками и даже пели. Уж не его ли несчастье послужило поводом для этого подобия карнавала? Это было бы совсем по-фламандски. Какие-то образы толпились у него в голове. Клод рухнул на скамью.
— Крестный! Крестный!
Чистый голосок. Тоненькая фигурка. Высокая девушка лет шестнадцати-семнадцати с симпатичной, как у белочки, мордашкой.
— Полина…
Полина, или Полина Фараджи, дочь его старого приятеля Аттилио и к тому же крестница.
— Что вы здесь делаете, крестный? Уже в отпуск?
— А ты? Уезжаешь? — произнес он с трудом, будто ком застрял у него в горле (но от какого же горького питья!).
— Я ведь на днях рассказывала вам! Я уезжаю с клубом. Моим фан-клубом, помните?
— Ах да, с клубом…
Он изо всех сил старается держаться. Маленькая Полина — это обычная жизнь, та, что была «до», спокойная жизнь. Он с усилием поднимает веки, смотрит на нее. Перед ним пока еще не очень красивая девушка-подросток с открытой улыбкой и большими глазами, непосредственная и чуть-чуть церемонная, забавная смесь женщины и ребенка, но вдруг все на свете становится ему совершенно безразличным.
— Вам нехорошо, крестный? Вы так побледнели!
— Грипп. Пустяки. Значит, ты уезжаешь?
— Сегодня же седьмое июня!
7 июня. Он старается удержать в памяти это число, как дату рождения. 7 июня 1978 года. Не показывать виду. Владеть собой. Принципы его матери. Он начинает медленно говорить. Будто вновь пытается завести, но очень бережно и осторожно, сорвавшуюся пружину жизни…
— Многие уже разъезжаются… Что это у тебя? Газеты?
— Это газета моего клуба. Клуба друзей Дикки Руа. Эстрадное обозрение. Я продаю его по пятьдесят бельгийских франков. Или по пять французских. Хотите купить?
— Если это доставит тебе удовольствие… — бормочет он.
И собственные слова пронзают ему сердце. Как будто ему уже никогда не придется никому доставлять удовольствие. Как хочется пожалеть самого себя, поплакать. Не получается. Он вынимает из кармана пятьдесят франков и протягивает их девушке. Берет отпечатанные на ротаторе листки. Он отдал бы, согласился бы купить что угодно за любую цену, лишь бы снова ощутить хоть какую-то связь с людьми.
— Я торгую ими не для того, чтобы заработать, — говорит Полина, стоя перед ним и приветливо улыбаясь. (Как хотелось бы ему ответить на эту улыбку, на эту искреннюю приветливость! Но на душе у него лишь смертельный холод). — Это для клуба. На наши расходы. На этот раз мы уезжаем до конца сентября. Папа поворчал немного, сами понимаете! К счастью, мадемуазель Вольф тоже едет. И моя подруга Анна-Мари, продавщица из универсама, вы ее знаете, она…
И почему ему режет ухо то, что Полина говорит «моя подруга» там, где Фанни сказала бы «моя приятельница»? Да, Фанни молодая женщина из зажиточной буржуазной семьи, а Полина — дочка иммигрантов, почти простолюдинка. И вдруг ему снова слышится голос Фанни: «Эта твоя малышка крестница не умеет себя держать, но очень вежлива», — и сердце его сжимается.
— Опять нехорошо, крестный? Не могу ли я чем-нибудь помочь? До отхода поезда у меня еще полчаса. Вид у вас совсем нездоровый… Ваш «феррари» там, внизу? Наверное, не стоит садиться за руль, если вам так плохо… Поискать вам такси?
Вверить себя чьим-то заботам, пусть даже этой девочки, которая кажется такой смышленой, рассудительной… Но у нее тоже поезд, как и у Фанни. Все уезжают. Все!
— Нет, нет, — отвечает он несколько раздраженно, как больной. — Пройдусь пешком, и станет лучше. Оставь меня, иди садись в свой поезд… Оставь меня…
Девушка не настаивает, берет со скамьи стопку газет. Затем наклоняется и целует его в щеку.
— Бедный мой крестный! Вам действительно не по себе, да? Вот нелепость, подхватить грипп в июне! Идите скорее ложитесь и выпейте крепкого грога. «Ночь от всех избавит мук, как плащом накроет вдруг…» Красиво, правда? Это из песни Дикки. Чао, крестный!
Тихонько, словно боясь разбудить спящего, она удаляется; такт или равнодушие? На ней джинсы и, несмотря на жару, бесформенный пуловер, который ей явно велик.
Клод теперь один. Встает. Осторожно, как бы оберегая себя. Спускается на первый этаж. Вокзал по-прежнему наполнен гулкими шумами, звучным эхом, как-то странно напоминающими бассейн. Он выходит. Больше ничто не связывает его с Фанни. Вот он и на улице: направо — зоосад, куда мать водила его ребенком; налево — проспект Меир — сюда три недели назад он ходил вместе с Фанни заказывать книги. Книги еще не пришли. В ушах снова загудело — мысли, злые пчелы. Рюмку виски и снотворное. И пора наконец взять такси.
— Такси!
Теперь в здании вокзала не осталось ничего, кроме металлических волют и дыма, старых часов, громадных локомотивов, напоминающих послушных, несмотря на свою силу, домашних животных, застывших в ожидании команды перед тем как тронуться в путь; ничего, кроме детских рубашек и курточек веселых расцветок, теннисных ракеток, велосипедов, которые регистрируют слева от камеры хранения, глухих или резких голосов, раздающихся из репродукторов, родителей, которые теряют и находят своих детей, влюбленных парочек, спортивных команд, поющих групп — ничего, кроме неугомонной беззлобной сутолоки, в которой даже отдельные происшествия кажутся совсем незначительными. Все эти люди и не подозревают, что какая-то там бомба взорвалась прямо посреди Центрального вокзала.
Есть у меня мечта одна…
Пусть жизнь становится прекрасней.
Пусть в мире чистым будет счастье,
Как родниковая вода…
Полине тринадцать лет. В своей маленькой мансарде, оклеенной обоями в цветочек и расположенной на втором этаже, над отцовским гаражом, она слушает пластинку. От обоев повеяло вдруг тоской. Полина невольно вскакивает и бежит открывать окно. И снова ставит пластинку на свой дешевенький проигрыватель, подарок крестного.
Одною я живу мечтой,
Чтобы любовь не проходила.
Чтоб ей дышать свободно было,
Как летом в свежести лесной…
Синтаксис не коробил Полину. Она взглянула на обложку альбома. Дикки-Король. Неизвестный юноша. Молодой пророк, открывающий перед ней двери столь прекрасного мира. Поэт, более близкий ей по духу, чем те, которыми забивали голову в школе. Друг. Он молод, его можно увидеть, он носит джинсы и вышитую рубашку. Он существует. Ей захотелось рассказать об этом кому-нибудь. Но кому? Через окно доносятся глухие удары из гаража. Во всяком случае, с отцом она и не подумает говорить. Братья в пансионе. Мать поливает небольшой сад: на восьмидесяти квадратных метрах, совсем впритык друг к другу — цветы, цветы, цветы, и больше ничего. Тюльпаны, рододендроны, розы, дельфиниумы… Цветы — это хорошо, думает девочка. Но у них есть корни. А корни привязывают, они неопровержимое доказательство того, что вас можно навсегда приковать к месту, навсегда…
Мечтал о мире я таком,
Чтоб без тревог и без поклажи
Брести по лугу босиком, о будущем не помня
даже…
В этом году на каникулы она взяла с собой и пластинку и проигрыватель, сунув их в «ситроен» рядом с расшалившимися мальчишками и почесывающейся собакой. Мама ждала рождения Софи. Когда она появится, придется купить автомобиль с прицепом. Приехали на бельгийское побережье, на виллу, снятую в местечке Ла Паннь, и началось: «Микки, сходи за хлебом, Полина, вывеси простыни. Эрик, открой окна, надо проветрить, здесь отдает какой-то затхлостью». Затхлостью отдает от их жизни, впервые беззлобно подумала девочка.
Полина продала восемь экземпляров газеты «Журналь де Дикки». Она подходит к Анне-Мари и Фредди, которые, поджидая ее, опустошали торговые автоматы.
— Эльза не появилась?
— Не видели.
— Это несерьезно, — сказала Полина, сознающая свою ответственность.
На все возложено руководство «Антверпенской секцией». Она же и основала ее полтора года назад. Полина — доверчивая и решительная девочка: испытав первый восторг, сделав открытие, она не постеснялась написать в издательство «Бемоль» — Неаполитанская улица, дом 46-бис, Париж, — этот адрес был указан на обороте фотографии Дикки. «Если вы хотите связаться с Дикки Руа, вступить в один из его фан-клубов или подписаться на его газету, обращайтесь в издательство „Бемоль“, Неаполитанская улица, 46-бис». Она написала. И с огорчением узнала, что в Антверпене нет фан-клуба Дикки-Короля. Оставалось одно: ехать в Брюссель, если отец согласится, если удастся скопить достаточно карманных денег, если… В любом случае на всех собраниях клуба она присутствовать не сможет. И все же она страстно желала разделить с кем-нибудь свой восторг, узнать, находят ли другие ту же моральную поддержку, ту же глубину в песнях Дикки, ей хотелось говорить о нем. В то время она вовсе и не надеялась когда-нибудь увидеть его. Полина подписалась на газету. И в качестве вознаграждения получила неопубликованные фотографии Дикки, отличавшиеся от тех, что красовались на конвертах его пластинок, где, загримированный, бесстрастный или сдержанно улыбающийся, в парчовом смокинге, он казался таким неприступным, таким далеким. Она получила фотографии, на которых Дикки был в теннисном и горнолыжном костюмах; сидел у костра, гулял в лесу со своей собакой, мечтал в домашней студии, недавно оборудованной в его квартире близ Эйфелевой башни. Она узнала название улицы, где жил Дикки, марку его автомобиля и туалетной воды, узнала, что он предпочитает голубой цвет и только иногда приемлет шафрановый, как у бонз. Узнала, что он читал Аполлинера. Хотя и не представляла себе, кто такой этот Аполлинер. Но что за важность! Ей ничего другого не было нужно, у нее был Дикки и каждый месяц его новое стихотворение в размноженной на ротапринте газете, которую присылали по почте, а отец, снисходительно пожимая плечами, вручал ее дочери. Наконец Дикки приехал. Приехал в Антверпен. Удостоил антверпенцев своим посещением и дал концерт на открытой эстраде в одном из парков, расположенных за чертой города. Молодые и уже довольно зрелые поклонники повалили туда сотнями. Не задираясь, немного потолкали друг друга. Наряд полиции все же присутствовал, но обошлось без собак и стычек. «Этот певец не имеет отношения к рок-музыке», — объяснила Полина отцу, владельцу гаража, который заволновался, прослышав, что все эти так называемые концерты заканчиваются драками. Речь идет не о вульгарном солисте рок-группы, а о крунере. Она произнесла слово «крунер» с такой уверенностью и, так безапелляционно, что владелец гаража ощутил всю свою отсталость. Ох уж эти дети! И все-то они знают! Это «крунер» убедило его, что следует разрешить малышке пойти на концерт. Слово «концерт» тоже звучит внушительно. И вот Полина видит Дикки. «Волшебный принц», «печальный король» песни появился в клубах благоухающего дыма, в лучах прожекторов, под гул синтезаторов. В тот вечер на нем была роскошная джеллаба, а длинные светлые волосы посыпаны какой-то отливающей перламутром пудрой. На ногтях прекрасных рук — голубой маникюр. Весь зал был охвачен глубоким волнением. В антракте проводился сбор средств в пользу престарелых актеров, и распорядителю сунули в руку клочок бумаги; удалившись на минуту в автофургон идола, чтобы посоветоваться, он затем прочитал записку перед микрофоном для двух тысяч присутствующих. «С огорчением узнав, что у нашего кумира еще нет фан-клуба в Антверпене, некоторые из его поклонников решили объединиться и создать фан-клуб Дикки Руа в нашем городе! (Гром аплодисментов.) Желающих записаться просим обращаться к мадемуазель Полине Фараджи, улица Лейс, 23, Центральный гараж». Это объявление от начала до конца было придумано Полиной, возникло по ее инициативе. Настал звездный час этой пятнадцатилетней девушки.
Ей писали, давали советы, а после того, как она установила контакт с центральной организацией фан-клубов Дикки-Короля, пришло даже личное письмо от ее кумира. Письмо, написанное от руки, гласило:
«Дорогая юная подруга,
твоя инициатива меня глубоко растрогала, и я с большой радостью узнал о создании моего фан-клуба в Антверпене. Собираетесь ли вы, подобно некоторым моим клубам, дать ему какое-то особое название или хотите остаться просто моими друзьями из Антверпена? Держите меня в курсе. Такой энтузиазм в пятнадцать лет великолепен. Сохрани его на всю жизнь, пусть он будет твоей путеводной звездой, как поется в моей последней песне (надеюсь, у тебя уже есть пластинка!). Этого желает тебе твой друг
Дикки-Король».
Искушенный человек сразу бы понял, что письмо было от кого угодно, только не от Дикки. Полина же не была искушенным человеком. Хотя и говорила на четырех языках, несколько лет провела в религиозном пансионе, но до того, как на нее снизошло «откровение», кроме комиксов, ничего не читала. Дикки стал для нее тем же, чем для других являются Рильке или Малларме, Реверди или Вийон. Дикки стал для нее всем. И ничего смешного тут нет. Такой была не одна она.
«Антверпенское отделение» пока еще немногочисленно. По крайней мере, если иметь в виду тех его членов, которые в этом сезоне, так же как и в прошлом, смогут сопровождать Дикки в турне по Франции. Правда, таких, кто не пропускает ни одного выступления певца в Бельгии, кто подписывается на газету, закупает по нескольку экземпляров его пластинок, хранит все его фотографии, наберется человек пятьдесят, но турне, трехмесячные гастроли… Это требует хотя бы минимальных средств. Но большинство фанатов — люди скромного достатка, да еще кризис в придачу, так что в этом году Полина не сумела набрать более четырех-пяти участников поездки, тогда как брюссельское отделение посылает семнадцать человек! СЕМНАДЦАТЬ!
— Ты представляешь! Выходит, это я не справилась! — говорит Полина, подходя к своей подруге Анне-Мари, сторожившей ее рюкзак.
— У Мари нет денег, у Женевьевы — в сентябре экзамен, Лили разводится, а две девушки из Бершема помолвлены…
— Ну так что из того? — искренне возмущается Полина. — Выходит, если ты помолвлена… Неужели так сразу надо погрязнуть во всем этом? Знаешь, с моим крестным происходит то же самое с тех пор, как он женился… Кстати, тебе не кажется, что он странно выглядел?
— Я видела только его шевелюру…
— Он оказал, что у него грипп, но я думаю, что скорее всего он поцапался со своей женушкой, — с заговорщицким видом сообщает Полина.
— Мы опоздаем на поезд, — прервала ее Анна-Мари.
— Ну о чем только думают мадемуазель Эльза и Патриция? А! Наконец-то! Проклятье, она одна!
— Вы, как всегда, вовремя, — подхватила Анна-Мари. — А где Пат? Вы одна?
Это мадемуазель Эльза Вольф, бывшая преподавательница французского и английского языков в пансионе святой Марии, где училась Полина и какое-то время Анна-Мари; мадемуазель Эльза Вольф на пенсии, ей, без сомнения, за пятьдесят, но она прекрасно держится, взирая на окружающих с высоты своего роста в метр семьдесят шесть; черные волосы, горящие глаза, высокий рост, смуглое, изможденное лицо и нечто эксцентричное и величественное от былой красоты.
— Патриция не придет! Я вам объясню. Тысячу раз (прошу прощения, девочки мои, но я уже собиралась выходить, как вдруг…
— Поезд! Поезд! — взмолилась Полина. — Нам негде будет сесть! Садитесь в третий вагон, чтобы в момент пересадки мы были прямо напротив парижского поезда!
Механик Фредди, который всегда все делал молча, сразу встал и взял чемодан Эльзы Вольф. Он был подручным в гараже Фараджи и, как Дикки, пикардец. Две веские причины для того, чтобы оказаться здесь.
— Нас только четверо! — заметила удрученная Полина, едва они разместились. — Даже Патриция бросила нас!
Поезд тронулся. В Париже опять надо делать пересадку; добираться с Северного на Лионский вокзал, дрожа от страха, как бы не опоздать. Все фанаты знали, что путешествие будет бесконечно долгим, неудобным. Они были к этому готовы. Как и к большим жертвам, которых потребует дорожная жизнь: с июня по август ни жареных мидий, ни обыкновенного хлеба в соусе не найдешь ни в Остенде, ни в Кань-сюр-Мер! Но, как говорит Полина, в чем была бы тогда их заслуга?
Брюссель. Полина с огорчением насчитала всего двадцать три фаната. Но все же среди них были ее подруги. Это кое-что значило. Все собрались в кучку. Рюкзаки, фибровые чемоданы; у одних — стянутые ремнями, у других без всякого стеснения толстой бечевкой. Эльза Вольф, в очередной раз уступившая своей страсти к роскоши (стоившей ей двух тяжких недель без мяса), тащила зеленый кожаный чемодан, который по красоте мог сравниться только с ней самой. Г-н Ванхоф, коммивояжер ювелирной фирмы, подталкивал на площадку блистающий новизной чемодан из самсонита.
— А вы заявили о нем в налоговой декларации? — спросила Эльза Вольф, ловко вспархивая в вагон.
Вокзал Антверпена, построенный в псеадомавританском стиле начала века, остался позади, и поезд шел мимо зоосада, улицы Пеликан, где живут ювелиры, рабочих кварталов с ухоженными крохотными садиками. За Брюсселем полотно железной дороги пересекало развороченные кварталы, и по обеим сторонам этой грубо врезавшейся в пригородный муравейник траншеи как на ладони были видны грязные, но милые лавчонки, португальские бакалейные магазинчики со стойками, всевозможные закусочные, булочные с табачными и газетными киосками и малыши в крестьянских рубашонках, ошеломленно таращащие глаза на поезда, словно грубая сила урбанизации забросила их сюда из прошлого века.
Фанаты молчали. Собирались с силами. В Париже предстояла пересадка, а в Ниме придется искать машину, чтобы доехать до шапито. Первый концерт в этом сезоне состоится прямо в поле.
Полина едет в одном купе с Эльзой Вольф, Анной-Мари, Давидом, который учится на курсах гостиничного сервиса, с бородатым голландцем по имени Дирк и Рене Ванхофом, коммивояжером ювелирной фирмы. Полина — шестнадцать лет восемь месяцев, сорок килограммов веса, метр пятьдесят восемь роста, несколько лет, проведенных в пансионе, — учится на курсах машинописи и стенографии. Анна-Мари — девятнадцать лет, рост — метр шестьдесят пять, вес — восемьдесят два килограмма, причиняющих ей большие страдания, — продавщица из универсама, внебрачная дочь «совсем заурядной женщины», как говорит Эльза, бывшая учительница обеих «малюток», за плечами которой пятьдесят шесть лет, скромная пенсия и своенравный характер. Давид, разделывающий птицу в брюссельском отеле «Виндзор», считает себя поэтом; на нем коричневая с голубым куртка, голубая рубашка, голубой галстук — в честь Дикки, который любит этот цвет. Давиду, наверное, лет двадцать пять, Дирку — двадцать три, но выглядит он старше, потому что много путешествовал и (как он утверждает) пережил тысячу треволнений и тяжелых болезней, наложивших на него свой отпечаток. Тем не менее он красив: светлые с рыжеватым оттенком борода и волосы, худое лицо и редкая беззастенчивость. Маленький потускневший г-н Ванхоф, наверное, и в тридцать лет выглядел старым, тем более трудно угадать его нынешний возраст; он последний пассажир в этом довольно мирном купе.
В соседнем купе самозабвенно кудахчут сестренки Люсетта и Тереза, восемнадцати и девятнадцати лет; их называют «близняшками», хотя они просто сестры, но обе блондинки, дурнушки, слишком богато одарены со стороны носа и удручающим образом обойдены со стороны подбородка, обе одинаковы во всем, вплоть до фанатичного обожания Дикки, за которым они ездят с самого первого турне вот уже четыре года подряд. Здесь же Жан-Пьер и Марсьаль — полное единство тщательно взъерошенных обесцвеченных волос, шелковых шейных платков и безудержного смеха. Это Жан-Пьер-и-Марсьаль, как их называют в одно слово. Или Жан-Пьер (или Марсьаль) от Барона — по профессиональной принадлежности. Барон — известный брюссельский парикмахер. Жан-Пьер-и-Марсьаль обмениваются с «близняшками» слухами и иллюстрированными журналами. Все четверо будут участвовать в конкурсе на лучшую фотографию Дикки.
Механик Фредди отыскал своих попутчиков по последнему турне, и они играют в карты. Все-таки приятели… Не бог весть что, но ради Дикки он готов терпеть общество тихого продавца пластинок, как и двух добрых женщин, которые, хотя они едва знакомы, целуют Фредди на правах членов клуба. Кого только здесь нет! Морис Хайнеман, например, бывший ведущий телепередачи «Старая Бельгия», — в свои пятьдесят два года он выглядит на сорок пять, у него великолепная седая шевелюра с легким голубым оттенком и предостаточно средств на жизнь. Во всяком случае, так он уверяет, но, терзаемый «профессиональной ностальгией», он сопровождает гастролера. А вдруг однажды что-нибудь случится, непредвиденная пауза во время представления, обморок, кто знает? Вместе с ними едут молодые парни, которые играют в карты, девушки, усердно штудирующие «Хит», «Подиум», «Старпресс», то и дело прыская от смеха. Итого десятка два людей, которых объединяет чувство безграничного превосходства над пассажирами, шествующими по коридору со своими чемоданами, удочками, детьми.
Глядя на этих отпускников, этих туристов, которые явно беспокоятся о ценах на жилье, о купании, отелях, питании, (водных лыжах, прогулках, даже Полина с некоторым самодовольством думает: «Мы, по крайней мере, едем не за этим».
Шапито начали монтировать около полудня. Земля еще не просохла. Июнь выдался дождливым.
— Ну и удовольствие будет сидеть здесь! — заметил Алекс, художественный руководитель группы, прибывший на место раньше Дикки.
Он смотрел, как вырастает знакомое сооружение. «Если они и на этот раз продали билетов больше, чем сидячих мест, завяжется драка». Они — это организаторы, которые, закупив права на представление, иногда не могли противостоять соблазну и, чтобы увеличить свои барыши, продавали билетов больше, чем положено. «Уместятся!» — было их главным аргументом. И действительно, зрители, как правило, умещались. Ведь можно сидеть и на земле. Но если она сырая — дело другое. Молодые папаши с ребятишками на плечах, влюбленные, приодевшиеся к случаю, и даже старики могут превратиться в диких зверей. Алекс хорошо это знал.
— О! У Дикки не такая публика, — с видом оскорбленной добродетели заявляет председательница объединения фан-клубов Жанина.
— Любая публика озвереет, если за сорок франков усадить ее в грязь! — отпарировал Алекс. — Где организаторы?
Они еще не приехали. Мимо, не помня себя, промчался постановщик Серж; его редкие белокурые волосы торчали дыбом.
— Как только установим отражатели, с двухсот мест ничего не станет видно, — не без злорадства сказал он, предвидя столь полную катастрофу. — И звук плывет по кругу. У Жанно фальшивит синтезатор. Да и освещение, кажется, установили, не считаясь с техникой безопасности.
Алекс почувствовал, что пора вмешаться самому. Впрочем, такое количество накладок являлось добрым предзнаменованием. Когда все идет как по маслу, того и жди провала — таков был его девиз. Главное чтобы все устроилось до приезда Дикки. Шапито установили. Принесли отражатели.
— Настройщик! — с обычной яростью завопил Алекс. — Настройщик! Пусть он посмотрит синтезаторы, немедленно! А на места, с которых ничего де видно, посадим фанатов. На сколько человек ты рассчитываешь, цыпленок?
— О! Сегодня человек на сто, не больше. Но еще неточно… Ведь это первый концерт, — простонала Жанина, шедшая за ним, словно святая Вероника в полном отчаянии. Это была вечно паникующая, полная блондинка, в прошлом ведущая одной телепередачи.
— На что же тогда нужны эти фанаты, малышка? — безапелляционно бросил Алекс. — Ну хорошо. Пойдем со мной, послушаем звук.
Польщенная тем, что с ней советуются, и готовая принести в жертву свою паству, она подчинилась, хотя и не без вздохов. Алекс мирился с этим: такова была его работа.
— Встань-ка в центре, лапочка! Жюльен! Синтезатор!
Жюльен был контрабасистом у Дикки; и поскольку обладал похожим по тембру голосом, иногда заменял его на пробах звука и света. Он вышел вперед, так как начали устанавливать микрофон.
— Ну-ка напой что-нибудь!
— «Есть у меня мечта одна, пусть жизнь становится прекрасней…» — пропел Жюльен с кислой миной. У него ведь было особое мнение относительно своих данных и собственные честолюбивые замыслы.
— Жанина?
— Слышно хорошо, но что-то урчит… Учти, что, когда набьется много народу, акустика изменится…
— Я твержу об этом уже два года, — процедил Жюльен. В свои тридцать лет он был красив, глуп и не понимал, почему не может быть такой же «звездой», как Дикки. Алекс отказался от попыток объяснить ему это.
— Урчанье создает синтезатор Жанно! — крикнул Серж из-за кулис. — Кто-то стукнул по нему. Наверняка кто-то стукнул.
На сцене появилась вокальная группа — две блондинки и брюнетка, заспанные, в таких помятых блузках, будто этим утверждали свое право на неопрятность.
— Не знаю, что делать, — изрек настройщик, стоя на эстраде с видом врача, дежурящего у изголовья безнадежно больного. Он ездил с гастролями уже два года, очень важничал, ходил, корча из себя незаменимую персону, а за кулисами приставал к девушкам. Имени настройщика никто не знал, и его прозвали Пьянолюкс, по названию фирмы, в которой он служил.
— Что ты там шепчешь? Говори в микрофон, черт возьми!
Алекс отошел к задним рядам, надеясь определить источник гула.
— Я говорю, что не знаю…
Но Алекс уже не слушал Пьянолюкса. Он бросился навстречу только что появившимся организаторам, напоминавшим своим скорбным видом служащих похоронного бюро.
— Ну и ну! Не рановато ли! — воскликнул он, подшучивая так же машинально, как только что бушевал. — По вашей милости нам придется затолкать сюда две тысячи человек! Добрая половина, конечно же, кое-что услышит!
Но его попытку сострить встретило трагическое молчание.
Два красномордых толстосума, завзятые пьяницы, и не совсем чистые на руку посредники, поколебавшись с минуту, признались:
— Нам не удалось договориться с домом культуры…
— А мне какое дело?
— Но поскольку эта территория принадлежит муниципалитету…
— Нет! — завопил Алекс, боясь понять до конца.
— Да, — в один голос удрученно заявили два ловкача. — Придется перенести шапито в другое место. Мэр задумал подложить нам свинью…
— А вам известно, который час? Понимаете, во что это обойдется?
— «Новотель», где вы, должно быть, уже поселились, предлагает свою площадку даром, — осмелился возразить один из организаторов.
— А рабочие? Уж не думаете ли вы, что они предложат мне свои услуги, как вы выражаетесь, даром?
— О! Это поправимо, мсье Боду! — с видом неунывающего простака воскликнул другой. — Мы ведь продали три тысячи билетов…
Три тысячи билетов! Шапито, даже набитое до отказа, вмещает тысячу восемьсот человек! А тут еще дождь!
Дикки спал на заднем сиденье «мерседеса». Вел машину его гитарист и старинный приятель Дейв. По желанию Дикки состав его группы всегда оставался самым минимальным. И уж конечно, в этом ему не противоречили ни художественный руководитель, ни фирма грамзаписи: сбережешь грош — миллион наживешь. Но в этом году им пришлось смириться с тем, что Дикки взял с собой молодого доктора Жаннекена, который уже два года лечил его от каких-то пустячных недомоганий в горле. Дикки заявил, что не поедет без врача, поскольку его лишили отдыха, столь ему необходимого. Абсолютная чушь, он ни на йоту не был болен, а молодой врач, не испытывающий никакого желания колесить с ним в турне, потребовал внушительной суммы… «Ну уж если это нужно для спокойствия Дикки, — изрек генеральный директор фирмы „Матадор“… — В кои-то веки у него возник каприз».
Когда садились в машину, молодой врач хотел было занять место впереди, рядом с Дейвом. Дикки из вежливости этого не допустил и теперь спал в довольно неудобной позе, положив голову на свернутый плащ Роже Жаннекена. Шестью днями раньше он еще был в Японии. Накануне записывал телепередачу, которая должна пройти в июле и поддержать интерес зрителей к его гастролям. Он устал.
Дейв вел машину умело, ровно, без толчков. Он был в хорошем настроении, не пьян, не одурманен наркотиками. И, казалось, осознавал ценность уникального груза, который вез. Впрочем, все, кто окружает Дикки, размышлял доктор, осознают его ценность. В каком-то смысле. Во всяком случае, у всех было такое ощущение, что на красивом лбу певца запечатлены слова: «Осторожно! Стекло!», и все обращались с ним соответственно. Доктор Жаннекен с некоторым отвращением рассматривал его хрупкую фигуру, длинные белокурые волосы с серебристым оттенком, ангельское лицо, стоившее миллионы. С недавних пор. И может быть, ненадолго. Но пока будет длиться этот период, никто не осмелится задеть этот хрустальный сосуд, даже слегка.
«Всего на четыре года моложе меня. Красота, деньги, поклонение… И страх. Все-таки справедливость существует». Не то чтобы доктор в чем-то обвинял Дикки. Тот ведь вначале трудно пробивался, и вдруг ошеломляющий, необъяснимый успех. Естественно, его самого это потрясло.
Дикки обладал качествами, которые редко встречаются у артистов. Он был серьезен, трудолюбив, пунктуален, экономен, но не скуп, любил порядок, но без маниакальности, говорил мало, не любил выставляться. И начисто был лишен чувства юмора. Приятели Дикки, снисходительно улыбаясь, судачили о том, что он все «принимает за чистую монету». А его возлюбленная Мари-Лу с нежностью говорила: «Он ищет себя». Однако создавалось впечатление, что и она принимает его не слишком всерьез. По крайней мере, именно это дал понять доктору Алекс, когда они сидели в артистической, дожидаясь Дикки, выступавшего на сцене Дворца спорта. Но тогда каким же чудом…
— У истоков всякого успеха, — ответил Алекс со свойственным ему безобидным бахвальством южанина, — стоит умная личность, осознанно подошедшая к конкретному явлению. Умной личностью оказался, естественно, я. Конкретным же явлением…
— Талант Дикки?
— Ну, насмешил. Талант? Какой от него прок? Конкретное явление заключается в том, что Дикки, которого звали Фредериком и который жил без гроша, любил одну Мари-Лу и вовсе не имел никакой профессиональной подготовки, всегда «срабатывал». Да, дружище доктор. Этого парня любили все. У него не было врагов. За ним укрепилась некая… репутация, не знаю, как сказать… нечто этакое… Возникало желание помочь ему. Дикки предлагали все новые и новые ангажементы. Его действительно любили. Любили, и все… Это кое-что значит. Понимаешь?
Доктор не ответил. Этот панегирик в адрес Дикки вызвал у него раздражение. Почему «его любили»? Никто никого не любит без причин. В противном случае это плохо кончается. Все-таки справедливость существует. И если в глубине души доктор не испытывал сочувствия, которое должен был бы испытывать к измотанному до предела Дикки, то лишь из-за этого «его любили», напоминавшего ему о старшем брате Поле, всегда умевшем извернуться так, чтобы «выкачать» изо всех побольше любви, намного больше любви, уважения и даже денег, чем заслуживал.
Дикки, по крайней мере, в этом не упрекнешь. Ведь не сам, с помощью Алекса вырвался он из маленького кабаре, где, не чувствуя ритма и далеко не используя возможностей своего голоса, пел под аккомпанемент Дейва. Не он, а Алекс решил, что этот чрезвычайно красивый крестьянский парень — настоящий клад. Алекс оплачивал уроки пения, обнаружил его поразительные «верха», заплатил парикмахеру, который обесцветил длинные белокурые волосы Дикки и придал им серебристый оттенок… Остальное пришло позже… С обесцвеченными волосами ангельское лицо Дикки приобрело вовсе не соответствующее его характеру, но загадочное выражение двусмысленности. Продумали грим, оттенив скулы и придав больше утонченности и без того эфирным чертам лица; их изящество и хрупкость стали еще заметнее. Перебрали множество модельеров. Судили-рядили. Наконец, решив все поставить на карту, Алекс объявил, что Дикки будет новым романтиком, романтиком в полном смысле слова, воспевающим грезы, невозможную любовь, детство, чистоту. На этом еще можно было поиграть, попробовать наполнить брешь. Если только не поднимут на смех. В одной из деревень Эндра Алекс разыскал двух дам, которые когда-то писали тексты к песням, теперь совсем вышедшим из моды, и те согласились рискнуть. Идея невозможной любви захватила их. Как знать почему? За несколько месяцев они ухитрились сочинить цикл песен, вполне устроивших экзальтированных заказчиков, а написанная, в модном ключе музыка Жана-Лу де Сен-Нона, лауреата первой премии консерватории, джазмена и наследника одного разорившегося знатного семейства, придала им, как ни парадоксально, некую оригинальную окраску.
В костюме из сверкающей парчи, размалеванный как египетская мумия, не подозревая, что может казаться смешным, Дикки в первый раз вышел на сцену театра в Обервилье и в сопровождении флейт своим металлическим голосом запел:
Нет для тебя любви
Ни завтра, ни сегодня —
Ведь милая твоя
Уже в раю господнем.
Ты за нее молись,
Зови подругу детства,
Ее душой клянись —
Единственной надеждой.
Аннелизе, Аннелизе,
В витражах тебя я вижу,
Не в земле пустой, холодной,
В витражах церквей господних!
Алекс не из эмоциональных людей, но ему навсегда запомнилась минута затишья, оцепенения в зале, где кого только не было: хулиганы, простые работницы, старики из приюта, пришедшие сюда на правах соседей, и ребятня, множество подростков тринадцати-четырнадцати лет… Он почувствовал тогда, как что-то дрогнуло у него в груди, как перехватило дыхание при мысли, что случилось невероятное, именно то, о чем он так долго мечтал. Но уже поднялся шум, суматоха, триумф, безумие, коллективный психоз толпы, непонятно почему взволнованной этим до боли пронзительным голосом, вновь и вновь молящим:
Аннелизе, Аннелизе,
В витражах тебя я вижу,
Не в земле пустой, холодной,
В витражах церквей господних!
За три недели было продано полмиллиона пластинок. «Аннелизе» проникла во все французские дома, и две пятидесятилетние дамы из Эндра были очень довольны.
И они снова взялись за работу. Алекс вытирал пот со лба. Дикки был доволен, но сдержан. Чтобы ему не слишком докучали, он поселился в отеле «Георг V» и был очень раздосадован тем, что Алекс не позволил ему пригласить туда Мари-Лу.
Произведения
Критика