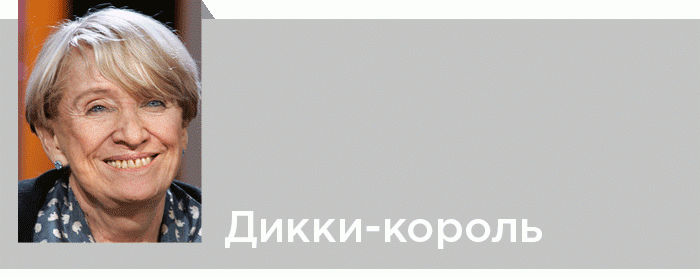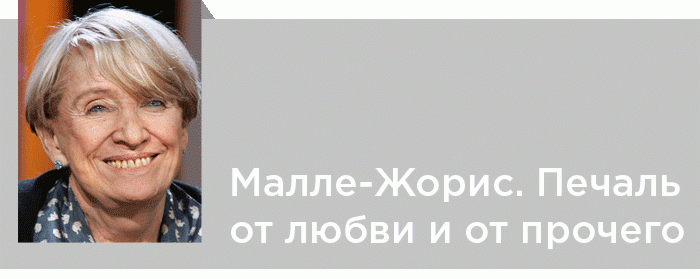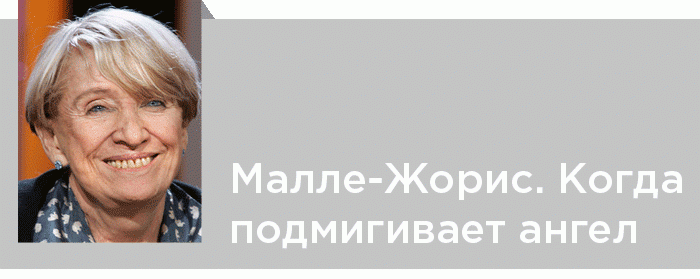Франсуаза Малле-Жорис. Жанна, или Бунт

(Отрывок)
Первая встреча всегда самая волнующая. Жанна и напротив нее судья.
Он здесь проездом. Он прибыл из Лаона, где у него семья, почтенное семейство, скромная, обожающая его супруга, дети, которых он по-своему любит (на них распространяется его честолюбие, за столом он разговаривает с ними на латыни). Прибыв из Лаона в Рибемон, Жан Боден отправился с визитом к Клоду д’Оффэ, королевскому прокурору, они поговорили о делах, о политике, о религии, как и подобает ученым мужам, которые, прежде чем высказать свое суждение, тщательно взвешивают слова, как подобает людям миролюбивым, не любящим кровопролития, каких-либо эксцессов, людям, пекущимся о благе страны, которых огорчает все, что ее умаляет, губит (время действия — разгар религиозных войн), людям, которые заботятся о делах службы и хорошо при этом знают, что ничто не вечно под луной и что власти меняются. Они вспомнили о Лиге, гугенотах, генеральных штатах 1576 г. (с тех пор минуло два года), где Жан Боден отвечал за наказы жителей Вермандуа[6]. Потом разговор перешел на более личные темы: дети, семейный очаг, жизненные тяготы, хвори. Дочь Бодена не очень крепкого здоровья, ей часто видятся кошмары, с ней случаются судороги, ее часто трясет. Дочка Клода д’Оффэ сохнет на глазах — говорят, накликала на нее порчу старая нищенка из предместья Рибемона, цыганка, жалкое создание, которая совсем недавно убила крестьянина; толпа хотела забросать ее камнями, но, как справедливо отметил Клод д’Оффэ, законность следует соблюдать — ее отбили у толпы, посадили в темницу, допросили. Случай довольно ясный. Ее мать сожгли как колдунью, с тех пор Жанна несколько раз поменяла место жительства и имя, многие города и веси стали ареной ее преступной деятельности, и теперь, на горе жителям Рибемона, она поселилась в их городе, среди всеобщей неприязни, хотя поначалу все могли только догадываться, кто она на самом деле. У этой женщины, слегка вороватой, чудной и неуживчивой, была довольно красивая дочь. Работу им давать остерегались: надеялись, что так они быстрее уберутся подобру-поздорову, но они остались. Они цеплялись за этот городок, восстанавливая против себя всех граждан Рибемона. Жанна как-то сказала одной крестьянке: «Делайте что хотите, но я умру в Рибемоне», что само по себе, если поразмыслить, является пророчеством, а значит, вещью противозаконной. События между тем развивались стремительно. С тех пор как Жанна с дочерью прибыли в Рибемон, письмоводитель в замке д’Оффэ потерял способность предаваться любовным утехам со своей супругой (и это несмотря на то, что, следуя рекомендации малого Альбера, съел множество порций жареного дятла); мало того, почтенный аббат церкви святого Николая, что под Рибемоном, Рене-Гектор де Мегриньи после случайной встречи с этой самой Жанной Арвилье забился в страшных судорогах и, разрывая зубами ворот рубашки, принялся кататься по земле. Наконец, дочь Клода д’Оффэ погрузилась в состояние безразличия и отвращения ко всему, что ее окружало, и это вызывало по меньшей мере беспокойство. И вот теперь случай с почтенным и всеми уважаемым человеком крестьянином Франсуа Прюдомом, который серьезно заболел, проходя мимо небольшого Жанниного надела; колдунья, должно быть, почувствовала, что тем самым подписала себе смертный приговор, что она зашла слишком далеко и выдала себя: как только до нее дошли слухи о близкой смерти ее жертвы, Жанна поспешила к Прюдому, дабы вылечить его, все испробовать, чтобы он выкарабкался. Увы! Враг рода человеческого не меняет своих решений, и не исключено, что попытка вылечить Прюдома лишила Жанну его милости, так как, по всей вероятности, и он бросил ее на произвол судьбы. Спасаясь от гнева сельчан, узнавших о смерти Прюдома, Жанна, подобно животному, пустилась наутек; очевидно, она потеряла способность превращаться в волчицу или кошку, становиться невидимой, летать по воздуху, и, удирая от града камней, она попыталась просто спрятаться в лесу. Ей удалось бы унести ноги, не организуй деревенские облаву, чтобы выгнать Жанну из ее логовища (деревенские — люди благочестивые и азартные; их искреннее негодование накладывалось на искреннее желание позабавиться: ведь жителям Рибемона редко выпадает случай поразвлечься, а облава на ведьму могла потягаться в этом отношении даже с религиозным шествием); в конце концов Жанна спряталась в амбаре, с невероятной ловкостью забившись между коньком двускатной крыши и кровельной соломой, — когда ее вытаскивали оттуда, она кричала, царапалась и билась, как рассерженная кошка. В итоге порядок восстановили, и теперь все готовились к суду над ведьмой, который обещал быть недолгим. Любопытно, однако, что крестьяне, озлобленные на мать, не причинили до сих пор никакого вреда дочке. Судебным властям, однако, следовало бы предъявить обвинение и дочери, ведь сразу видно, что тут целое семейство ведьм, в котором дьявольское искусство передается от матери к дочке. Деревенские не поняли этого, так как девочка была славная и нередко делала им добро. После ареста матери дочке даже приносили еду. Слаб человек.
С интересом выслушал Жан Боден рассказ Клода д’Оффэ. Классическая история — именно то, что он искал, если только можно назвать поиском смутный интерес, который пробуждался в Жане Бодене, когда при нем упоминали о подобных случаях, и смутное желание когда-нибудь вплотную столкнуться с такой колоритной вещью, как колдовство, — это послужило бы ему передышкой среди занятий более важных. Конечно, это не к спеху, но когда-нибудь, в уединении, на досуге, прояснив ряд других, занимавших его богословских проблем, он обратился бы и к этому вопросу, обратился бы как правовед и как писатель. Он поделился своими планами с Клодом д’Оффэ, присовокупив, что, пожалуй, не прочь присутствовать на судебном разбирательстве. Сказал он это мимоходом, не придав особого значения. Однако Клод д’Оффэ был так счастлив развлечь именитого гостя, а заодно снять с себя тяготившую его ответственность, кроме того, ему так хотелось увидеть великого человека в действии (тема для бесчисленных рассказов в будущем), что, подобно испанским грандам, перед которыми достаточно выразить восхищение принадлежащей им вещью, чтобы они тут же ее вам подарили, ставя вас в неловкое положение, королевский прокурор, выслушав признание Жана Бодена, тут же оказал ему эту услугу. Капеллан замка, наспех собранные члены суда (каретник, нотариус, торговец птицей) добровольно передавали Бодену свои полномочия, которыми не знали как распорядиться. Итак, ведьма теперь в его власти. Какое решение ни примет Жан Боден, они к нему заранее присоединяются. Жан Боден верил в знаки судьбы, в провидение. Раз ему отдавали эту женщину, ему не следует отказываться.
Кто же она, если не колдунья, — эта высокая худая женщина, изможденная, но крепкая, с гордой осанкой, горящими, как раскаленные уголья, глазами, крупным страшным лицом, которое не могло не быть прекрасным до того, как нищета, ненависть, страх не перемололи эту красоту, женщина, должно быть, умевшая молчать, с темными еще, хотя слегка поредевшими спереди волосами, прекрасными зубами, женщина, которой, по-видимому, не больше пятидесяти, но с застывшими, затвердевшими чертами, такими, что она, казалось, не имела возраста, женщина, одетая в лохмотья, которые она считала ниже своего достоинства латать или пригонять к своему смуглому, жилистому, жесткому телу? Колдунья вошла в залу пятясь — судебный исполнитель тащил ее за веревку, — таков порядок, не то первым своим взглядом она околдует судью. Когда первая угроза миновала, дальше о нем заботится Бог.
Для гостя забава, да и видел ли когда-нибудь Боден ведьму так близко? Несомненно, это отвлечет его от серьезных забот, от разногласий с Генрихом III, от тех опасений, которые вызывает у него мир, заключенный в Бержераке. Кроме того, он испытывает определенный интерес к оккультным вопросам. Разве он не ознакомился с каббалой? Разве он не сильно сведущ в Ветхом завете (до того даже, что ему будут часто приписывать еврейское происхождение)? И потом, как юриста, его интересует сама процедура, в которой ему прежде не приходилось принимать участия. Указ короля Карла VIII предписывал «сжигать без суда и следствия колдунов, магов и прочую нечисть, которой кишмя кишит королевство». Ну для животных это куда ни шло, животных, уличенных в колдовстве, сжигали и должны были сжигать без суда. Боден, однако, считает — и тут к нему должны присоединиться все порядочные люди, — что человеческому существу следует оказывать несколько большее внимание, пусть даже конечный результат будет тот же. Колдуны и особенно колдуньи, так как последних больше, были вправе рассчитывать на то, что их допросят и изобличат, они вправе предаваться несбыточным надеждам, вправе пройти через пытку. Нельзя отправлять человека на тот свет без соблюдения должных формальностей, не говоря уже о том, что люди (те, кто не обвинен или пока еще не обвинен в колдовстве) были падки до зрелищ и хотели видеть, как сжигается, уничтожается зло, которое, однако, тут же образовывало новые, плодоносные почки. Все это казалось Бодену любопытным, и он взял дело в свои руки.
Итак, ее ведут к нему. Почему бы и нет? Ни для кого не секрет (даже для судей), что ее судьба предрешена, а значит, она теперь скорее вещь, чем живое существо. Нельзя даже сказать, что с ней грубо обращаются. Да, ее втащили в залу спиной вперед, но ведь так заведено. Ее вовсе не хотят унизить. Зачем унижать того, кто практически уже не существует? Так бывает не со всеми обвиняемыми. Местные судьи расскажут Бодену, что в некоторых случаях возникают сомнения. Иногда они остаются и после того, как палач сделал свое дело. О совсем малюсенькие сомнения! Этого, однако, достаточно, чтобы испортить судье остаток дня. А бывает, некоторых оправдывают. Тогда тоже могут оставаться сомнения. Во время процесса все почувствовали, что промелькнула тень сатаны, но где, когда, как — никто бы не мог сказать. Зло присутствовало, но соглашался ли на него сам подсудимый, призывал, желал его (а ведь в этом, по общему мнению, заключалось колдовство)? Никто теперь не может ответить на этот вопрос. Иногда они отпускали обвиняемого после двух-трех допросов с пристрастием, так как он (или она) по-прежнему решительно отрицал свою вину и так как не было других доказательств, кроме этого чувства, посетившего беспристрастных судей, кроме осознания неясного присутствия зла. Судить ведьм — работа нелегкая. В этот раз, однако, можно не волноваться, так говорили они Бодену, когда все собрались в зале замка, чтобы немного закусить, подготовиться, подкрепить силы, ведь нельзя заранее предугадать, какого напряжения ума потребует такой процесс. Обвиняемую изобличали доказательства, ее прошлое (цыганское происхождение, мать, сожженная за колдовство), такой достоверный факт, как смерть человека. Дело не обещало особых хлопот — тем лучше для судей, так как они были в большинстве своем люди славные, законники или промышляющие по торговой части, провинциалы, люди религиозные, хотели, чтобы в Рибемоне воцарились порядок и спокойствие, и искренне ненавидели зло. Именно поэтому даже при столь простом разбирательстве, не представлявшем никаких трудностей (хотя всякое случается), они были рады, что рядом с ними будет известный правовед, знаменитый оратор, депутат от третьего сословия, перечивший самому королю, ученый. Боден же был доволен, что ему выпала возможность исследовать этот вопрос, поэтому он приказал ввести Жанну, как если бы это был предмет для анатомических работ. Боден совсем не был жестоким, он лишь хотел изучить дух зла, подобно тому как он изучал дух добра, воплотившийся в различных религиях, изучал с редкой для своего времени терпимостью, с ничем не сдерживаемым любопытством, которое хоть и не заменяло доброты, но по крайней мере исключало ненависть. Надо сказать, что, кроме жителей деревни, со всей горячностью требовавших смерти Жанны, никто из членов суда не чувствовал к этой женщине ненависти как раз потому, что дело было простым, заранее решенным и не нуждалось в особом дознании. Стоило Жанне признать хотя бы малую толику вины, и ее бы не пытали. Может, даже не стали бы брать под стражу ее «такую милую» дочь. Во всяком случае, не стали бы брать сразу. Сейчас. Как знать, может, она бы исправилась? Тогда бы они ограничились тем, что не подпустили бы ее к честным людям, лишили бы источников существования, пусть бы она ушла отсюда, сменила имя, как мать, так же как она, развратничала и воровала, — это, конечно, тоже грехи, но грехи отнюдь не сатанинские, — и если бы она согласилась опуститься на дно, нищенствовать, попрошайничать, пожертвовала бы своей красотой, здоровьем, душой (но обычным способом, как, впрочем, уготовано всем), ее оставили бы в покое и дали бы спокойно умереть на своем убогом ложе от голода, холеры или чумы, то есть она прожила бы нормальную человеческую жизнь. Ладно. Девочку оставили на свободе. Правда, тем, кто давал ей кое-какие крохи за тяжелую работу, намекнули, что так поступать не принято, что когда-нибудь это выйдет им боком, даже если сама девочка и не причиняла им вреда. После этого ей пришлось искать себе пропитание в лесу, не отходя, правда, далеко от Рибемона, что всем было на руку. Пока.
Итак, Жанна Арвилье. Ее тащат спиной вперед, резко поворачивают, и она оказывается перед судьей, которого прежде не видела. Процедура же ей была знакома. Она уже прошла через нее в семнадцать лет. Тогда она боялась. Теперь ненависть поглотила страх. Глаз Жанна не опускала и стояла прямо. Пятидесяти ей, вероятно, все же не было. Прибывший из Парижа судья спокойно ее разглядывал. «Оставьте ее, — сказал он крепко державшим Жанну стражникам. — Я не боюсь». Да и с чего ему бояться? Он не желал ей зла. Пусть только она даст ему сведения, которыми располагает, чтобы, записав их сегодня, он мог впоследствии над ними поразмышлять, и ей дадут мирно умереть. Он даже распорядился ее усадить. Как и все присутствовавшие на процессе, Боден не сомневался: Жанна знает, что обречена. Она казалась неглупой; нищета и гнев избороздили ее лицо морщинами, так что оно походило на лицо старика. Он надеется, сказал Боден, — и это были первые его слова, обращенные к Жанне, — что ее поведение будет согласовываться со здравым смыслом.
Ожидая от нее разумного поведения, Жан Боден заговорил с Жанной, как с человеческим существом, ибо только человек мог предоставить ему нужные сведения. Ее положение, и он это знал, было критическим, хуже того, безнадежным. Значит, ей следует покориться, думал он. Что делать, если ничего другого не остается., Окажись он в таком же положении (в наше неспокойное время ни от чего нельзя зарекаться), он без сомнения приложил бы все усилия, чтобы показаться отрешившимся, а может, действительно отрешиться от всего с ним случившегося, наподобие тех блистательных мудрецов прошлого, от глубоко мыслящего Сократа до ветреного Петрония, которые смогли взять верный тон, рядясь в одеяния вечности. Разумеется, он поступил бы так, лишь если бы его положение стало совсем беспросветным, безнадежным. Его жизнью стала бы борьба, в которой равум находил бы доводы в его пользу; чтобы исполнить свою роль до конца, потерпевшим неудачу политикам остается лишь проявлять величие. Но не справедливо ли то же самое для любой незаурядной личности? Вот только пришлось бы сделать слишком большое допущение, чтобы ожидать этого от простой женщины из народа.
Он без обиняков сказал Жанне, чего от нее хочет. Пусть она раскроет ему свои тайны, опишет свои колдовские приемы, поведает о своих верованиях. Она может говорить с ним свободно, как с равным, как с ученым, который расспрашивает ее, не испытывая враждебности, вовсе не желая ее изобличить, — разве она и так не изобличена? Пусть она говорит с ним, как с посвященным, ничего не утаивая, как с человеком разумным, который жаждет лишь понять и исследовать сказанное ею; не без наивности, искренней, но и лукавой, столь свойственной всем политикам, он добавил, что таким образом она искупила бы свою вину. Чистосердечный рассказ о своих неблаговидных действиях, о печальном конце, к которому они привели, отвратил бы многих бедных, впавших в безумие женщин от преступного пути. Что могло бы с большей полнотой засвидетельствовать о ее раскаянии?
Достаточно было взглянуть на Жанну, на ее страшное, обожженное солнцем лицо, на опустошенный взор, застывшие черты, чтобы понять — она не раскаивалась и никогда не раскается, само понятие раскаяния чуждо всему тому, что она в состоянии когда-либо принять и уяснить себе. Однако верил ли в это, всмотрелся ли хоть раз в лицо Жанны Боден, депутат от Вермандуа, известный оратор, опытный правовед, ученый, философ, чуть ли не богослов? В отличие от многих своих современников он не презирал народ, не отворачивался от нищеты, но, как и в случае Жанны, он никогда не видел настоящего лица этих людей. Боден думал о бедняке как о человеке, лишенном всего, потерявшем всякую надежду, и желал ему добра; он не чувствовал разницы между ним и собой, лишись он внезапно своего состояния и честолюбивых помыслов. Жалость свою — жалость разумную, предполагавшую все же, что для сохранения естественного хода вещей некоторая толика несчастий необходима, — од, по сути дела, обращал на свое отражение в зеркале. Это зеркало загораживало от него и Жанну. Жанна меж тем по-прежнему молчала. Он взялся, проявляя, надо признать, немалое терпение, излагать Жанне ее собственное дело. Мать Жанны, бесспорную ведьму, сожгли в Вербери, близ Компьеня, саму же ее исключительно из милосердия, предварительно выпоров, прогнали (после того как заставили присутствовать при сожжении матери, что, обладай она хоть чуточку здравым смыслом, должно было научить ее по крайней мере осторожности); переходя с места на место, она меняла имя, что уже говорило о ее виновности, и везде оказывала услуги, прямо скажем, сомнительного свойства, продавала снадобья (есть все основания предполагать, что они были ядами), делала предсказания, составляла гороскопы, (Жана Бодена особенно интересовало составление гороскопов, занятие само по себе невинное, — он верил в этот способ гадания), но после того как она уходила, на женщин нападала немощь, умирали бывшие в тягость родственники, учащались выкидыши, случались грозы. И вот теперь история с Франсуа Прюдомом, которого поразила порча, когда он проходил мимо дома Жанны, положила конец ее деяниям.
Она должна была это предвидеть. Сейчас у Жанны чуть ли не чудесным образом появлялась возможность придать своей жизни смысл, сделать ее поучительной для других. Так пусть Жанна не упустит своего шанса.
Он так пока и не услышал ее голоса. Обдумывала ли она все, прежде чем решиться на такой шаг? Перед Жаном Боденом лежали бумага и перо. Тут же находился секретарь суда, в чьи обязанности входило записывать все, что скажет Жанна, так как ее признания были необходимы, естественно, и суду. Так они поймают сразу двух зайцев. Как бы то ни было, Жанне это было на руку. Заговорив, она избежала бы пыток, и вся процедура заняла бы в три раза меньше времени. По-прежнему думая, что она взвешивает все «за» и «против», Боден присовокупил, что будет ходатайствовать перед судьями о том, чтобы, прежде чем сжечь, ее удавили, как принято в таких случаях. При таких обстоятельствах ей оставалось лишь согласиться со своей участью.
Такова была логика вещей, но не логика руководила действиями Жанны. Конечно, она знала, что обречена, но не была ли она обречена всегда? С тех пор когда после смерти матери-цыганки (и ее мать, не была ли она тоже обречена с самого рождения, и мать ее матери, старая Сара, о которой еще не забыли в Вербери, старуха со смуглой, почти черной кожей, спасшаяся после уничтожения ее племени и обосновавшаяся, осевшая здесь, близ Компьеня, в надежде, быть может, не столько спастись самой, сколько спасти дочь и внучку, влив, перемешав свою цыганскую кровь с тяжелой здоровой кровью крестьян Вербери, не была ли и она обречена с самого начала, бабка, которой пришлось пожертвовать своей кровью во имя ее же спасения?) Жанна попыталась найти убежище в этой деревне, сойтись с некоторыми крестьянами, приложив к этому массу усилий, оказав множество услуг, и когда по их отвращению, страху, по их невысказанному, но такому явному желанию, чтобы она ушла, исчезла, убралась из их деревни, где она была как заноза в теле, как бельмо на глазу, Жанна поняла, что обречена, побеждена или, по крайней мере, ей оставалась единственная возможность выжить, одержать верх, единственное поприще, где она может окопаться, — поприще зла.
Крестьяне Вербери обрекали ее на это, как раньше они обрекали ее бабку и мать. Крестьяне сторонились их, почитали, но и ненавидели, ведь они обладали знанием и смогли проникнуть в глубины зла, владевшего душами жителей Вербери; они знали, как ненавидят друг друга родственники, знали злобную, мелочную алчность, жгучее, короткое, как сон, сладострастие. Деревенские заставили их все это принять, всему этому содействовать (сначала так невинно; цыганку оставили в Вербери: другие вас бы прогнали, а мы не такие, но вы уж скажите — вы ведь знаете, — когда умрет мой отец, когда я разбогатею, где спрятано сокровище и что сказать этой женщине, чтобы она…), а потом она стала как бы хранительницей их тайн. Предсказать какое-нибудь событие, дать добрый совет, сделать настой из трав — все это, в общем, пустяки, но тяжело хранить в себе грехи всей деревни, которые потихоньку разлагаются, гниют, отравляя вас, пропитывая вас насквозь. Первой уступкой было дать приют Жанниной бабке, второй — дать ее дочери отречься от своего цыганского происхождения. Только пусть она по-прежнему продает восковые фигурки, гадает по линиям руки, готовит настои трав. Ребенком Жанна была очень красивой. Замысел старой Сары близился к осуществлению. Она смогла выйти замуж за жителя Вербери, такого же бедного, как она, и, раболепствуя, унижаясь, десять раз на дню слыша попреки из-за матери и бабки, сумела избежать доноса (удобный способ отделаться от разонравившейся жены) и произвести на свет первого в их роду законного ребенка, который будет носить фамилию жителя Вербери, говорить, как все деревенские дети, жить, не испытав до самой смерти никаких других тягот, кроме тех, что уготованы местным крестьянам — голода, чумы, гроз. И всего этого достигнуть за какие-то четыре поколения. Однако матери Жанны не хватило терпения и силы нести в себе знание злого начала — эту язву — безропотно, погружаясь в него днем и ночью, впитывая его в себя, и при этом не заразиться едва ли не смертельной болезнью. Она была тихой женщиной, в которой цыганская кровь была уже разбавлена. Привязанность к земле (она любила и выращивала цветы — занятие для цыганки предосудительное) заглушила в ней высокомерное презрение к людям, которое поддерживало старую Сару. Ей претило убивать младенцев в материнской утробе, насылать немощь на соперника или соперницу, содействовать продажной любви, казавшейся ей вещью неприглядной; ей претило, усердствуя, помогать тяжелому цепенящему вожделению обретать жизнь и достигать цели. В Марии чувствовалось непокорство или, того хуже, отвращение. Могли ли деревенские ей это простить? Кончилось тем, что на нее донесли и после пыток, уже умирающую, поволокли на костер, где при первых языках пламени она потеряла сознание и больше в себя не приходила. Говорят, дьявол покровительствовал ей до конца. Как бы то ни было, из трех женщин именно Мария была настоящей колдуньей — она читала мысли, вылечивала безнадежных больных, утихомиривала безумных, прикоснувшись рукой к их лбу, разумела язык птиц, и в довершение всего у нее были зеленые глаза. Жанна больше походила на бабку: гордой осанкой, сдержанной отвагой, прекрасными, словно высеченными чертами лица, — в ней чувствовалась мощная поросль цыганского рода, которая не желала из дикого растения превращаться в траву с огорода.
Она располагала к себе прежде всего твердостью, резкой, казавшейся откровенной речью, бесхитростностью, которая должна была нравиться жителям Вербери. Ей не стоило бы труда найти тех, кто захотел бы воспользоваться ее услугами, но костер, на котором сожгли ее мать, очистил Вербери от греха. Все вздохнули с облегчением и прониклись самыми благими намерениями. Хороший костер стоит полного отпущения грехов и превосходит отпущение грехов неполное. Запах паленого, царящий на площади перед церковью, помогает увидеть воочию, прикоснуться, вдохнуть в себя избавление от греха. Преданы костру низменные страсти (тем более что в большинстве своем они были удовлетворены), ненависть, не прекращавшиеся двадцать лет дрязги, постыдные желания, нечистые мысли, само зло. Могли ли очищенные от зла крестьяне принять Жанну как свою? Жанну, поротую плетьми, Жанну, которую привязали к столбу, чтобы заставить ее смотреть, как горит мать? Ее не считали колдуньей, сообщницей матери. Были даже высказаны осторожные свидетельства в ее защиту. Однако после того как сожгли колдунью, Вербери некоторое время должен быть вне подозрений, как жена Цезаря. Поэтому уходи, Жанна, отсюда, уходи и пусть тебя сожгут в другом месте. Ей прямо так и говорили.
И она ушла. Все было кончено. Не требовалось большого ума, чтобы это понять. Однако она не сдастся, не уступит без боя; борьба — единственное, что сможет доставить ей радость. Она не унаследовала материнской проницательности, но в ней была сила, гнев, страсть. У нее не было имени, не было родины, она питалась желудями в лесу, но ее поддерживал древний инстинкт — инстинкт выживания. Она стремилась выжить назло тем, кто ее окружал, тем, кто поставил на ней крест. Жанна хотела произвести на свет мальчика, который отомстил бы за нее. Она бы сделала из него разбойника. Жанна выбрала отца своего будущего ребенка с тщательностью, какая прежде в ее роду никому не приходила в голову, — он был из шайки, обитавшей у озера, где разбойники топили проезжавших, чтобы без осложнений завладеть их добром. Проклятые, как и Жанна, они сами приняли сторону этого ужасного мира; Жанна помнит их попойки при свете факелов, падавшем на тусклую поверхность пруда, смерть несчастных (грохот повозки на плохо вымощенной дороге, конское ржание, слабые крики жертв — все обходилось без крови), которых отводили на берег и топили, чаще всего в местах не очень глубоких, чтобы можно было их потом развязать, ведь тогда не оставалось никаких доказательств; как в кошмарном сне видит она светлые копны волос в грязной воде и детей, которым приходилось держать головы, как котятам. Сложив руки на округлившемся животе, Жанна погружалась в думы о сыне. Пила она мало, чтобы сын родился крепкий. В мечтах она видела, как ее сын мчится по лесу на лошади, у него за поясом нож и он готов перерезать горло, задушить, утопить — палач мира. Любовника звали Жаком. Впрочем, в народе их всех называли Жаками, и Жанна знала, что в низеньких домах, за ставнями вздрагивали при одном только этом имени. Может, столь красноречивое имя вкупе с физической силой Жака и его поразительной бесчувственностью и предопределили выбор Жанны.
В один ничем не примечательный вечер на берегу пруда под покрапывание мелкого дождя она разрешилась зеленоглазой девочкой. Девочкой! Жанне представилось, что дочь ожидает ее судьба: она будет скитаться с места на место, гонимая всеми, кроме тех, кто, подобно зверям, селится в лесу, напяливает иногда по вечерам на себя звериные шкуры, пляшет, горланит, глушит водку, чтобы совладать с холодом и тоской, — томительной лесной тоской. Даже страшное возбуждение от убийства быстро проходило; большинство этих людей были разорившимися крестьянами, многие — рецидивистами, некоторые — такими же, как она, бродягами-цыганами, — для них привычным делом было задрать свинью или отомстить за себя. Ненужной роскошью считали они угрызения совести из-за пары-другой утопленников. Они знали, что их ждут виселица, колесо, темница, как раньше их ждали голод, война, эпидемии, нищета. Баш на баш — они чувствовали себя в привилегированном положении, и ужас, который они на всех наводили, порождал легенды, тешившие их самолюбие. Какая-то первобытная гордость — единственное их достояние — прорывалась в их диких танцах.
Они были хорошими товарищами, думала Жанна. Женщин было мало, и только самые отпетые. Жены за разбойниками не последовали, — добропорядочные женщины, способные лишь механически выполнять одну и ту же работу, не знавшие иных дорог, кроме как из церкви в свою хижину и из пекарни к мельнице, умевшие лишь оплакивать умерших детей и рожать новых, латать разъезжающиеся по швам лохмотья, латать жизнь, которая не стоила того, чтобы ее прожить… готовить суп из крапивы, думала с презрением Жанна, да еще делать вид, что сыты, — разве не этим занимались ее мать и бабка. Чего ради? И где выход? Здесь тебя гонят, там обвиняют в воровстве или колдовстве, а ты торгуешь на дорогах, стараясь выручить четыре су за то, на что потратила три, и еще должна считать, что тебе повезло. Это последнее и было самым унизительным. Они убили ее мать, саму Жанну выпороли плетьми, выставили на позор, выжгли ей клеймо, выгнали и при этом шептали, как ребенку, которому суют сласти: «Скорее убегай и считай, что тебе повезло». Жанна знала этих людей, видела, как по вечерам они, крадучись, приходили к ним в хижину, просили настои из трав, приносили восковые фигурки, хотели, чтобы в зеркале или на воде, налитой в миску, им прочили будущее, которого они страшились, Приходили всегда ночью, приходили к Мари, так любившей день, солнце, цветы, птиц. Они заставили ее, принудили, довели до голода, а потом приносили масло, яйца, курицу — иногда даже курицу! — приносили, что она просила, а Мари просила немного, но приносили по ночам, всегда по ночам. Они могли оправдывать себя тем, что действовали как бы в дурном сне, но не во сне, а наяву желали они смерти родного дяди, мора в стаде у соседа, полового бессилия у соперника. Однажды, сидя на берегу с новорожденной, завернутой в старую крестьянскую юбку (не принесет ли ей несчастье эта наспех приспособленная под одеяло юбка, прежняя хозяйка которой лежала тут же, на дне пруда), Жанна вспоминала, как Мари, непосредственная и, как всегда, немного не в себе (а разве могла она быть иной, когда ей, имевшей если не чистую совесть, то по крайней мере незамутненное сознание, приходилось хранить в себе все их мрачные помыслы), отправилась к соседке попросить черенки. Черенки! Однако дать черенки, по разумению деревенских, значило продемонстрировать свою дружбу, взять на себя тяжелые обязательства, признать, что ведьма тебе ровня и у нее есть душа. Черенки! И соседка перекрестилась. Мари не настаивала, повернулась и, напевая себе под нос, ретировалась. Все же без черенков Мари не осталась. Соседка их ей принесла — ночью. Ночь не день, ночью становишься другим человеком: соседке нравилось испытывать страх, думать, что она совершает нечто недозволенное, опасное. Мари должна была получить черенки не в знак естественного расположения со стороны соседки, а как наделенное смыслом, тайное приношение. И соседка умоляла, вся трясясь, шептала Мари в ухо, и с ее уст не сходило имя мужа, который бил ее, выпивал и который был на столько лет ее старше, что его смерть ни у кого не вызвала бы подозрений, ведь каких только хворей у него нет… «Перестаньте его любить, — задумчиво сказала Мари, — совсем лишите его своей любви и своей ненависти. Человек, на которого больше не обращают внимания, угасает, и жизнь покидает его. Изгоните мужа из своего сознания. Не произносите его имени. Делайте, что он говорит, но слушайте лишь его слова, не голос. Не разговаривайте с ним больше. Пусть его окружает безмолвие могилы. И ждите шесть месяцев». Голос Мари был ясен и тих. Любила ли, ненавидела она сама? Нет, иначе бы она не выдержала такой жизни, не выдержала бы этой деревни, стремления деревенских заставить ее, чтобы она олицетворяла собой зло, взвалила зло на свои плечи, выкристаллизовывала его в своей душе. Она не знала любви, не знала ненависти, делала, что просили, а в часы отдыха слушала пение птиц. Дух зла не свил гнезда в ее душе, но ее не посещали и ангелы. Она сама была воздушным, ни с чем не связанным духом, эоловой арфой. Мари хранила в себе силу, как скрипка хранит в себе музыку. Те, другие, хотели ее расстроить. Соседка ничего не поняла. Она требовала восковую или глиняную фигурку, кровь летучей мыши, мази, острые иглы. В ее шепоте теперь проскальзывала угроза. Мари равнодушно уступала.
Сидя на берегу пруда, Жанна глядела на дочь. «Лучше ее утопить», — сказал Жак. Он знал, что говорил. Не был таким беспробудным пьяницей, как другие. У Жака были светлые волосы, сам он был из крестьян; его жену изнасиловала и убила солдатня из королевской армии. Трое маленьких детей умерли от истощения в голодное время после войны. Последнего ребенка, трехлетнюю девочку, он не мог взять с собой, когда, устав сеять, жать, собирать в закрома для других, решил убежать в лес. Убить ее не поднялась рука, в конце концов он продал ее владельцу часовой мастерской в Лаоне — они с женой сокрушались, что у них нет детей. Жак никогда уже не увидит дочери, одно утешение, она осталась жива. В холодные, голодные, тоскливые вечера он говорил себе: «Дочка сыта». Но ему тогда повезло. Почти незаслуженно повезло. А здесь, на берегу пруда, что станет с девочкой? Она превратится в презренную больную шлюху, в жалкую нищенку, промышляющую воровством или в лучшем случае станет крестьянкой, из самых бедных, из тех, кто ничего не имеет и надрывается на чужом поле за кусок хлеба. «Лучше уж ее утопить». У Жака было черствое, вернее, очерствелое сердце, но от природы человеком он был неплохим. Иногда он заводил разговор о справедливости, о других шайках, в далекой Германии; ему рассказали, что, овладев городом — каким, он уже не помнил, — одна такая шайка все разделила поровну: дома, добро, женщин… Но как туда добраться? У кого узнать поподробнее, узнать, правдивы ли слухи? Жаку рассказывали об этом в другой шайке, но всех из той шайки потом поймали и повесили. Разбойники часто фантазируют. Пока прячешься, притаившись, подобно зверю, в ожидании редкой жертвы, что только не приходит в голову. «Если бы мальчик, тогда ладно… Мужчина выкарабкается, ускачет, спрячется, убьет. Дай я сам ее утоплю». «Завтра», — ответила Жанна. Она понимала, что Жак прав, что он по-своему жалеет девочку, но утопить ее сейчас, когда у Жанны еще не прошла боль, когда кровь еще течет… А на следующий день грудь уже была полна молока.
Жанна была под стать мужчинам. Привыкшие к отбросам человеческого общества, к женщинам, которые прилеплялись к шайке с голодухи, служили им для забавы, а потом исчезали или умирали, разбойники уважали Жанну с ее не по-женски суровой красотой — Жанна не хныкала, держала язык за зубами и не испытывала жалости к их жертвам. Она чувствовала, что ее уважают, и это служило ей поддержкой, которую Жанна давно уже ни от кого не получала. Шайка была как одна семья, одно племя, но за все надо платить, и вот теперь настала пора принести в жертву свою дочь. Жанна глядела на ребенка и колебалась. Она думала о Саре, когтями вцепившейся в клочок земли, о Саре, которая захотела спасти Мари, но не захотела или не смогла спасти себя. Она думала о Мари, вовсе не ведьме, а фее, а податливой и безучастной ко всему Мари, которая не почувствовала, что умирает, как не чувствовала она, что живет. Жанна вовсе не полюбила дочь с первого взгляда, как бывает в сказках, но в этом комочке трепещущей плоти обитала Сара, Мари, не знавшие имени отца своего ребенка, в ней обитала она сама и Жак, ее первый и последний мужчина (если не считать одной давней истории), который был никем и сразу всем и чье имя олицетворяло бунт. Она задумчиво глядела на ребенка: сейчас осень, до зимы девочка не умрет, значит, ждать приходилось еще три месяца. Грудь наполнялась молоком и болела. Однако, кормя ребенка грудью, питая собой эту жизнь, Жанна уже не погружалась в безмерные глубины отчаяния.
Надо было распрощаться с мутными водами прудов, покинуть разбойников, которые для самоутверждения пугали жителей деревень, напялив на себя волчьи шкуры. Надо было уйти из леса, спасительного и гибельного одновременно, и осесть среди горожан. Ей предстояло вновь вступить в безнадежную схватку. Для нее кончалась жизнь простая, бесхитростная, когда, чтобы выжить, не мудрствуя лукаво, убивают безжалостно других, не чувствуя при этом за собой никакой вины. Она покидала жизнь, похожую на кровавый сон с его хмельным угаром, глухими криками, безмолвными пирами, глубоким опьянением, но покидала не естественным путем — через смерть, а спасаясь бегством. Ей предстояло с головой окунуться в одиночество. И все из-за малышки, которая ничего никогда не увидит, кроме горя и страданий. «Лучше было бы ее утопить». Конечно, лучше, но это было выше ее сил. Жанна ушла ночью, ей было стыдно. Жак не пытался ее удержать. Он терял не только женщину, он терял товарища. Однако он пережил уже столько потерь! «Я постараюсь продержаться здесь еще несколько лет… или месяцев, но они все обезумели, забыли про осторожность. Скоро нам всем тут каюк. Послушай, трактирщик из К. — человек надежный, если когда-нибудь ты услышишь про эту шайку в Германии или про другую, где пытаются что-то сделать, как бы это сказать, для того, чтобы выкарабкаться, что-то сделать ради справедливости, ради… подай мне весточку, главное, как добраться, если узнаешь, я тут же отправлюсь». Жанна плохо понимала эту его мечту. Разве ей еще с Вербери не было известно, что справедливости не существует? Люди везде одинаковы. Однако она поддержала надежду, которая выделяла его из толпы, красила его, освещала взор. На прощание она чисто по-женски, нежно погладила его свободной рукой, не занятой ребенком, по волосам. На мгновение в этом аду они втроем стали похожи на одну семью. «Обещаю. Клянусь. Не теряй надежды». Эти слова придавали Жаку жизни, поддерживали его. Для Жака тоже не лучше ли было погибнуть, потерять надежду и дать себя убить в первой же заварухе, чем испытывать на себе людскую жестокость? Однако она сказала: «Не теряй надежды», хотя сама ни на что уже не надеялась. «Все женщины одним миром мазаны», — говорили, должно быть, разбойники на следующее утро, узнав о ее уходе.
Да, все они одним миром мазаны. Всем им остается только бороться, бороться до самой смерти, даже когда надеяться уже не на что и разум подсказывает сложить оружие. Бодену предстояло убедиться в этом самому. Разумеется, она поступала нелогично, нелепо. Мужчине это ясно как божий день. Однако женщине, с которой обращаются как с вещью, как с мертвецом, так, как если бы она вообще никогда не существовала, надо доказать, что она живой человек и даже на пороге смерти в состоянии что-то произвести на свет, хотя бы сея зло и смуту. Жанна инстинктивно стремилась именно к этому — успеть до своей смерти заронить что-то в души этих уравновешенных, спокойных, уверенных в своей правоте людей. Так поступила бы на ее месте ее бабка Сара. Так поступила бы на ее месте любая женщина, которая рожала, которая, обработав клочок земли, увидела, как пробиваются всходы. Так поступила бы любая женщина, которая когда-либо с наслаждением или нет, но сжимала в своих объятиях мужчину, слышала, как срывается от волнения его голос, гладила его волосы, — любая, кто плотью и духом настоящая женщина. Но знал ли Боден, что такое настоящая женщина? Он видел в Жанне лишь обреченную на смерть колдунью.
Она еще не заговорила. Нельзя сказать, что он угрожал ей пыткой. Да и не он в конце концов изобрел пытку. Он только предупредил Жанну, что, если она будет упорствовать в своем молчании, неизбежно придется прибегнуть к пытке, за которой все равно последует признание. Это в порядке вещей. Жанне в ее пожилом возрасте (во всяком случае она выглядит пожилой) не по силам выдержать пытки. Признание обеспечило бы смерть более быструю и менее мучительную. Какое бы решение она ни приняла, какую бы позицию ни избрала, результат будет один — смерть, смерть, смерть. Не следовало ли ей привыкнуть к этой мысли? Никто не желал причинять ей страданий. Из десяти судей девять охотно предоставили бы ей сразу самую легкую смерть, чтобы больше об этом не думать. Не следовало ей осложнять свое положение. Решившись же на такое, она должна будет пенять только на себя, если ее подвергнут мучениям.
Она заговорила, и ее первыми словами были:
— Ничего, я выносливая. И потом, я думаю, мне не больше сорока.
От Жанны не укрылись еле заметные нотки раздражения в голосе Бодена, и она тут же воспользовалась случаем еще больше вывести его из себя. Инстинктивно она желала, чтобы он раскрылся, выдал себя. Скорее всего ей не избежать смерти, а раз так, чего ради она будет церемониться?
— И повыносливее вас… — начал было Боден, но осекся. Он чуть не потерял самообладание, а все потому, что не ожидал от простой бабы, не умевшей, по всей видимости, ни читать, ни писать, иного сопротивления, кроме жалоб, нытья, заверений в своей невиновности, от которых она быстро бы отказалась, начни он угрожать или обещать поблажку. Ему приходилось приспосабливаться, применять другую тактику. Теперь в нем говорил политик, правовед, тем более что победа была ему обеспечена. Достаточно было одного его слова, чтобы призвать стражника, и Жанна будет уничтожена или подвергнута пытке. Одно то, что он не пользовался своей властью (ему претило бы поступить иначе), свидетельствовало о его превосходстве, думал Боден. Этот допрос не более чем развлечение, необременительное развлечение.
— Вы читали Ветхий завет?
— Я не умею читать, — сказала Жанна (она говорила неправду).
— Но вам известны какие-нибудь эпизоды, отдельные места из него?
Не совсем уверенно она ответила «да». Бабка рассказывала ей кое-что, но она запретила учить внучку грамоте (Жанна научилась читать позже, много позже).
— Очень любопытно, — удовлетворенно отметил Жан Боден (и взял это на заметку). — А почему она запретила?
— Считала, что женщине, тем более крестьянке, не подобает знать грамоту, — немного поколебавшись, ответила Жанна. Тут она вступала на ненадежную почву. Что выудит из ее слов этот добродушный на вид человек в меховой шапке, строчивший что-то мелким убористым почерком?
— Может, она считала также, что это возбудит подозрение?
Жанна молчала. Она была не столь глупа, чтобы в запрете Сары не почувствовать заранее обдуманного замысла, который должен был сослужить Жанне добрую службу. Доверяя бабке, Жанна подчинилась запрету и никогда не училась грамоте специально, хотя и различала некоторые слова и буквы. На Сару Жанна не сетовала, негодовала она на других, на всех тех, кто был готов сделать ей зло, обнаружь она какое-то превосходство над ними.
— Ваша мать умела читать?
— Не знаю.
— Как, вы не знаете, умела ли ваша мать читать? Но вы ведь видели ее иногда с книгой в руках.
— Я думаю, она смотрела картинки.
— Какие картинки?
— Цветы…
— Вы, наверно, хотите сказать, травы, лечебные травы, чтобы делать снадобья, например настои от лихорадки?
Он разговаривал с ней, то и дело возвращаясь к уже сказанному, повторяя то же самое, но в других выражениях, чтобы было понятнее, как с ребенком, со строптивым учеником, на которого решено воздействовать лаской, лаской подвести его к последнему испытанию — к костру. Почувствовав это, Жанна пришла в волнение:
— Я не такая дура, чтобы не понять, о чем речь. Я говорю про цветы. Что такое лечебные травы, я знаю.
— Знаете? Это, конечно, ваша бабка научила вас разбираться в лечебных травах.
И он записал: наследственный характер занятий колдовством очевиден. Рецепты, а возможно, и состав ингредиентов передаются от матери к дочери. Жанна немного растерялась.
— В деревне все знают травы.
— Ваша дочь тоже знает?
Жанна вздрогнула. Ее дочь! Она вспомнила Вербери, вспомнила Мари, которая подчинилась, поступила так, как Жанне советуют поступить сегодня: к вящему удовольствию жителей Вербери, она с готовностью приняла смерть, очистив всех от греха, сознавшись во всем, в чем ее обвиняли, — из-за этого ее, Жанну, выгнали из единственного места, где у нее был хоть какой-то шанс прижиться. Жанна не даст себя провести, нельзя допустить, чтобы Мариетту (девочку звали Мари, а не Сарой — вещь странная, — сама Жанна затруднилась бы объяснить такой выбор. Как и Жанна, девочка больше походила на свою бабку, чем на мать. Однако в характере маленькой Мари было больше твердости, она меньше витала в облаках, была более нежной, но и более пылкой; глядя на нее, Жанна иногда вспоминала, как она прощалась в лесу с Жаком, разбойником и крестьянином, мечтавшим о городе далеко в Германии или в другой стране, где восторжествовала наконец справедливость)… Нельзя допустить, чтобы Мариетту выгнали, заклеймили, заставили скитаться по свету, как Жанну. Эта мысль вывела Жанну из оцепенения, задев единственное уязвимое место в ее душе.
— Если только кто-нибудь из сельчан показал ей травы, — сказала она после некоторого молчания.
— При вас она никогда не называла растения в вашем или соседском саду, никогда не готовила настой из растений, бальзам?
Он тщательно подбирал слова, говорил «настой», «бальзам», а подразумевал «приворотное зелье», «колдовское снадобье».
Произведения
Критика