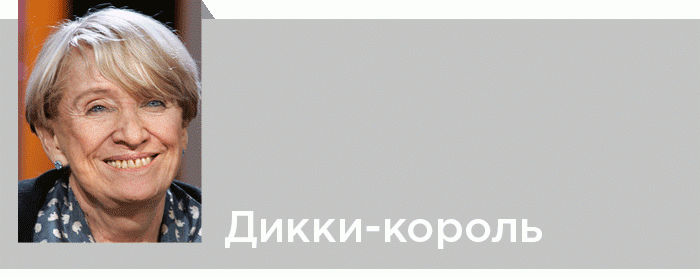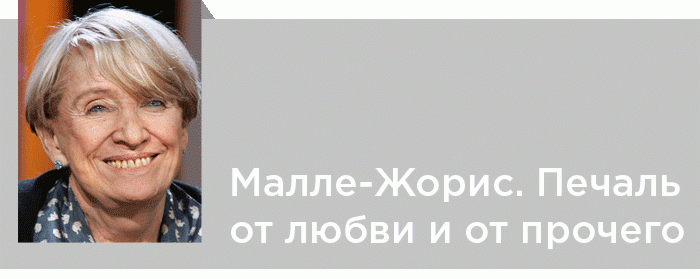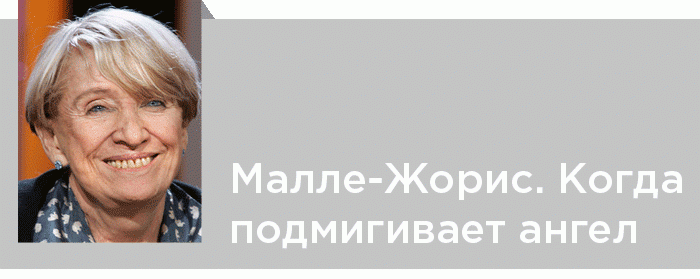Франсуаза Малле-Жорис. Бумажный домик

(Отрывок)
«Важнее быть серьезным, чем благоразумным», — говорил мой отец, которому я с любовью посвящаю эту книгу.
Венсан и я
Венсан (одиннадцать лет). Знаешь, мама, чтобы мир стал прекрасным, надо…
Я. Да?
Венсан. Надо сначала уничтожить комаров.
Я. Вот как?
Венсан. Да, и еще гадюк.
Я. Это почему?
Венсан. Потому что из-за ядовитых змей страдают ужи. Их путают — когда видят ужа, кричат: «Ох, гадина!» И ему обидно. А если на земле из всех змей останутся только ужи, ты будешь твердо знать, что они не кусаются, и скажешь: «Ах, какая красивая маленькая змейка!» И ужу будет приятно. Если бы я мог переделать мир…
Я. А ты считаешь, что он сделан плохо?
Венсан. Нет. Я ведь не привереда.
Я. Ну и кого бы ты еще уничтожил?
Венсан. Из животных почти никого. Львов и крокодилов я бы, например, оставил…
Я. Ну да?
Венсан. Да, оставил. Из-за путешественников. По-моему, им бы не понравились путешествия без всякого риска. Что это за приключения без львов и крокодилов?
Я. Само собой.
Венсан. А вот некоторых субчиков, знаешь, хорошо бы вжик, вжик, вжик… Это уж точно.
Я. Каких таких субчиков?
Венсан. Сначала надо их как-то распределить. Во-первых, это те, что затевают войны, мятежи, потом те, что злобные…
Я. А это не одни и те же?
Венсан. Не обязательно. Есть еще обжиралы…
Я. А это кто такие?
Венсан. Те, что норовят заглотнуть побольше, даже если не голодают, но главное, конечно, те, что воюют. И с соседями, и дома. Я хочу сказать, в собственной семье.
Я. Ты считаешь, что на них все-таки можно найти управу?
Венсан. А почему не попробовать? Тут нужен Глаз.
Я. Глаз?
Венсан. Да. Глаз — в каждом доме. Как только он увидит, что затевается свара, он даст им послушать какую-нибудь приятную музыку, чтобы они перестали.
Я. А если они не перестанут?
Венсан. Тогда нужен Глаз-начальник, его предупредит электронное устройство, и он пошлет к ним очень добрых жандармов, которые их успокоят.
Я. А разве такие бывают?
Венсан. Кто?
Я. Очень добрые жандармы?
Венсан. Их специально подготовят. По всем правилам науки.
Я. А тебе не кажется, что это противоречит свободе совести?
Венсан. Когда не даешь людям ругаться?
Я. Да.
Венсан. Возможно. И все же Глаз не помешает. Синий. Вот если б я был богатый и мог купить все на свете…
Я. Что бы ты купил?
Венсан. Все. Но я могу и понарошку…
Я. Как это?
Венсан. Я говорю себе: я могу купить все. Но мне не к спеху, и я не покупаю ничего. Это одно и то же.
Я. Почти.
Венсан. И еще я бы хотел быть при Воскресении.
Я. Вот как?
Венсан. Да, и задать кое-кому несколько вопросов.
Я. Кому именно?
Венсан. Например, Жерару де Нервалю. Я бы спросил у него, что он на самом-то деле имел в виду в своем стихотворении, которое ты не смогла мне объяснить. «Амур я или Феб»… Только, наверное, у него всякая охота пропадет оживать, если к нему станут приставать с такими вопросами.
Я. Вполне возможно.
Венсан. А может, он вообще захочет стать бакалейщиком для разнообразия… И еще я бы с удовольствием поговорил с первобытным человеком. Я спросил бы: правда, что рисунки в пещерах — бизоны и всякое такое — волшебные… Я бы вызвал его прямо сюда и спросил. Нет, может, и не сюда, тут машины ездят, он испугается. Лучше в поля за город, ему будет привычнее. А тех, кто станет брать у него интервью, нужно одеть в шкуры, такие, как у него. И подобрать народ покрепче.
Я вот все думаю, если бы первобытный человек увидел наш, современный мир, ну там машины, телевизоры и так далее, что бы он предпочел: жить в наше время или вернуться в пещеры? Диплодоки и плезиозавры, тьма непроглядная, конечно, не подарок. Но машины и рак тоже.
Я. А ты что бы ему посоветовал?
Венсан. Знаешь, в конце концов, наверное, диплодоков. Только я бы подарил ему коробок спичек, если он еще не изобрел огонь, и еще, пожалуй, флейту.
Я. Так ты нарушишь ход мировой истории.
Венсан. Ты так считаешь?
Я. Конечно. Чтобы добыть огонь, ему нужно было думать годы и годы. Ты даешь ему спички, и думать теперь не надо. Лучше уж позволь ему добыть огонь самому.
Венсан. Но пока он будет его добывать, он промерзнет до костей.
Я. Что правда, то правда.
Венсан. И может, ему будет совершенно все равно, сам он изобрел огонь или нет, если он замерзнет?
Я. Да, наверное.
Венсан. И вообще, хоть я и не собираюсь никого критиковать, но Господь Бог все же мог бы дать ему огонь с самого начала. Про флейту я не говорю, хотя по вечерам, без электричества, с музыкой все-таки веселее. Но огонь! Как подумаешь, что были люди, которые совсем не знали, что это такое. Представляешь? У меня от одной этой мысли мороз по коже.
Я. Но ведь и теперь у многих людей нет самого необходимого.
Венсан. Конечно, но теперь люди хотя бы знают, что оно существует.
Я. Разве это утешение?
Венсан. Не знаю. Но если бы первобытные люди хотя бы могли сказать себе: когда-нибудь у нас будет огонь…
Я. Но тогда им не надо было бы его изобретать.
Венсан. А разве мы живем, чтобы изобретать?
Я. В каком-то смысле.
Венсан. Мы об этом еще поговорим.
Два вопроса, которые мне чаще всего задают
Но сначала, кто такой Венсан? Сейчас ему уже четырнадцать, для меня же он все еще малыш. Мой малыш. Мой младший сын. Старший — Даниэль, в этом году ему исполнилось двадцать. Еще у меня есть Альберта одиннадцати лет и Полина — ей девять. Мои дети.
Чаще всего меня спрашивают, пожалуй, вот о чем. «Как это вам удается писать?» Или: «Я вами просто восхищаюсь, у вас четверо детей, и вы умудряетесь писать». Как правило, те самые люди, что спрашивают об этом, через минуту уже просят меня выступить с лекцией в Ангулеме, прочесть рукопись двоюродного брата или набросать статью о жизни Флобера, а то и о мадам де Лафайет: «У вас это отнимет несколько минут».
И я не знаю, что им отвечать. Отделываюсь банальностью: «Главное — уметь организовать свое время». А что еще я могу сказать?
И второй вопрос, иногда с оттенком снисходительной иронии, иногда словно восхищаясь спортивными достижениями: «Наверное, очень удобно быть верующей?» Или: «Я восхищаюсь вашей верой!» Или же: «Это ведь большое счастье — верить…»
И я опять не знаю, что отвечать. Опять отделываюсь банальностью: «Не так уж и удобно. — Потом спохватываюсь: — Да, конечно, удобно, в каком-то смысле».
Я не умею отвечать на вопросы. Точнее, я не умею отвечать словами. Я смотрю на своих детей, на свою работу, на свою веру. Я говорю себе: «Вот они», — как говоришь перед зеркалом: «Вот мое лицо». Пускай другие дают им характеристики. А меня, пожалуйста, увольте…
В тот день, когда у меня с Венсаном состоялся этот разговор — я записала его, потому что он показался мне забавным, — мы отправились с ним выпить чаю в английское кафе возле Сен-Северина, где такие вкусные лимонные пирожные. Наш поход вовсе не был наградой Венсану: никакой награды он не заслужил. Нам просто захотелось поговорить, вот и все. Венсан в свои одиннадцать лет: плохой ученик, непоседа, забияка, сорвиголова, хлебом не корми, дай забраться куда-нибудь повыше, страшно ранимый, попробуй упрекнуть его — сразу в слезы, неисправимый мастер-ломастер, вечно весь в клею и краске, страстный пожиратель книг по естественным наукам и большой поклонник Арсена Люпена, порой немного педант, редкий грязнуля, с прекраснейшими на свете глазами и кое-какими познаниями в теологии. Но и ему тоже я не берусь давать характеристику.
То, что Венсану захотелось поговорить со мной: «Пойдем куда-нибудь, где можно спокойно поболтать», — моя маленькая радость, пустяк, на вид не стоящий упоминания, но такие пустяки протягивают для меня путеводную нить сквозь хаос перелистанных рукописей и перемытой посуды, сообщают жизни ее истинный смысл и ценность. Как тот день, когда Альберта впервые выступала в концерте (с пьесой для фортепьяно) или, возвращаясь из детского сада, прихватила с собой какого-то малыша; или когда Полина (ей было тогда пять!) заявила: «Сегодня я обедаю в ресторане»; тот день, когда она получила награду по чистописанию — на ней был новый фартучек, и выглядела она таким воспитанным ребенком! Или первое стихотворение Даниэля, его первая вечеринка; или саксофон, который он только что купил, и мы застыли в восхищении перед новеньким инструментом, поблескивающим в футляре, обитом бархатом; или когда он, нежась в ванне (на бортике — сигарета, в мыльнице — надкушенное печенье), сказал мне: «Я видел сегодня потрясающий сон. Я совершил долгое и опасное путешествие и возвратился, увенчанный славой, чтобы жениться на замечательной девушке». Из его глаз, огромных и зеленых, смотрела вся прямодушная молодость мира, молодость песен и стихов, смотрела радостная готовность к чуду, неизменная со времен Крестовых походов. Это светлые мгновения — в них то же счастье, какое дарит творчество. И вера. Есть и другие минуты, омраченные муками творчества и веры. И они слиты воедино, эти мгновения. Они слиты воедино, но разве это ответ на те два вопроса?
В тот вечер я сказала Жаку:
— Ты должен нас нарисовать. Сделать большой портрет всех членов семьи. Мы, дети, звери, Долорес. Все художники так делают. Selbstbildnis.[1] Художник и его семья.
— К сожалению, сейчас я тяготею к абстрактной живописи, — заметил он, жуя свою трубку.
— Ну конечно. Значит, взваливаешь это, как всегда, на меня.
— Какое лицемерие!..
Я напишу эту картину. Но может ли картина дать ответ?
Полина
Полина. Ты любишь папу?
Я. Да.
Полина. И будешь любить всегда?
Я. Конечно.
Полина. А почему ты в этом так уверена?
Я. …
Полина. Вдруг ты однажды скажешь себе: ох, какой у него огромный нос!
Я. Но я люблю папу не за нос!
Полина. А я за нос. Мне его нос очень нравится. Но может и разонравиться.
Я. И что же ты будешь делать, если он тебе разонравится?
Полина. Ой! Бедный папа! Придется притворяться.
Долорес
Долорес живет с нами уже четыре года. Четыре года с перерывами: время от времени ее уносит буря страстей, и мы вступаем в период междуцарствия.
Долорес. Меня нужно звать не Долорес, это по-французски, а Долорес. Долорес значит «страдания», самое красивое имя на свете.
Я. Вот как?
Долорес. Но поскольку это слишком грустно, меня называют Лоло. Так современнее и похоже на кинозвезду.
* * *
Я. Долорес, я принимаю ванну.
Долорес. Ничего, меня это не смущает.
Она усаживается на табурет спиной ко мне — уступка моей стыдливости и правилам хорошего тона.
Долорес. Сигарету?
Я. С удовольствием.
Она раскуривает две сигареты, одну протягивает мне. В ванной царит первозданный хаос. Сквозь облезлые витражи весь дом напротив разглядывает меня в свое удовольствие. Витражи делали двенадцать лет назад, еще до нашей с Жаком свадьбы, когда наше зарождающееся чувство купалось в его сказочных проектах. И я тешила себя иллюзией, что такой мастер на все руки, как Жак, устроит для нас райский уголок, не уступающий экспозициям мебельных салонов.
Долорес. Пока вы принимаете ванну, я хоть передохну минут пять.
Я не решаюсь ей сказать, что лелеяла такую же мечту.
Долорес. Вчера я перестирала груду белья высотой с человека. Ох и умеют же они пачкать, эти дети! Вечером зато здорово повеселилась. Сегодня дел мало, и я загрустила. У меня в семье не любят прохлаждаться.
Я. Но ведь иногда так приятно отдохнуть.
Долорес. А вы разве когда-нибудь отдыхаете?
Я. Я… я стараюсь.
Долорес. Да вы даже в ванне книгу читаете.
Я. Но ведь это не работа.
Долорес. Самая настоящая работа! Когда я думаю, я так устаю. А вот сегодня всю ночь не спала и ничуть не устала. Ходила со своими испанцами из кафе в кафе, болтали.
Я. А ты встречаешься только с испанцами?
Долорес. С испанцами или марокканцами. Мы отлично ладим, от добра добра не ищут. У Кристины — у той одни португальцы. Зато она по крайней мере знает национальность своего сына, хоть ей и неизвестно, кто его отец.
В ванную незаметно начинает стекаться народ.
Хуанито[2] играет на полу с собачьим поводком, который потом придется разыскивать по всему дому. Полина исследует мою туалетную сумочку и посыпает себя тальком. Альберта слушает наш разговор. Пес и кошка Тэкси беззлобно дерутся.
Альберта (с интересом). Ей неизвестно, кто отец кого?
Долорес внезапно срывается с серьезного, сдержанного тона на пронзительный, типично испанский фальцет. Она вопит во все горло, но лицо ее, красивое и большое лицо испанской крестьянки, остается безмятежным.
Долорес. Вы когда-нибудь оставите вашу маму в покое, паршивцы вы этакие?
Паническое отступление. Пес стрелой вылетает из ванной, опрокидывая Полину, которая падает в облаке талька. Слезы. Альберта ретируется за дверь, но ушки у нее на макушке. Хуанито вцепляется в кошку.
Долорес (берет еще одну сигарету). Ох уж эти дети! Все-таки должно же быть у них хоть какое-то воспитание. Хуан не капризничал ночью?
Когда Долорес отправляется «слегка проветриться», она оставляет на мое попечение Хуана, красивого серьезного бутуза, немного мрачноватого и по-испански высокомерного; он устраивается в кровати между Полиной и Альбертой и покорно терпит материнские ласки моих дочерей.
Я. Нисколько не капризничал.
Полина (вновь появляется как по волшебству, вся белая с головы, до ног; пронзительным голосом). Еще как капризничал, я сказала ему: «Спи, мой золотой», — и спела колыбельную, а он как завопит, и тогда Альберта меня ущипнула.
Альберта (за дверью). Она пела ему прямо в ухо!
Полина (рыдая, в ярости). Нет! Нет! Она врет!
Я (слабым голосом, примиряюще). Может быть, он не любит музыку?
Долорес (возмущенно). Как? Кто, кто это не любит музыку? А вот мы сейчас посмотрим!
Взмахом руки она отшвыривает кошку, которую ее отпрыск терпеливо засовывал в полиэтиленовый мешок, ставит Хуанито прямо перед собой, кричит ему «Оле» и запевает какую-то дикую песню. Малыш послушно щелкает пальцами и подпрыгивает на месте, не теряя при этом своей врожденной серьезности. Некоторое время Долорес с восхищением любуется им, потом сгребает в охапку, покрывает поцелуями, кусает за щечку, но, заметив, что он весь мокрый, так же резко отшвыривает его на пол.
Долорес. Ох! Мое сокровище! Ох! Какой стыд!
Хуанито плюхается на пол, как тюфяк, на лету подхватывает кошку и принимается опять засовывать ее в мешок, в котором я наконец узнаю мешок от своей губки.
Я. Долорес, это мешок от моей губки.
Долорес (очень твердо). Все равно, губка теперь пропала. Так о чем мы говорили? Ах да, о Кристине. Она позорит Испанию.
Я. Из-за португальцев?
Долорес. Нет, не в этом дело… Она немножко блаженная, понимаете? И даже не замечает, как у нее дружки меняются. Она ни читать, ни писать не умеет.
Я. Теперь понятно.
Долорес. Только это тоже не оправдание. Честности не учатся, она в крови, как пасодобль. А Кристина нечиста на руку.
Я. Неужели?
Долорес. Да. Она ворует даже у друзей. Зато не выносит подарков. Попробуйте сделать ей подарок — она сразу обозлится. А вот стащить — пожалуйста. Сколько угодно. Я очень смеялась, когда она забеременела. Я сказала ей: «Уж от этого подарка ты не отвертишься».
Серебристый смех Альберты из-за двери. Долорес вскакивает.
Долорес. Ах ты паршивка! Шпионишь! У дверей подслушиваешь! Вот я тебе сейчас уши надеру! Без обеда останешься… Я тебе…
Альберта (холодно, высокомерно, чуть побледнев, принимает бой). Ты обязана, — бросает она, прекрасно зная, что накликает бурю.
Долорес (впадая в неистовство). Что значит — обязана? А тебе известно, сколько я могла бы получать в Марселе? Сто тысяч франков, и еще больше, да два выходных, да свой телевизор… А я до сих пор здесь торчу, потому что маму твою жалею.
Альберта (не сдаваясь). Все равно ты обязана кормить меня.
Долорес (обезумев). Никому я ничего не обязана! И никто меня не заставит. И почему это, скажи на милость, я обязана?
Альберта (с достоинством). Потому что я ребенок.
На мгновение Долорес столбенеет, пораженная неопровержимостью довода, но тут же гнев как маска слетает с нее, и она разражается смехом.
Долорес (призывая меня в свидетели). Ну что за прелесть эта девчушка!
Она хватает Альберту, целует. Альберта не сопротивляется, она невозмутима, как боксер, который, послав противника в нокаут, вынужден терпеть надоедливый, но неизбежный восторг толпы. Кошка задыхается в полиэтиленовом пакете. Хуан пытается сесть на нее верхом.
Долорес (совсем растрогавшись). Вы только взгляните на эту парочку, что за душки!
Я. Мне кажется, кошка вот-вот задохнется.
Долорес. Нет, нет… Сейчас я их разниму. Не стоит так волноваться по пустякам. (В порыве чувств.) Со следующего жалованья я куплю вам новую губку.
Я. Спасибо, Долорес.
Я вылезаю из ванны при большом стечении народа, отчаявшись обрести здесь отдохновение от превратностей жизни.
* * *
Долорес, оказавшись в период своих злоключений проездом во Франкфурте, купила там два пояса для чулок — купила исключительно из любви к прекрасному, потому что пояса она ненавидит и не носит. Пояса черные, по ним порхают розовые бабочки. В неудержимом порыве чувств: «Вот, возьмите! Я их ни разу не надевала. На блондинке они будут еще эффектнее». Теперь их ношу я.
Марсель
— У испанок в Марселе, — говорит Долорес, — отдельные комнаты с телевизором и горячей водой. Они могут принимать гостей.
— Но ведь и к тебе приходят гости, Долорес…
— Какие это гости? Две-три подружки, пару раз в неделю. И каждый раз я должна просить у вас серебряный поднос. А в Марселе у меня было бы свое серебро, складной столик, скатерти в цветочек, кожаный красно-черный диван-кровать с куклой на подушке. И на стене — настоящая картина.
— А что такое настоящая картина, Долорес?
— Настоящая — вроде той, что я привезла из Мон-Сен-Мишель, — отвечает Долорес. — Не хочу сказать ничего плохого про вашего мужа. Не понимаешь — не суди. Только то, что рисует ваш муж, — может, это и живопись, но не картины.
Анита, Кристина, Конча… Я натыкаюсь в своем доме на множество испанок, которых толком даже не знаю; в нашей тесной квартире это довольно неудобно (правда, они ведут себя очень деликатно и всегда стараются меня ободрить, когда встречают разгуливающей в одной комбинации).
В поисках свитера я забредаю в ванную и застаю их там вчетвером или впятером; вхожу на кухню, где они пьют чай, у каждой на коленях по ребенку, а то и по два. Меня угощают печеньем. Анита, Кристина, Кончита, все носятся с одной легендой, одной мечтой — сказочная жизнь испанок в Марселе. Испанки в Марселе свободны в пять часов пополудни, они надевают атласные платья и весь вечер гуляют, разглядывая витрины. В изголовье кровати они держат электрические чайники и прямо в постели пьют свой утренний кофе (и это еще что, у кузины одной из Лолиных кузин у кровати стояла удивительная кофеварка: заведешь ее на определенное время, она тебя будит, и тебе остается только протянуть руку за чашкой горячего кофе; правда, Лола честно признается, что кузина кузины жила тогда в американской семье. Американцы из Марселя — это высочайшая вершина, венец всей карьеры, предел мечтаний). А еще испанки в Марселе имеют счет в банке, и это естественно: они просто не могут потратить все деньги, которые зарабатывают. Летом они ездят на пляж, устраивают пикники, ходят на танцы, а на танцах в Марселе гораздо веселее, чем в Париже, потому что там танцуют пасодобль. И имеют бурный успех, ведь в Марселе понимают толк в красивых женщинах, не то что в Париже, где все ходят в этих мини-юбках. Лола, Анита, Тереса единодушно против мини-юбок. В таких вопросах они очень строги. Мини-юбка неприлична, к тому же женщину она не украшает. Что может быть прекраснее красивой, стройной испанки, затянутой в атлас и утопающей в кружевах? Долорес, более восприимчивая к веяниям времени, купила себе платье в горошек, выше колен. Один из ее друзей, марокканец, маляр, обозвал ее шлюхой. «Вот вам мужчины, — жалуется она. — Стоит только женщине хоть немного приобщиться к прогрессу… Мракобес!» Каких только развлечений нет у испанок из Марселя! В кино они смотрят лучшие испанские или мексиканские фильмы; хозяйки берут их с собой в Байонну на бой быков; в колбасных продается готовая паэлья. И само собой разумеется, когда живешь как у Христа за пазухой, да и знакомых хоть отбавляй, ничего не стоит найти своим детям отца.
— А что, дети у них тоже заводятся?
Конечно, в Париже это дело обычное. Но я думала, что в Марселе…
— Помилуйте! — возмущается Долорес. — Они такие же женщины, как вы и я.
Я интересуюсь, как живут в Марселе писатели. Долорес была бы рада и мне уделить хоть немного от своей мечты, но если честно, про писателей она мало чего знает.
Даниэль и поэзия
Каждый год в первых числах июля мы отбываем в Нормандию под грохот кастрюль — ничего не поделаешь, феномен их внепространственной транспортировки, известный в науке под названием «прокат», выявил свою полную несостоятельность (смотри главу о занавесках). Мы везем любимые книги, музыкальные инструменты, кошку, собаку, двенадцать кукол-голышей, везем даже перец, но забываем плащи и вилки. Не беда. Когда нам с Жаком осточертеет есть рис ложкой, мы бросим наших детей на зеленых лужайках и рванем в Париж, сладострастно ступим на асфальт, ринемся в первое попавшееся кино, потом (с острым чувством вины) в первый попавшийся ресторан и вернемся в Ге-де-ла-Шен поздно ночью с вилками и плащами, правда, без плаща Полины, который, как сообщает нам Долорес, висит в шкафу, чего мы никак не могли предположить. Нас с нетерпением поджидает Даниэль, и по его радостному, но серьезному лицу мы понимаем: свершилось. Он написал стихотворение, ежегодное стихотворение о деревне. Эти стихи — некий ритуальный акт, священнодействие. Резвый ветерок, гуляющий на Першских холмах, пробуждает у Даниэля вдохновение — пробуждает регулярно, но только один-единственный раз в году. Дух поэзии оставляет его до следующего лета.
— Так я прочту?
— Давай.
Легкий румянец на щеках, руки слегка дрожат — Даниэль читает свои стихи. Они всегда начинаются одинаково, что подчеркивает их ритуальный характер. «Утром, едва я пробуждаюсь…» — и засим следует описание красот природы, которые вызывают особенный восторг после нескончаемого учебного года. Даниэль превозносит чистоту воздуха, величественные очертания холмов, прелесть одиночества, птичьи трели; порой вставляет более приземленную деталь (звуковой фон в виде плюхающихся коровьих лепешек) или снисходит до голого практицизма (негодует по поводу ущерба, который вороны наносят только что засеянным полям, рассуждает об искусстве дойки коров), что выдает его приверженность фламандской школе. Размер не соблюдается, ассонансов больше, чем настоящих рифм. Даниэль долго волновался по этому поводу.
— Ты уверена, что это все-таки настоящие стихи?
— Совершенно уверена.
— А кто-нибудь еще так писал?
Я ссылаюсь на авторитеты — Аполлинер, Милош. Даниэль доволен. Значит, он в самом деле написал стихи, которые отвечают определенным правилам. Чистая лирика его не устраивает, ему нужен социальный резонанс. Он не просто пишет стихи, он вещает. Мне импонирует такое отношение к поэзии, так же как и полное отсутствие литературных претензий, ведь в течение года Даниэль не напишет больше ни слова. «Не вижу в том необходимости», — говорит он, как Талейран. А я вижу в этом преклонение перед таинством, бескорыстие, понимание важности и значения поэзии. Вижу склонность к созерцательности, благородный отказ от эксплуатации своего дара. Перед этим единственным творением Даниэля я даже чувствую себя несколько униженной своей каждодневной возней с рукописью, всеми этими переписываниями, переделками, творческими поисками. Даниэль перестал писать стихи, когда ему исполнилось пятнадцать. В тот же год он перестал посещать церковь. И то и другое огорчило меня почти в равной мере.
У Альберты тоже была пора поэтического взлета, более интенсивная и более короткая. Она длилась всего два месяца, ей в то время было пять лет. Это было устное творчество: писать она тогда еще не умела и просила меня записывать ее сочинения. Я по обыкновению работала у себя в комнате на втором этаже; услышав крик, высовывалась в окно: внизу стояла Альберта, подняв ко мне свое маленькое личико, в восхищении от собственного открытия:
— Мама! У меня опять стих получился!
* * *
Когда мы купили эту маленькую ферму в Нормандии («дом без всякой обстановки» — таким он и остается), я была тронута, увидев, что над входной дверью, маленькой и низкой, чья-то неизвестная рука начертала крест. Своего рода «добро пожаловать» — так принимал нас этот незнакомец, которого, может быть, уже не было в живых. Маленький крестик, нанесенный известью, постепенно почти совсем стерся, и в этом году я его подновила, использовав краску, оставшуюся на дне банки после ремонта в ванной. Я сделала это не раздумывая. Сомнения пришли потом: а может, это неуместно? Претенциозно? Ведь осталось так мало домов, на которых есть кресты. Словно хочешь сказать: вот божий дом, образцовая христианская обитель, зрелище, достойное восхищения, а ведь на самом деле это всего-навсего значит — «входите».
Но ничего не поделаешь. Дело сделано.
Молитва
— Вы молитесь за меня в церкви, Франсуаза? — спрашивает Долорес.
— Конечно. Я всегда это делаю.
— Как мило с вашей стороны. И я тоже, знаете, о вас не забываю. Когда я выхожу вечером «слегка проветриться», я думаю: бедняжка Франсуаза, одна в кровати с книжкой!
Продавец метелок
Его звали Роже, и было ему за пятьдесят, круглая голова северянина, глаза ярко-синие с притворно тупым выражением. Он появился однажды вечером, около пяти, с намерением продать мне метелки из перьев, которыми мы почти не пользуемся. Я вяло отказывалась.
— Да ведь я же сирота! — вскричал он с надрывом.
— Что ж, в вашем возрасте это неудивительно! — (В тот день у меня был приступ бессердечия.)
— Да, но я принимаю все так близко к сердцу…
Я купила одну метелку. Роковая покупка. Весь год мой дом был завален метелками всех цветов радуги. Коммерческая операция («у меня осталось всего три») чередовалась с дарами («не отказывайтесь, вы меня так огорчите, сочтемся когда-нибудь потом». Счет предъявлялся довольно быстро). Порой мой дом становился складом («оставляю вам свой товар, я очень скоро его заберу». Это «скоро» длилось иногда три-четыре дня, иногда десять минут). Метелки превращались в детские игрушки, разноцветными букетами украшали прихожую, заполоняли и так битком набитые шкафы. «Не забывайте время от времени прыскать их антимолью», — напоминал мне Роже. Я покорно прыскала. «Вы стали для меня матерью», — говорил мне мой сирота. Мне было тогда двадцать пять лет, и подобное материнство казалось мне несколько неожиданным и весьма обременительным. А потом Роже зачастил к нам, повел форменную осаду. Обнаружив, что в прихожей, примыкавшей к нашей спальне, удобно, чисто и тепло, он повадился там отсыпаться, когда оставался без крыши над головой: не долго думая, растягивался прямо на полу. Когда он впервые завел об этом разговор, я ничего не поняла: своим ласковым, протяжным, довольно хмельным голосом он рассказывал мне какую-то историю о полицейской облаве в маленькой гостинице, о том, что в суматохе пропали его ботинки, о патенте, который у него требовали и которого у него не было. Он говорил и говорил, как человек, для которого время давным-давно перестало существовать; так говорят, когда хотят любой ценой завоевать чье-то расположение; так говорят с полицейскими, с палачом, с Богом: тут и фамильярность, и страх, и хитрость, и детская доверчивость, и презрение. А глаза его с вожделением были устремлены на эти четыре-пять квадратных метров паркета, четыре-пять кубических метров тепла, безопасности, сна. «У вас здесь прелестная комнатка», — говорил он с каким-то робким бесстыдством. Или: «Как у вас тепло». Я было решила, что отделаюсь от него под предлогом, что у меня нет лишних одеял и матраса.
— О! Это не имеет значения.
— Подушки тоже нет.
— Да мне и не нужно, — сказал он, — мне не привыкать.
Больше возразить было нечего. Он улегся в прихожей на полу, в обнимку с бутылкой красного вина, поджал ноги, чтобы занимать поменьше места, и накрылся вместо одеяла своим пальто, задубевшим от грязи.
— Ну, если теперь к вам нагрянут воры, им придется пройти через мой труп, — сообщил он, сияя.
— У нас и красть-то особенно нечего, — заметил Жак.
— О! Всегда что-нибудь найдется.
Проходить мимо него ночью в ванную комнату, в одной пижаме, было довольно неудобно.
Невозможно было угадать заранее, когда он появится. То он проводил у нас три ночи подряд, то исчезал на несколько недель. В его жизни, словно окутанной плотной пеленой тумана, случались беды и радости, в равной мере необъяснимые. Его избивали полицейские, отбирали у него метелки, бросали в чаще непроходимого леса, откуда он чудом выбирался; его выгоняли из одной ночлежки и пускали в другую, он получал в подарок такое несметное количество старых пиджаков, что легко мог бы заняться торговлей. Но клошары обворовывали его. Он подарил Жаку слишком новую для него кепку. Мы долго хранили ее, потому что при каждом его визите нам приходилось ее предъявлять.
В конце концов его присутствие за тонкой перегородкой, отделявшей спальню от прихожей, превратилось для меня в пытку. И пока он, укрывшись пальто и подложив локоть под голову, храпел себе в свое удовольствие, словно лежа под каким-нибудь мостом, я глаз не могла сомкнуть. Всякий раз, когда он исчезал, я говорила себе, что больше этого не потерплю, что твердо дам ему это понять. Пыталась наставлять себя на путь истинный. Разве мой дом — ночлежка? Кто-нибудь из моих друзей стал бы терпеть такое? Да и на детей это может плохо повлиять: в нашей прихожей, прямо у них на глазах, валяется какой-то бродяга, от которого разит вином и потом… На самом-то деле детям было наплевать. Посели я у нас слона, они бы нашли его славным, и все тут.
А терпела я его не по доброте душевной, и не из-за ложно понятого чувства долга и уж никак не из симпатии к нему, а только потому, что представляла себе, как он примет свое изгнание — совершенно безропотно, точно так же, как без малейшей благодарности принимал наше гостеприимство. Он ко всему был готов, все мог стерпеть. Избитый полицейскими, избитый клошарами, он появлялся истерзанный, с синяком под глазом, но ничуть не грустный. «Они опять меня поколотили», — объявлял он чуть ли не с торжествующим видом. Он считал себя большим ловкачом, потому что ему удавалось выжить.
Все несчастья сыпались на него якобы из-за отсутствия патента. «Ах, если бы у меня был патент!» — восклицал он с таким видом, как говорят: «Ах, если бы у меня была вера!»
— Но, Роже, неужели нет никакого способа добыть его, этот патент?
— Чтобы получить патент, нужно где-то жить, чтобы где-то жить, нужно иметь деньги, а без патента…
— А если я одолжу вам…
Все деньги он пропивал в забегаловках Центрального рынка, пропивал спокойно, пил — точно сосал грудь, ласково, невинно, полуприкрыв глаза, с лицом младенца-великана. Я видела это собственными глазами как-то утром, когда покупала на рынке овощи. Он допивался до белой горячки. Тогда у него крали деньги и метелки. Как-то вечером, когда у меня в гостях была Дениза Бурде, на которую мне очень хотелось произвести хорошее впечатление, он во время десерта ворвался в столовую, весь обвешанный метелками, с сияющим лицом. И стал гвоздем программы.
Время от времени он ложился в больницу, на неделю, на десять дней. Я навещала его, приносила апельсины. Он лежал чистенький, розовый, свежий, как младенец, с аккуратно подоткнутым одеялом, очень довольный собой. Это были его каникулы, его Ривьера. Он любил обсуждать сравнительные достоинства больниц Кошэн, Труссо, Сальпетриер…
— Вам бы бросить пить, Роже…
— А что мне это даст, можете вы мне сказать?
Нет, этого я сказать ему не могла. Забегаловка, зарешеченные окна полицейских камер, доброта одних людей, грубость других, побои, дармовой суп, неожиданные подачки, койка в больнице — другой жизни он не знал. И что тут можно было поправить?
— Но ведь приступы эти, должно быть, очень мучительные?
— Чудовищные! Кончится тем, что я протяну ноги, говорит доктор…
Он произносил это с лучезарной улыбкой.
— Вас это не пугает?
— А что тут страшного? Одна паршивая минута — и все кончено.
Так он представлял себе и всю свою жизнь: паршивая минута, которую нужно перетерпеть. Думаю, в конце концов эта минута истекла: он вдруг исчез окончательно. Я еще долго потом раздумывала, испытывала ли я к нему симпатию?
Франка
Сюзанна, Мария, Консоласьон — нежнейшее из имен, Мари-Лу — фламандка, Гислена, Франка, Луизетта, Мари-Анж — в течение пятнадцати лет вы по очереди были моими подружками. А потом появились Кати и Долорес, они еще дороже моему сердцу. Когда вскакиваешь ни свет ни заря и вылетаешь из дома (сумрачным зимним утром приятно волнуют слух первые городские шумы, красивы тускло освещенные автобусы, спокойны кафе, где гарсон-марокканец, засучив рукава, поливает пол жавелевой водой или посыпает опилками… Потом все это переменится к худшему) и чувство у тебя такое, что тебе предстоит горы своротить, когда ты возвращаешься без сил, а на столе непрочитанная рукопись, телефон надрывается и хнычет больной ребенок, а вечером ты мечтаешь только об одном — поскорее вытянуть ноги на постели и дождаться рассвета, который вернет тебе силы, тогда женщина, которая окажется рядом с тобой, обязательно должна быть тебе другом. И потому мы с ними выбирали друг друга по взаимной симпатии, не придавая слишком большого значения хозяйственным способностям, с их стороны зачастую весьма спорным, или жалованью, более чем умеренному, — с моей. В этой системе можно найти много уязвимых мест. Но как прикажете жить в трехкомнатной квартире, да еще когда двери вечно распахнуты, с человеком, который тебе не симпатичен? Сюзанна несколько раз обручалась. Консоласьон, отправляясь погулять в город, надевала мои платья. Мария ждала ребенка. Мари-Лу вышла замуж, и мне пришлось поселить у себя ее мужа; у Гислены бывали нервные припадки; Луизетта ни с того ни с сего ушла от нас 15 августа; Мари-Анж исчезла с частью моей библиотеки; Франка пила. Но все они были добры, любили моих детей и многому меня научили. Все они принимали участие в моей работе, по-своему проявляли к ней интерес. Поэтому я считаю их моими самыми близкими подружками. «Сколько страниц сегодня?» — спрашивала Сюзанна. Мари-Анж: «А конец хороший?» Луизетта, хлопотунья и чистюля: «До чего у вас красивый почерк!» Долорес же окидывала меня одним оценивающим взглядом, сразу чувствовала, что я работаю через силу, без радости, без вдохновения, запутавшись в бесконечных «зачем» и «почему», бросала небрежно: «Я тоже сегодня что-то не очень», — и разом возвращала мне спокойствие духа, приравнивая мой труд к самой жизни.
Сюзанна уехала с мужем в Африку, Гислена и Женевьева устроились в парикмахерскую. Мария бросила работу. О Мари-Анж мне ничего не известно. Франка вернулась обратно на завод.
Я очень любила Франку, хотя вид у нее был довольно угрюмый, в сорок пять лет она уже выглядела старухой: тонкое увядшее лицо, жидкие волосы, прекрасные глаза, красивый, глубокий голос и полная внутренняя опустошенность, какая бывает у тех, кто на собственной шкуре испытал нищету и не в силах ее забыть. К нам она пришла с завода, спасаясь от страшного нервного напряжения, которое была уже не в состоянии выдержать. Она рассказывала о заводском труде — о невыносимой кабале, мелочной тирании, жестокости, рассказывала сдержанно и талантливо. С Франкой у нас началась эра клеенок, клеенки заполонили все, даже мой письменный стол покрылся клеенкой. Она была родом из Северной Италии, дочь шахтера. В кофе теперь добавлялся цикорий, смесь подолгу томилась на огне. Франка хлебнула и армейской службы — была маркитанткой при американских частях в Германии. Как ее угораздило туда попасть? Объяснить она не могла, только смотрела на нас со снисходительной жалостью, как на детей, которые думают, что могут распоряжаться собой, и не ведают, что они — игрушка в руках истории. Как и Роже, она очень мало верила в свободу воли, обстоятельства захлестывали ее, она отдавалась на их милость. У нее не было особых склонностей, пристрастий, желаний — на определенной стадии нищеты только такая аморфность и спасает. Мы сразу заметили, что Франка, спокойная и даже апатичная по утрам, когда она, усадив Венсана себе на колени, мечтательно смаковала кофе, к вечеру впадала в сильнейшее возбуждение. Она объясняла свое состояние мигренью. Мы в своей наивности долго принимали это за чистую монету, пока в один прекрасный день не попросили ее вынести к столу трехмесячную Полину и не увидели, как она шествует, покачиваясь, с ребенком на руках и ласково подбрасывает девочку (чтобы скрыть неловкость), перевернутую вверх ногами. Я испугалась последствий. Я умоляла ее бросить пить. Она прятала бутылки с ромом в ящике среди картошки, под матрасом, в корзине под бельем. К себе она относилась с таким же пренебрежением, как к фартукам, которые быстро бывали измяты, заляпаны, разодраны, — как к вещи, которая ей не принадлежит. Она никогда не отдыхала, не просила об отпуске. Воскресенья для нее не существовало, дни недели не имели названий. Лишь время от времени, изнуренная работой и пьянством, она просто не вставала с постели. Наступил день, когда мне пришлось сказать ей:
— Франка, или вы бросите пить, или нам придется расстаться.
Она повернула ко мне свое трагическое лицо, беспомощно пожала плечами.
— Франка, хотите, я найму кого-нибудь на несколько месяцев, а вас мы устроим в больницу, чтобы вы прошли курс лечения?
— Зачем? — проговорила она еле слышно.
— Но ведь у нас вам было хорошо, мы прекрасно ладили, вы привязались к детям…
Конечно, это так, словно говорил ее мрачный, безнадежный взгляд, но что значат все эти чувства по сравнению с потребностью забыться, исчезнуть, самоуничтожиться? Даже собственные чувства ей тоже не принадлежали. Нищета лишила ее всего, оставив лишь какую-то безликую доброту, смиренную жалость ко всему, — в своей обездоленности она даже внушала уважение. Она ушла от нас. Позднее я узнала, что, когда ее временный спутник поставил ей такой же ультиматум, она вот так же ни словом, ни жестом не попыталась его удержать. Да и как можно удерживать то, что не считаешь своим? Она стоит у меня перед глазами — словно изваяние из черного камня, забытое посреди пустыни, изъеденное эрозией. Чувства, желания, надежды — все кануло в песок. И только что-то трепетало внутри — может, это душа?
Доставая тарелки из буфета, Франка роняет одну, и та разбивается вдребезги.
— Франка! Осторожнее!
— Что такое тарелка? — говорит она со своей суровой кротостью.
Поначалу это кажется смешным. Потом становится не до смеха. Что такое жизнь, с таким же успехом могла бы она спросить. Ее жизнь? Она ценит ее так же мало, как эту тарелку. Чудовищно. Но если бы вдохнуть веру в эту загубленную, исковерканную жизнь, в этот остов — какое пламя бы вспыхнуло! И мало-помалу начинаешь завидовать ее отрешенности и ощущать рядом с ней свою материальность, свою приземленность, прикованность к вещам. Вот она моет посуду или стирает белье — полночь, настроение мечтательное, она слегка навеселе.
— Франка, вы мало спите.
— Ну и что? — отвечает она с искренним удивлением, и я не решаюсь сказать, что она и мне мешает спать. Ну и что?
Равнодушие
После Франки я стала размышлять о равнодушии. «Святое равнодушие» Франциска Сальского. Само слово поначалу обескураживает. Мы так привыкли путать веру с душевным порывом. Конечно, душевный порыв — это прекрасно… Но что дальше? Ясность вносит Жак одной случайной фразой: «Когда говорят, я был слишком добр, это значит, что ты был добр недостаточно». Если не рассчитываешь на благодарность, то по крайней мере хочешь видеть реальную отдачу. Ты одолжил деньги, убил время на утешения и советы, все так, но ты хочешь видеть плоды, конкретную пользу. Конкретную и ощутимую. Душевный порыв — это часто разновидность стяжательства.
Кошка
— Долорес, мне нужно с вами поговорить, — объявляет Жак в девятом часу вечера, когда Долорес уже предвкушает близкое освобождение.
Взволнованная и смущенная, она идет за ним в столовую. Жак редко вмешивается в домашние дела, но если уж вмешивается, то самым ошеломительным и непредсказуемым образом. Я в смятении; мы усаживаемся в столовой, выставив детей за дверь.
— Долорес, вы знаете, как я ценю вас, — с серьезным видом начинает Жак. — Вы человек организованный, вы добры, мы к вам очень привязаны…
Этот поток комплиментов еще больше усугубляет наше волнение. Что-то на нас надвигается.
— Но у всех у нас есть недостатки. Вы, приходится признать, бываете резковаты… иногда позволяете себе слишком сильные выражения…
Долорес вспыхивает. Мы вопросительно смотрим друг на друга. Кто доносчик? Полина? Альберта? Долорес наподдала как следует кому-то из них? Или пропесочила, не стесняясь в выражениях?
— И иногда, понимаете, вы можете больно задеть кого-то особо ранимого… к тому же вы часто повышаете голос.
— С детьми… — начинает Долорес.
— Кто из них?!. — одновременно восклицаю и я. Жак примирительно поднимает руку.
— Речь не о детях, — мягко говорит он. — Речь о кошке.
— О кошке?
Мы ошеломлены.
— Видите ли, Долорес, наша кошка начала гадить.
— Истинная правда, — горячо подхватывает Долорес. — Только вчера эта паршивка описала Полинины туфли.
— Так вот, Долорес, наша кошка, как бы это сказать, начала гадить с тех пор, как здесь появились вы.
На лице у Долорес неподдельное изумление. Я давлюсь в приступе неудержимого смеха.
— Кошка как человек. Ей нужна ласка. Я-то знаю, Долорес, что у вас золотое сердце, но Тэкси этого не знает. Надо дать ей возможность это понять. Вы пугаете ее своими криками, не даете поваляться на кровати, и вот неизбежный результат: у кошки появился комплекс.
— Мать честная! — В восклицании Долорес прорезывается акцент, в котором больше от Бельвиля, чем от Мадрида.
— Кошка страдает без ласки. Она хочет привлечь ваше внимание, хочет отомстить. Она начинает гадить.
Мысль о мщении нравится Долорес. Это понятие ей близко.
— Так это она мне хочет нагадить? — спрашивает Долорес.
— Именно. И вам надо…
Дети, сгрудившись в спальне, с жадностью подслушивают у двери; выходя, я чуть не сбиваю их с ног.
— Что случилось? Что она сделала?
— Папа устроил ей взбучку, — объясняет Полина с назидательным видом. Альберта очень бледна.
— Бедная Долорес!
— Нет-нет, папа вовсе ее не ругает, он просто кое-что ей объяснил.
— Что объяснил?
— Как вести себя с кошкой.
— А я вот тоже буду везде писать, — заявляет Венсан, который все понял, — и тогда она будет звать меня не паршивцем, а мсье.
— Тебе это доставит удовольствие? — спрашивает Полина.
— Ну, если не каждый день…
В столовой продолжается обсуждение. Долорес всегда готова пойти навстречу, стоит только воззвать к ее сердцу и разуму.
— А что такое комплекс, Жак?
Жак объясняет. Одиннадцать часов, я иду спать.
Долорес — кошке, развалившейся на разобранной постели:
— Брысь отсюда, паршивка!
И тотчас же:
— Ой! Извиняюсь! Спускайся, моя милая кошечка.
Мы переглядываемся. Сдерживаем улыбку. Дань уважения хозяину дома.
У Тэкси родился котенок. Всего один. Мы назвали его Йо-Йо. Тэкси перестала гадить. Долорес:
— А ведь правда, у нее был комплекс.
Она смотрит на Жака, как на чародея.
Произведения
Критика