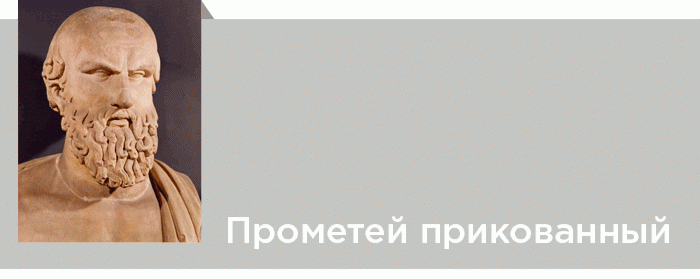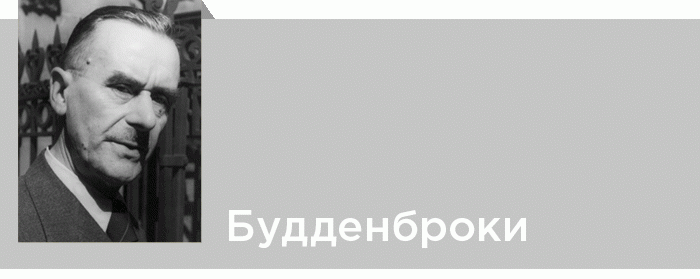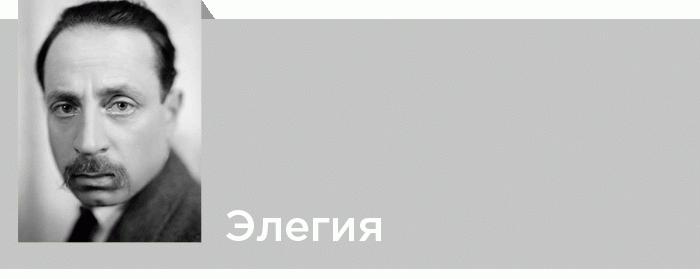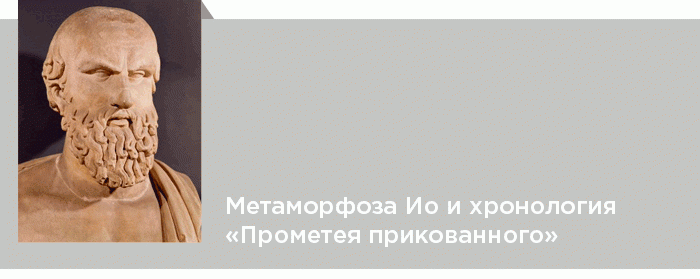Райнер Мария Рильке — поэт и мыслитель

Арвидас Шлёгерис
Есть художники, чью жизнь достаточно легко отделить от их творчества. Можно написать историю их творчества и, совершенно независимо, иную историю — их жизни. Таких большинство. Жизнь и творчество таких художников подобны текущим поодаль друг от друга рекам, временами соединяющимся подземными каналами и все же текущим отдельно, каждая по своему руслу. Как правило, эти художники живут полнокровной жизнью, в общем такой же, как и другие, далекие от творчества люди; у них есть биография, у них есть судьба. Однако — и это тоже как правило — не имеют ни биографии, ни судьбы их творения. Они умирают вместе со своими творцами. Почему? Вероятно, потому, что такой художник слишком много отдал жизни и слишком мало — творчеству. Живя на качелях, раскачивающихся между существованием и продуцированием, он — жертва (а может быть, и герой?) столь хорошо понимаемого и столь часто оправдываемого компромисса — склонен без колебаний полагать, что человеку даны силы и на то, и на другое. А между тем такие силы были даны немногим, да и то скорее лишь таким титанам, как Леонардо или Гете, и как знать, не в силу ли счастливой случайности им доставало сил и шить, и творить, как живут и творят боги. А что другие, другие творящие? Им значительно труднее — ведь возможности смертных ограничены, и зачастую они вынуждены выбирать: или творчество, или жизнь. За тех же, кто не сумел сделать выбор сам, выбирает жизнь. Почти всегда — в свою пользу. Вот почему жизнь — эта стихия временности — помечала печатью временности и их творчество.
Есть художники — и таких меньшинство, — не имеющие своей биографии; их биография совпадает с историей их творчества. Возможно, что они, как люди, даже и не имеют своей судьбы. Однако имеют судьбу их творения. Вся их жизнь до малейших подробностей связана с созданными ими произведениями искусства. Они не несут в себе ничего субъективного, все в них и их существовании объективированно и объективно. Личное, исключительно субъективное не имеет значения ни для них самих, ни для нас, ибо человек всегда и везде ценился и ценится лишь в той степени, в какой он способен преодолеть свою индивидуальность, оригинальность и быть объективным. Лишь тогда его индивидуальность отмечена высочайшей пробой — печатью всеобщего. Что бы ни говорили экзистенциалисты сартровского толка, для подлинного творца сущность всегда выше существования. В этом случае художник выбирает творчество и жертвует жизнью. Он постоянно в пути, и этот путь каждым своим жизненным мгновением сопряжен с творением. Все прочее — несущественно. Все прочее — лишь декорации.
Таким был Райнер Мария Рильке — человек без биографии и поэт, чьи творения имеют историю и судьбу. По достижении девизом Рильке, записанным в сокровеннейшем уголке души, стали слова: быть объективным. Это значит: преодолеть чувствительность, гипертрофированную субъективность, самокопание в переживаниях, туманные претензии «выразить себя» за счет деформации объективного мира, преодолеть воспетую еще романтиками и реалистами иронию, культ гения и прочие идолы субъективистской и психологистской эпохи. Это значит: творец как человек — ничто, творение как вещь — все. Это значит: видеть и создавать сами вещи, быть не гением, а ремесленником. Это был императив великого стиля, императив классического искусства. Но осуществить его в том неясном, расколотом, хаотичном, туманном, сецессионном времени, в котором выпало жить Рильке, было непросто. Эпоха Рильке почитала чувство, переживание, гениальное вдохновение, субъективность, психологические подробности, неясность, полутона, приблизительность, сумерки, витальность, бесформенную силу, столь же бесформенную жизнь, эпоха чтила неопределенность, духовный пуризм, импрессионистские мерцания, а Рильке всему этому противопоставил идеал классической эпохи и искусства: быть объективным, быть рациональным, быть таким же ясным и простым, как пение жаворонка. Осуществить антидекадентский идеал в декадентскую эпоху было если и не невероятным, то уж во всяком случае невероятно трудным. И многие из тех, кто хорошо знаком с творчеством Рильке, могут усомниться, а удалось ли ему выполнить свои намерения. Взять хотя бы только записки Бригге — разве это не похороны призрачных надежд возвращения в классику? Такой идеал подобен объявлению войны ветряным мельницам. В этом смысле Рильке – Дон Кихот от поэзии. И тем большая честь ему, не убоявшемуся этой войны. Ведь гораздо важнее — не осуществить идеал, а следовать ему любой ценой, невзирая ни на что. Уж чего-чего, а донкихотствующего (в высоком смысле) упорства Рильке было не занимать. Быть объективным, создать такое художественное произведение, которое было бы совершенно независимым от творца, которое даже отрицало бы творца, которому в конце концов творец столь же не нужен, как, вероятно, миру не нужен сотворивший его Бог. Создать Kirnst Ding, предмет искусства, располагающийся в абсолютно прозрачном пространстве в-себе и для-себя бытия. По мысли Рильке: создать такую вещь, которая не казалась бы, а была бы. А такой вещью и является произведение искусства — картина, скульптура, архитектурное сооружение или стихотворение. Оно должно быть столь же основательным, столь же в себе обособленным, столь же «твердым», ясным и простым, как парменидовский sfaira. Потому-то не человек с его душевной податливостью, чувственной неопределенностью и протеической наследственностью, а вещь была поэтическим и философским ориентиром Рильке. Gesang ist Dasein — песнь есть бытие — в этих словах Рильке нет никакой мистики, никакой двусмысленности. Здесь просто говорится о том, что песнь есть бытие столь же прочное, ясное, устойчивое, как вещь.
Для поверхностного взгляда поэзия Рильке трудна и сложна, а кое-кто может добавить — элитарна, подобно, скажем, поэзии Эзры Паунда или Томаса Элиота. Однако такое суждение — несостоятельно, и, я бы сказал злее — инфантильно. Глубина его стихотворения — а ведь глубина стихотворения, как и любого другого произведения искусства, вся, целиком распределена на поверхности — крайне проста. Однако поразмыслим над теми путями, которыми шел Рильке к этой прямо-таки кристальной простоте. Требовалось пробиться сквозь непроходимые дебри рафинированной, пресытившейся культурой эпохи, низвергнуть горы слов и идей глупцов и мудрецов, перекачать океан речений. Иначе говоря, требовалось сдержать натиск громадного массива предыдущей культуры, свести всю западноевропейскую культурную традицию к простейшим вещам, к таким, о которых может быть ведомо и крестьянину, и ребенку, и влюбленным, и беременной женщине — и более никому. Но те ведающие — немы, потому и сродни несведущим. А Рильке требовалось все это высказать. И вот еще что: весь этот культурный и речевой массив следовало не просто стереть или же умышленно не заметить, уподобившись моторизованному варвару. Это слишком легко, и не таков путь Рильке. Этот массив следовало разрыхлить, размягчить, а затем снова стиснуть до границ самой совершенной, наименьшей и простейшей формы. Требовалось отбрасывать, ничего не отметая, уничтожать, все сохраняя.
Можно себе вообразить, какой серьезной работой (именно работой, именно ремеслом) была для Рильке поэзия, даже если бы он сам ничего не писал об этом в своих письмах. Он столь же сосредоточенно шел к письменному столу, как жрец — к жертвеннику, он выводил слово подобно тому, как крестьянин — первую борозду: она должна быть прямой, не слишком глубокой и не слишком мелкой, она должна быть такой-то и такой-то, и не иной. Можно тысячей вариантов расположить слова в стихотворении, но лишь один, только один абсолютно необходим: тот, что менее всего зависим от своеволия поэта, его чувства, настроения, переживаний, тот, что наименее субъективен и наиболее объективен, а следовательно, — и наиболее всеобщ. Можно себе вообразить, какой страх овладевал поэтом при обозрении множества вариантов расположения слов. Тысячи блуждающих троп и среди них только одна верная, ведущая к простейшей и объективнейшей форме. Ни грана своеволия и только чуть-чуть свободы, да и то только вначале, а затем — необходимое, неообходимое и еще раз необходимое. Стихотворение должно быть настолько совершенным, словно оно вышло не из души простого смертного, а из рук самого демиурга: совершенным, как дерево, как линия холма, как грудь женщины, совершенным, как сама природа и ее творения. Для Рильке это значило то же, что и для старых мастеров: подражать природе. Но значило и больше: создать такую вещь, которая была бы совершеннее природных вещей.
Рильке свято верил, что художник, созидающий подлинное Kunst Ding (прообразом такого художника для него был Роден), творит не «вторую действительность, а действительность вообще, бытие par excellence. То, что мы слишком обще и нёопределенно именуем действительностью, реальностью, бытием, вещами или жизнью, в представлении Рильке было не более, чем видимостью, мечущейся в вихре времени, относительности, изменчивости и истребления. И такая видимость вызывала у него беспокойство именно в силу своей недостаточной реальности, незаконченности, именно в силу недостаточной интенсивности своего существования. Все — только однажды, только раз, и более — никогда, — жаловался поэт. Но в каких вещах, может быть, в тех вещах, над которыми размышляли великие метафизики и которым поклонялись христиане, вещах, пребывающих в трансцендентном пространстве? Нет, ни в коем случае. Hiersein ist herrlich — все здешнее прекрасно; Hier ist des Saglichen, hier seine Heimat — здесь повествующее время, здесь — его родина, — утверждает Рильке в своих элегиях. Значит, здесь, в вещах этого мира следует искать подлинное бытие. Однако еще раз: в каких вещах? Напомним, все то, что мы слишком обще и неопределенно именуем вещами, в представлении Рильке недостаточно воплощает бытие. Бытие следовало искать в обособленных вещах и в том обособлении их от анонимной всеобщности и бесконечных контекстов, которое может иметь только вещь, особо отличаемая самим человеком. Такой вещью и является Kunst Ding, произведение искусства. Поэтому высочайшая задача поэта на этой земле, о которой говорит Рильке в Девятой Дуинской элегии, его великая миссия — воспевать вещи, такие обычные, как дом, мост, колодец, кувшин, дерево, окно, колонна, башня. Воспевание вещей превращает их в предметы искусства, их обособляет и делает «смертными». Видимость и временность чувственнно воспринимаемой вещи превращаются в незримость и вечность ее поэтического эквивалента. Потому-то поэт и говорит в одном из своих писем, что мы — пчелы незримости, мы собираем мед видимого мира и уносим его в улья незримости. В тех ульях хранятся прообразы вечных вещей; здесь чувственно воспринимаемая реальность, не теряя своей чувственной индивидуальности, освобождалась от оков временности и передавалась стражам вечности. Это знаменитые рильковские ангелы, парящие в пространстве «Дуинских элегий». Ангелы — пестуны и хранители бытия вещей. А что до поэта, то он в этом мире выполняет работу, в ином мире предназначенную ангелу. Поэт славит вещи, славит бытие чувственного мира, говоря гордое «нет» захирению и фуриям времени.
Откуда у Рильке это особое («обособленное») внимание к вещам, вещественности, бытию вещей? Ответ дает сам поэт: мы живем в эпоху, которая безжалостно уничтожает вещи, разрушает красоту чувственного мира, обедняет его предметно-индивидуализированное разнообразие; мы жием в эпоху, чей метафизический центр все более смещается в сторону сверхчувственного, невидимого, для чего уже невозможно подыскать чувственно-предметный эквивалент; мы живем в беспредметности, в стихии абстрактных смыслов и чистых отношений. Пусты все разговоры по поводу опредмечивания человека. Рильке был убежден, что наша технологическая эпоха представляет роковое время распредмеченного человека. «И вот из Америки к нам ворвались пустые, сомнительные вещи, вещи-призраки, суррогаты бытия... Одушевленные, вошедшие в нашу жизнь, сдружившиеся с нами вещи исчезают, и уже ничего нельзя изменить... Возможно, мы — последние, кто видел такие вещи», — писал поэт. Эти слова могут быть отнесены к пророческим. Прошло чуть более полувека со дня его смерти, как работа по уничтожению обособленных вещей продвинулась столь далеко, а человеческая жизнь до такой степени распредметилась и исполнилась отвлеченностью, что ныне поэтическая и общечеловеческая озабоченность Рильке обернулась технической проблемой, которую пытается решать, да никак не может разрешить огромная армия «специалистов по человеческим душам». И вряд ли разрешит, ибо эти «специалисты» поглощены вниманием только к человеку, к поискам его приспособления к беспредметному, утратившему онтологическую весомость миру, в котором, согласно Рильке, господствует «безобразное действие». А между тем человеку нужен партнер по онтологическому диалогу, нужно внечеловеческое бытие, и носителями такого бытия, его местом могут быть только вещи и ничто другое. Но вещей, которые желал восславить Рильке, уже не было, они покинули жизненное пространство человека, перекочевав в музеи, эти кладбища вещей. Осмысливая наследство Родена — художника, создававшего обособленные вещи, Рильке приходит к выводу, что подобным вещам в новом мире попросту нет места, им некуда деться. «Однако эта пластика родилась в эпоху, утратившую вещи, утратившую дома, утратившую внешнее. Ведь внутренний мир, созданный этой эпохой, не имеет формы и неощутим: он течет», — говорит поэт. Это самое важное: технологическая эпоха утратила форму, как внутреннюю, так и внешнюю. Таков печальный вывод, с которым, увы, хотя бы частично приходится согласиться.
Однако Рильке не был пессимистом. Одновременно с ним Освальд Шпенглер, основываясь на той же констатации бесформенности современного мира, провозглашал закат Западной культуры, конец подлинной истории. Рильке же между тем в своей поэзии славил новое начало, веря в возможность возвращения к простоте, не имеющей ничего общего с варварством: он провозглашал верность новой (и весьма старой) форме, не имеющей ничего общего с формализмом. В самом деле возвращение к объективности, к бытию и простоте вещей означало не что иное, как требование реставрации формы как принципа жизнеутверждения и творчества, с одной стороны, и как существенного элемента художественной выразительности — с другой. То, чего все более и более недоставало всевозможным «модернизмам», было формой, столь, казалось бы, элементарной и простой вещью, но без которой вообще не может существовать никакое искусство. Правда, еще никогда не говорилось столь много о форме, как во времена Рильке, в эпоху бесформенности и внутреннего хаоса. Но Рильке хорошо усвоил, что времена бесформенности порождают не форму, а формализм, не стиль, а манерность. И причина всего этого формализма и манерности заключается в повороте к чистой субъективности, когда за спиной остается объективный мир с его предметно-стабильными формами. Рильке хорошо осознал, что углубленная в себя душа, отвращающаяся от вещей, надеющаяся из своей так называемой глубины извлечь форму, обречена на хаос, неподвластное волнение чувств и переживаний, неопределенность, а значит, и на бесформенность. А объективизация бесформенности порождает только формализм, только манерность. Верность рильковского наития подтвердило дальнейшее развитие пластического искусства, приведшее к абстракционизму и другим проявлениям формализма и манерности.
Таким образом, чтобы вернуться к предметной простоте и объективности, Рильке требовалось восстановить принцип формы. Было ли это легко? Чтобы написать классически непритязательные; сильные и; я бы сказал мужественные «Сонеты к Орфею» и подчиненные ясной мысли «Дуинские элегии», Рильке должен был пройти чистилище «Бригге», испробовать все искушения дряблого декадентства — чувствительность жеманства, упоение импрессионистскими красотами, интеллектуальные пуризм и культуризм, самокопание в переживаниях и эмоциях. Весь путь, который он прошел от первого (и по собственному признанию — безнадежного) стихотворения до «Дуинских элегий» был для него, как для поэта и мыслителя, путем крещения, очищения и, наконец, мужания. Да, мужания, ибо в душе Рильке много было и от хрупкого женского начала. Главное для него составляло преодоление, говоря его же словами, «поверхностного лиризма», культа чувства и переживания, столь популярных в эпоху гипертрофированной субъективности. Главное составляло понимание, что чувства и переживания, ставшие самоцелью, для художника то же, что для женщины бесплодность чрева. Чувства не открывают бытия и напора предметного мира, чувства не зрят определенности данного мира, его разнообразил и могущество всебестояния, которое мы и называем объективностью. Источник чувства — бездействие, пассивное общение людей, вселенная беспредметных человеческих; отношений. Предметное, скажем, деловое отношение человека к человеку является бесчувственным, как, впрочем, и деловое (предметно-творческое) отношение человека к природе. Чувства и переживания стихия не творчества, а потребления, его составная часть. Когда встречаются два настоящих художника, они говорят о вещах, о «деле», о том, что создают. Как только встречаются два потребителя, объектом общения становятся чувства и переживания, которые всегда сопутствуют акту потребления. Творец видит вещи и говорит о вещах. Потребитель «видит» вкус вещей, то есть только себя, и потому говорит о своих «переживаниях». Но когда творец начинает говорить (или же изображать, выражать словами) о чувствах, он, сам того не подозревая, оказывается в стерильной ситуации потребителя. Созидая, он потребляет, а потребляя, созидает. Но, как уже говорилось, творчество, рождающееся из чувства, из императива «выразить себя», — бесплодно. Это хорошо понимал Рильке. Поэтому, еще не перешагнув тридцатилетнего рубежа, он объявил войну чувствам и в дальнейшем старался отмежеваться в своей поэзии от всякого сугубо личного «переживания», от всякой субъективности, чей удел — замкнутость и отгороженность от мира и всеобщности.
Вот почему подлинный источник поэзии Рильке, который был им найден в результате настойчивого, целеустремленного поиска, — не чувства, не переживания, а то, что я назвал бы зрящим и видящим опытом. Увидеть мир не сквозь чувственно запотевшие очки субъективности, а непосредственным, открытым, смелым, разумным взором. Увидеть мир настолько просто и ясно, чтобы эту ясность можно было назвать истиной, то есть, чтобы эта ясность была в одинаковой степени понятной и простой не только тому, кто говорит, но и тому, кто внемлет, — такова была максима зрелого Рильке. Той же максимой руководствовались и великие мыслители Запада, так что Рильке, стремившийся к объективности и ясности, занял место в одном ряду с ними не только как поэт, но и как мыслитель, не только как литературный преемник Гете или Сервантеса, но и как философский наследник Аристотеля или Декарта. Стало быть, смотреть на мир надо просто и ясно. Но сколь это легко и просто? Быть объективным, зреть вещи такими, какими они являются сами по себе, а не такими, какими мы желали бы или не желали их видеть; показать голые вещи, сомнительные для наших чувств и даже по отношению к нашему существованию, чуждые, далекие, без маски человеческих смыслов, которыми мы их украшаем, приближаем, очеловечиваем; показать, что эти вещи пребывают в себе и живут для себя, что они в конце концов — бессмысленны и что в этой бессмысленности бытия вещей заключено то, что мы называем красотой. Итак, быть объективным: просто ли это? Увы, это необыкновенно сложно, ведь нам не обойтись без «тепла», «понимания», везде мы желаем видеть себя, любоваться собой, везде желаем видеть следы своего пребывания, везде — комплименты в адрес своего — человеческого — бытия. Мы желали бы обратить вещи в душевное зерцало и, всматриваясь в него, желали бы видеть — и видим — исключительно себя, только отражение своих чувств и жизнедеятельности. Так мы бесчестим вещи, лишаем их не только права на существование, но и элементарного права на Обнаружение себя. Мы желали бы отнять и присвоить не только сущность, не только глубину, но и зримую наличность вещей. Потому так трудно зреть сами вещи, еще труднее обратить на них внимание тех. кто просто игнорирует их сущностное бытие. Рильке взялся за этот нелегкий и неблагодарный труд: показать сами вещи, высказать их бытие. Но показ самих вещей означает показ самой красоты, ведь красота скрывается отнюдь не в человеческой душе, не в ее экзистенциальных глубинах. Красота заключается в самих вещах. Она тождественна бытию вещей. Согласно Рильке, художник не творит и не может сотворить красоту; он лишь создает условия для ее обнаружения. А эти условия он создает либо обособляя вещь в качестве феномена бытия, либо показывая бытие самой вещи. Однако сколь трудно обособить или показать бытие вещи тому, кто видит кругом лишь человека и человеческие смыслы.
Пытаясь высказать бытие вещей, зрелый Рильке ориентировал свою поэзию в направлении пластической организации слова. Опять же, идя против течения, он желал не воспевать, а изображать словами, не переставая при этом сокрушаться, что скульптору или живописцу значительно легче показывать предметную очерченность и красоту мира. Его, как поэта, влекло к пластическому искусству. Поэтому совсем неслучайно Рильке не любил музыку и ориентированную на музыкальные каноны поэзию. Не думаю, что он не любил слушать музыку, однако совершенно очевидно, что он не любил ее метафизическую природу, усматривая в ней нечто антихудожественное и даже — значительно важнее — нечто антивещественное. Если произведение искусства для него было прежде всего вещью, запечатленной в самой определенной и строгой форме, то музыка оказывалась по ту сторону всех определений предметов искусства как феноменов бытия. Ведь музыка — не только беспредметна, но и распредмечивающа, ибо ее стихией является время (антипод предметного бытия), а кроме того, она уводит человека от вещного объекта и погружает в хаос неопределенных душевных вибраций. Конечное назначение музьгки — пробуждать чувства, держать в напряжении внутренний мир, оттенять пустую субъективность, наделять ее некоторым содержанием без формы. Потому музыка столь удалена от бытия вещей и вещного бытия. Музыка — это стихия чистого отношения, это один из многочисленных способов, изобретенных человеком, для преодоления противостояния объекта и субъекта, слияния с беспредметной псевдореальностью. Если предметное произведение искусства (рильковское Kunst Ding) создает место бытия, то музыка это место вновь заполняет небытием. Вещь — ближе всех к бытию, музыка — дальше всех от него. Поэтому музыку Рильке именует порою «противоположностью искусства», «искусом бегства от мира» и т. п. Поэтому рильковский принцип поэзии противопоставлен музыкальному, и с этой точки зрения поэт противостоит тенденциям и склонностям эпохи. Установленный романтиками, освященный именами Шопенгауэра, Вагнера, Ницше культ музыки как высшей формы искусства достиг во времена Рильке своего апогея и победно шествовал дальше, вплоть до наших дней. И поныне мы живем в музыкальной эпохе. Так что решительное «нет», сказанное Рильке музыкальному слиянию человека с реальностью, является одним из отличительнейших знаков его художественного и философского нонконформизма.
Вот почему мы можем сказать, что, невзирая на необыкновенную популярность поэзии Рильке, невзирая на почти безусловное признание современниками, он как поэт и мыслитель стоял как бы в стороне от своей эпохи, а если быть точным, пребывал в состоянии своеобразного бунта против современного ему мира. Люди, подобные Рильке или его alter ego французскому художнику Сезанну, напоминают нам императора агонизирующего Рима Юлиана, прозванного его противниками Отступником. Юлиан был из той породы людей, которые всегда идут против течения: во времена торжества церкви он затеял безнадежное дело по реставрации языческого культа античных богов. К таким людям принадлежали и Сезанн, и Рильке. Я бы их назвал людьми заката, но вместе с тем — и людьми, верящими, что закат — это пролог нового восхода. Это были люди, поистине плывшие против мощного течения исторической необходимости, постоянно бросавшие гордое «нет» так называемой объективной логике событий и фактов, люди, не желавшие примириться с тем, что существует и что неизбежно. Классики по самой своей природе, они волею судеб оказались заброшенными в неклассическую эпоху; герои, они погрузились в ил негероического времени; прозорливые, они стремились прозреть сумерки; почитавшие свет, солнце, день, они на каждом шагу сталкивались с идолами полусвета и демонами ночи. Они любили день, его лучезарность, контрастность, ясные контуры, а между тем жили среди невиданной неопределенности, бесформенности и тьмы. Поверхностно обозретая прожитая ими жизнь может показаться тщетной, ибо историческая необходимость побеждала всегда и везде: Римская империя все равно осталась христианской, послерильковская поэзия предалась чувствам и переживаниям, послесезановская живопись соскользнула в полную бесформенность. Однако на века осталось упорство этих людей, их гордое «все равно», «невзирая ни на что», в которых постоянно обновляется человеческое стремление преодолеть хаос мира, восстановить постоянно нарушаемую гармонию вещей и души, любой ценой сохранить то, что греки называли космосом — этим пристанищем умиротворенного человеческого бытия.
Л-ра: Вильнюс. – 1992. – № 9. – С. 162-169.
Произведения
Критика