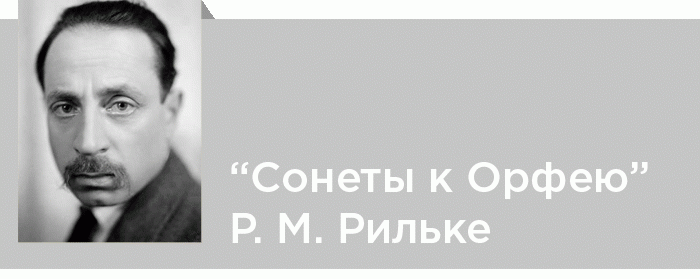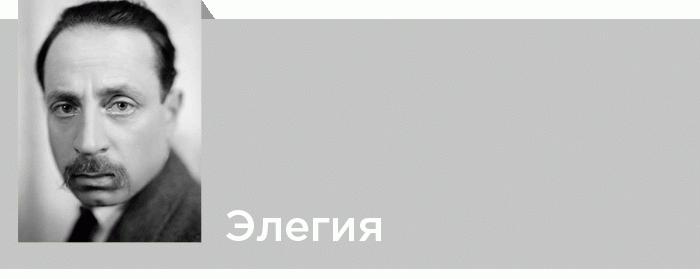О собирательности слова у Рильке

Н. С. Павлова
В статье рассматриваются слова, часто встречающиеся в стихотворениях Райнера Марии Рильке, роль повторов и амбивалентности слов. В статье показано, что концепт слова как такового был изначально присущ произведениям Рильке и, сталкивая значения слов и их денотаты, автор пытается постичь место Человека во Вселенной.
Ключевые слова: Рильке; слово.
Мартин Хайдеггер назвал Рильке поэтом «разверстым»: с трагической силой Рильке воспринял разрывы на тот мир и этот, на жизнь и смерть, смысл и реальность человеческого существования. Но есть в его поэзии начало, разверстость преодолевающее. Это ее язык.
Нет полного словаря Рильке, но очевидно, что он не отличался бы разнообразием. Богатство этого языка не в количестве слов, а в их многослойности, их поэтическом употреблении.
Делались многочисленные попытки определить своеобразие языка Рильке. Эгон Холтхузен выделял значение отдельных частей речи, настаивая на роли существительных. Август Шталь с основанием говорил об особом смысле у Рильке условного наклонения. Но своеобразие этого языка в слове как таковом и его «поведении» в тексте. Вновь и вновь возникавшей задачей, по-разному решавшейся поэтом в разные годы, было соединение внутреннего и безграничности внешнего мира - Innenwelt и Aussenwelt. Слово играло при этом особую роль.
Рильке начинал в эпоху символизма. Ему была более чем близка символистская идея всеединства. Не только крупные произведения и книги стихов, но и отдельные стихотворения разного времени воссоздают у Рильке образ мира. Импрессионизм был для него, как для Блока «импрессионизмом вечности». Уже в ранних лирических стихах он видел в одном и том же предмете и обозначающем его слове, параллели к другому и третьему. «В единичном, даже если оно твердо очерчено, то есть ограничено и конечно, узнается множество взглядов в сторону (Hinblicke), полная сумма которых только и представляет полноту единичного, до которой мы никогда бы не добрались». Голос великого лирика слышен даже в «объективных» по намерению «стихах-предметах» (Ding-Gedichte из «Новых стихотворений» - «Neue Gedichte», 1907), сыгравших огромную роль в движении его слов к богатству, сжатости и конкретной вещности, - и в абсолютной свободе поэтической формы (анжамбеманы, синтезирующая звукопись, игра рифм). «Строительными блоками его искусства являются слова, а целью является поэзия, разрешающая явление полного значения “образа” лишь из точно, вручную вотканных семантических, звуковых и ритмических данных языкового материала»6. Но его поэзия и тут не только «предметна»: изощренной игрой соединены объективность и лирика.
«Сонеты к Орфею» («Sonetten an Orpheus», 1923) и «Дуинские элегии» («Duineser Elegien», в том же 1923 г.) - две вершины творчества Рильке. Но характер слова различен, хотя и отличается важнейшей для Рильке собирательностью. Поэтической темой «Сонетам к Орфею» стала бесконечная подвижность жизни. Задача определила слово.
В книге, посвященной «Сонетам», Анетта Герок-Рейтер писала о значении повторов. Она пришла к выводу, что повторы здесь не столько риторическая фигура - важна их «генерирующая сила». Исходный импульс автора - «в намерении форсировать внутреннюю динамику языка». Видоизменяясь, повторы движут стихотворение. Такое понимание языка проявилось у Рильке уже в «Часослове» («Sunden=Buch», 1905). Но особенно очевидно оно именно в «Сонетах к Орфею», запечатлевших силу творящего жизнь бога.
Генерирующая задача повторов очевидна в тринадцатом стихотворении из второй части «Сонетов»: «Опережай любое прощание, будто оно позади тебя, как зима, которая сейчас на дворе...» («Sei allem Abschied voran, als waere er hinter dir, wie der Winter, der eben gеht...»). Слово «зима» поддержано в сонете не тексте не только его повторением в разных модификациях, но и однокоренным деепричастием - ueberwinternd, «перезимовывая». Дальше, с опорой на появившуюся в этом слове приставку ueber со значением преодоления в ее корне возникает «почти повторение» - слово с такой же приставкой, сходное по звучанию (пароним), но с гораздо более широким смыслом - ueberwinden - «преодолевать».
Дело, однако, не в одних повторах, но в не менее важной для Рильке генерирующей силе самого слова. Слова у Рильке связаны не столько с предметом или понятием, сколько в гораздо большей степени с идеей, которую слово несет в себе. Слово у Рильке - это «внутреннее слово» (А. Потебня), содержащее мысль предмета о самом себе, его платоновскую «идею».
Возникают, таким образом, две силы: не только направляющая воля автора, но и энергия самого слова. Слово «зима» содержит в себе со времен барокко значение уничтожения и смерти. И у Рильке читаем: «Ведь между зимами есть зима столь бесконечно зимняя, / что, перезимовав, твое сердце преодолеет все» («Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter|dass ueberwinternd, dein Herz ueberhaupt uebersteht»).
Что же подлежит преодолению?
Речь в стихотворении идет не о «преодолении» зимы, но о преодолении невозможном, трагическом. Сходятся слова Winter, ueberwinternd, uebersteht - «зима», «перезимовать», «преодолеет». Их схождение поддержано еще одним словом со значением всеобщности и с той же смыслонесущей приставкой ueber - ueberhaupt - «вообще». В контексте идей Рильке это означает преодоление границы, соединение в себе жизни и смерти - «sei immer tot in Eurydike...» («Будь мертв всегда в Эвридике...»).
В стихотворении, написанном 28 января 1922 г., то есть непосредственно перед рождением «Сонетов к Орфею», Рильке говорил о двойном истоке поэзии:
Пока ты ловишь мяч, что сам бросаешь, все дело в ловкости и череде удач.
Но если ты с Извечностью играешь, которая тебе бросает мяч, и с точностью замысленный бросок тебе направлен прямо в средостенье всей сути - так мосты наводит Бог, - то совершается предназначенье - но мира - не твое.
Solang du Selbstgeworfenes faengst, ist alle Geschicklichkeit und laesslicher Gewinn; erst wenn du ploetzlich Faenger wirst des Balles, den eine ewige Mit-Spielerin dir zuwarf, deiner Mitte, in genau gekonntem Schwung, in einer jener Bogen aus Gottes grossem Bruecken-Bau: erst dann ist Fangen-Koennen ein Vermoegen, - nicht deines, einer Welt.
В третьем стихотворении первой части «Сонетов к Орфею» речь и идет о задаче поэзии, названной здесь, согласно архаическим представлениям, «пением»: «Пение - это бытие» («Gesang ist Dasein»). Поэзия, значит, должна пониматься как высказывание самого бытия. Единство пения и бытия доказано звукописью: «Gesang ist Dasein» - почти тождество, разнятся немногие звуки. Перед нами нерушимая формула, почти что требование. Но не таков закон словоупотребления Рильке.
Сонет о пении и бытии, восхваляющий первым же словом божественного Орфея, обращен к человеку и поэту:
Бог смог. Но как, скажи мне, должен человек следовать за ним сквозь узкую лиру?
Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier?
Твердая формула «Пение - это бытие» оспаривается. Возникает, и
это принципиально для Рильке, другое понимание «пения»: «Это не то, юноша, кого ты любишь, хотя голос тебе разверзает рот...» (Dies ists nicht, Juengling, das du liebst, wenn auch die Stimme dann den Mund dir aufstoest). «Лира» - ключевое для сонетов слово - соединяется со словом «узкая». Лира - «игольное ушко» между двумя мирами. Бытие, как пение, должно быть, по Рильке, свободно от любой заинтересованности, бескорыстно, как не может быть бескорыстна даже любовная песня. Пение не равно бытию. Пение это «дуновение вокруг пустоты. Веяние в Боге. Ветер» (Ein Hauch um nichts. Ein Wehn um Gott. Ein Wind). И все-таки это стихотворение и о человеческой возможности сбыться: «Когда же мы существуем?» (Wann aber sind wir?).
Одно и то же слово - Gesang - в одном и том же стихотворении включает в себя несовместимое. Несовместимости сосуществуют, как сосуществуют мир человеческий и мир горний. Жизнь увидена не в опровергающих друг друга противоречиях (слишком простой для Рильке взгляд), а в совместности несходящегося.
Сами слова ведут тему книги. Как было замечено о романе Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910), «роль организатора текста отдана слову». Именно так! Это и определяет важную функцию слова у Рильке как в прозе, так и в поэзии. Ключевые слова развивают в «Сонетах к Орфею» главные мотивы книги: становление и исход, движение и статика, внутреннее и внешнее, жизнь и смерть. При этом особого внимания требует момент перехода от одного мотива к другому, от слова к слову, выявленного уподоблениями и метафорами, виртуозной у Рильке звукописью, явными именно в таких местах нарушениями синтаксиса и т.д. Переход от всемогущества бога к человеку обозначен, к примеру, в разобранном выше сонете о пении как бытии заменой дифтонга ei на гласный i все в том же сочетании с s: Dasein, sein, но dies, ist, nichts (что получится, если прочесть три последние слова без разделяющих их запятых?!).
Загадочно начало стихотворения, открывающего «Сонеты к Орфею»: «Da stieg ein Baum.O reine Uebersteigung! // O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr!». «Da» - необязательное слово, дейксис, указательное местоимение, означающее «тут», «там», «здесь», «тогда», когда», то есть некую неопределенность совмещенных места и времени. Сама эта неопределенность (читай - всеобщность) весьма содержательна. Первый глагол стоит в прошедшем времени, за которым, однако, следуют два восклицания и глагол в настоящем: «O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr!». Язык, как часто у Рильке, смешивает времена, слово самоуправствует: древнее совершается перед нашими глазами. Звукопись - не только четыре эмфатических «о», но и сочетающиеся с ними звонкое «r» - подчеркивает экстраординарность происходящего. Экстраординарны, хотя и просты, и сами выбранные поэтом слова: «Da stieg ein Baum.»; «steigen» - «подниматься», расти - одно из важнейших у Рильке слов, подкрепленное следующим затем словом Uebersteigung с тем же корнем, переводимым в словаре как «переход» с добавлением в скобках «(через горы)». Этих гор или горы, упоминающейся у Овидия в «Метаморфозах», когда звери поднимаются к поющему Орфею, в стихотворении нет. Но передано усилие подъема, еще отчетливее запечатленное в слове «reine» - «чистый», всегда обозначающем у Рильке не только «чистоту», но и степень качества. «Reine Ueber- steigung» - это, стало быть, усиленное Uebersteigung, чистота «подъема вверх». Субъектом, но, может быть, объектом этого подъема (главный «субъект» Орфей с его пением) является дерево - архетипический знак жизни, а в поэзии Рильке и вертикали. Дальше стоит слово Ohr, подготовленное упоминанием об Орфее и самим звучанием его имени (Orpheus). «Ухо» по словарю Даля - «орудие слуха». Но ухо - это и сама способность слышать, слух (Ohr - Gehoer). Словом «ухо» одним ударом обозначена тема стихотворения и всей книги. О чем будет говориться? - Об устремленности вверх, высоте, росте (дерево), преображении. Преображение - Wandlung (а не Verwandlung, что значит просто «превращение» - частая ошибка при переводе), как и упоминающиеся дальше соборы (а не дворцы, как нередко переводят немецкое Tempel), - это слова с религиозной коннотацией. Но что творит это преображение? И Рильке ставит слово «ухо», несущее в себе связь не только человека с человеком, хотя и с ним, но со звучанием мира - «деревом в ухе». Как писал С. Булгаков, «слух существует потому, что есть звук как мировая энергия».
Ключевые слова повторяются и осложняют друг друга. «Сонеты к Орфею» - это единое целое, книга стихов. Но автор, по его признанию, понял сонеты во всех их связях только после неоднократного чтения вслух. Известно, что «Сонеты к Орфею» возникли одновременно с «Дуинскими элегиями» за немногие дни. «Хотите одну правду о стихах? - писала Марина Цветаева. - Всякая строчка - сотрудничество с высшими силами, и поэт - много если секретарь».
О. Седакова считала главным завоеванием Рильке именно его слово: «Второй полюс значения у всех его внутренне синонимичных, лейтмотивных слов - не какой-то отдельный, хотя и не исчерпываемый пониманием смысл, как это бывает в символистской поэзии, а нечто вроде Alles. Внутренне однородный смысл ключевых слов отсылает к смысловой однородности самих “вещей” Рильке, за каждой из которых стоит Бог...». Седакова имела в виду такие повторяющиеся у Рильке слова, как дерево, дом, мост, колодец, окно, башня...
За каждым очевидна, однако, и воля автора.
Слова, как и поэзия Рильке в целом, отличаются «настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи».
Рильке писал о «лирической сумме» как непременном итоге своих стихотворений, об энергии и движении к этой сумме, определяющих строй стихов. Именно этому служили, по его утверждению, «конденсирование и сокращение», «внушение единонаправленности».
Слово стягивает то, что отдалено и разорвано, - оно собирательно. Это и есть место, отведенное слову в поэзии Рильке.
Слово у Рильке выполняло соединения и самые трудные. В «Часослове», никогда не терявшем для автора своего значения, представлен непреодолимый разрыв: мысль и слово монаха не могут «схватить» близкого, но недоступного Бога. Трагическую тему книги выражает бесконечность кружения. Действует, однако, и начало противоположное: не иссякающий поток речи рождает необозримость времени и пространства. Время исключает деление на прошлое и предстоящее: «Прошедшее еще предстоит, а в будущем лежат мертвецы» («Vergangenes steht noch bevor, und in der Zukunft liegen Leichen…» - стихотворение «Ich bin derselbe noch, der kniete...») в этом-то пространстве и времени и возникает слабо обозначено единство, обычно не замечаемое исследователями.
В третьем стихотворении книги говорится:
Но когда я склоняюсь в самого себя:
Мой Бог темен и как плетение из сотен корней, которые пьют молча.
Только, что я из его тепла поднимаюсь, больше я не знаю, потому что все мои ветви глубоко внизу покоятся и лишь кивают на ветру.
Doch wie ich mich auch in mich selber neige:
Mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe
von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken.
Nur, dass ich mich aus seiner Waerme hebe, mehr weiss ich nicht, weil alle meine Zweige Tief unten ruhn und nur im Winde winken.
Бог - дерево, сотни корней которого тихо пьют в темноте. Дерево, перевернутое кроной вниз, и человек. Но нет ли в этой картине еще участников? Многое присутствует у Рильке не будучи названным. «Корни молча пьют...» Пьют что? Так, не обозначенное словом, входит в стихотворение «исходное состояние всего сущего» - вода, влага. Книга Бытия, описывая сотворение мира, использует древний образ - оживляющее приникание «духа божьего» к мировым водам. В стихотворении нет этого образа, как нет и вод. Но есть предполагающее их присутствие слово «пьют», а затем - «я поднимаюсь из его тепла» (его выделено у Рильке курсивом). Как писал Рильке в письме 1919 г., надо проникнуть «в сердцевину слова- образа, в загоревшееся в нем пламя, чтобы понудить его двигаться дальше в этом направлении».
Неоднократно, хоть и неявно возвращаются у Рильке образы стихий - воздуха, воды, тверди.
Пятнадцатый сонет второй части книги отличается необычной для Рильке конкретностью. Перед нами один из римских бьющих источников, фонтанчик с мраморной маской, струей воды, вытекающей из ее рта и чашей, напоминающей ухо. Первая же строчка: «O Brunnen-Mund, du gebender, du Mund» содержит повтор, настаивающий на связи этих слов. Непонятна, однако, форма третьего лица стоящего дальше глагола: после двукратно в первом катрене «ты» стоит не «говоришь» (sprichst), а «говорит» (spricht). Автор предлагает задуматься о том, кто говорит. Это, как постепенно оказывается, и составляет тему и тайну сонета.
Глагол в третьем лице создает отстраненность. Намечается иная перспектива. Значение перехода подчеркнуто фразой «А на заднем плане...». Переход, действительно, разителен: речь заходит об акведуках и их происхождении: «Мимо могил, со склонов Аппенин несут они тебе»... Охватываемое взглядом пространство превращается в даль веков, в бесконечность времени. Но вместо ожидаемого слова «воды» у Рильке стоит «Sagen» - «dein Sagen» - речь, предание, сказание, легенда. Дважды упомянутый в первой же строчке «рот», как можно предположить теперь, - не просто деталь «мраморного лица» и не отверстие для текущей воды, а первый в стихотворении шаг к другой теме - теме льющейся речи. В непрекращающейся игре и соотнесении слов субъект в итоге определен - непрекращающуюся речь ведет земля: земля журчит водою. Человеческая речь (третье «ты» в этом стихотворении) - это лишь подставленная под струю кружка. - «Лишь сама с собой говорит она, значит...». Одно слово - местоимение «ты» - собирает в себе, таким образом, мир и мировую коммуникацию - вода, земля, человек.
Безусловно разделяя характерное для рубежа веков убеждение о непригодности старых понятий и кризисе языка (Г. фон Гофмансталь «Письмо», 1902), Рильке предпочитал писать простыми словами. Простое слово не дает, однако, исчерпать свой смысл: оно бытийно.
Бытовая сфера едва намечена. Но и обиходные слова оказываются поднятыми над своим прямым значением. В десятой из «Дуинских элегий» говорится о церкви в «городе страданий» - чистой, запертой и разочаровывающей, «как почта в воскресенье». Но ведь и эта «закрытая почта» - знак иного смысла, невозможности принять и послать «туда» весть. «Простые слова» в поэзии Рильке - дом, дерево, мост, колодец, окно, башня, кружка, фонтан и другие - онтологичны. Но они же предметны, вещны, их отличает поэтому и зримость, наглядность. Как когда-то в эпоху барокко, изобразительность «возвращает слово к его буквальности, т.е. к его предметному значению, - что уже есть акт толкования; от этой схемы мысль отправляется затем к слову в его культурно-историческом значении».
Характер образности при всей его изощренности также подчинен главной задаче слова: устремлен к смыслу. Поэзия Рильке изобилует сравнениями («поэтом сравнений» называл его Готфрид Бенн). Сравнения сопоставляют, а, значит, сближают. Но сближение простирается и глубже. «Сферы бытия различных существ, разделяемые обычным мышлением, - писал о сравнениях у Рильке Р. Музиль, - словно объединяются в единую сферу. Никогда одно не сравнивается с чем-то другим, словно два различных и разделенных явления, остающиеся таковыми, потому что даже если где-нибудь в его стихах такое происходит и говорится, что что-нибудь является, словно нечто другое, то кажется в тот же самый момент, будто оно с незапамятных времен было одновременно и тем и другим». Простой пример: «Мой зов, как протянутая рука.». Но ослаблены и границы далекого: «Дом бедняка, как рука ребенка.» Рильковские сравнения - это по существу события, переходы от одного к другому.
Сравнения со словом «как» все же предполагают, как писал Веселовский, «сознание разделенности сравниваемых предметов». В «Часослове», однако, действует и другой, восходящий к древности принцип связи, снимающий содержащуюся в сравнении дихотомию. В представлении монаха Бог становится поочередно древней башней («der uralte Turm»), деревом, птенцом, выпавшим из гнезда - «ты маленькая птица с желтыми коготками и большими глазами» («du bist aus dem Nest gefallen, bist ein junges Vogel mit den gelben Krallen und grossen Augen...»), камнем, домом, собором, криком петуха, мячом, вырвавшемся из круглых ладоней и упавшим где-то в другом месте... Но если не сравнения, то что представляет собой подобный род образности? Вряд ли можно говорить, как это часто делают, о метафорах: разделение предметов, при котором только и возможно перенесение свойств одного предмета на другой, отсутствует - бог не различим. Бог не сравнивается ни с одним из перечисленных предметов: он не «как» - он и есть башня, дерево, птенец, собор... Действует принцип уподобления.
Поэтическая речь Рильке отличается простотой - это высокая поэзия без высоких слов. Ведь высокими словами не назовешь воздух, землю, дерево, ветры, - эти слова просты, как проста и мысль о человеке как части мира. Как говорилось, Рильке часто скрывает главное, не договаривает. Таких недоговоренностей и намеренных алогичностей много в его как будто бы прозрачном тексте. Но самое важное - вопрос о смысле существования - оставлен без ответа по необходимости.
Именно его неразрешимости и посвящены «Дуинские элегии».
Антони Стефенс считал актуальным для всего творчества Рильке выработанную в ранние годы технику («предлог», «превращение»). Но по сравнению с «Сонетами» и другими произведениями именно в «Элегиях» происходит заметное изменение художественного языка.
Неоднократно настаивая на значении слова, Рильке писал и о том, что, войдя в стихи, остается в слове несхваченным. В раннем сборнике «Мне на праздник» о словах говорится как о «стенах», за которыми «голубые горы» (ср. с «голубыми далями» Блока). Но в поздней поэзии Рильке, прежде всего в «Дуинских элегиях», речь идет о невыразимом другого толка.
Возникает область «несказуемого», исчезающего на земле. Эта область по-прежнему связана с невыносимой для Рильке мыслью о непроходимости границ, разделенностью на тот мир и этот, с неспособностью человечества осознать себя, смерть и Бога не как «другое», а как единство. Мысли элегий всеохватны. Они включают и современную жизнь, в которой, утверждал Рильке, исчезла подлинность: «Allers ist nicht es selbst» («Все не само», Четвертая элегия). Для такой жизни нужна другая выразительность.
Пространство элегий организуют не слова в неисчерпаемости их значений, а слова-обозначения: «любовь», «сердце», «прощание», «день», «предостережение». Так и перечисленные в «Девятой элегии» дерево, дом, мост, колодец, окно, башня, ворота, колонна, кружка, ради произнесения которых «мы, может быть, здесь» - не слова в их конкретной бесконечности (о которой писала О. Седакова). Слово «дом», названное среди важнейших, отнесено к прошлому: вместо «dauerndes Haus» - «длящегося», «постоянного дома» теперь предлагается «выдумавшее себя строение» («sich erdachtes Gebild», Седьмая элегия). Элегии, в которых говорится о любви, о судьбе, о родившемся младенце или о дереве, организованы не этими неисчерпаемыми словами, а перечислениями и чередованиями. Главное - чередование элегического и гимнического начала, воспевание жизни, но и ее безысходность.
Писавшиеся с мучительными перерывами с 1912 по 1922 гг., во время всемирных потрясений и предвидения новых, «Элегии», как и положено жанру, сосредоточены на расставании. Но расставание у Рильке всеохватно. Жизнь коротка: «Все однажды, только однажды» («Ein Mal jedes, nur ein Mal», Девятая элегия). Это мир «истолкованный» (gedeutete), он не знает развития и не дает укрытия («Незнанье-куда» - «Nichtwissen-wohin», Седьмая элегия). Мир становится театром, представлением.
Образцом новой выразительности может служить Пятая элегия, возникшая под впечатлением картины Пикассо «La Famille des saltimbanques». Она сосредоточена на визуальном - смертельно рискованных прыжках акробатов. Какая сила заставляет их вновь и вновь взлетать в воздух, чтобы потом приземляться на истертый коврик? Правят старый барабанщик, обвисшая кожа которого «вмещала двоих», но один уже в могиле, и Madame la Mort, представленная парижской модисткой, изготовляющей банты, рюши, искусственные цветы для зимних уборов смерти. Исследователи писали об аллегоричности образов в этой и в последней Десятой элегии («деревья слез», «город страданий», «девушка-жалоба»). В Десятой элегии умерший юноша уходит в страну Безмолвия.
Элегии посвящены «эпохе конца», возможной гибели Земли. Но действует, как всегда у Рильке, и «принцип дополнительности». Ведь и в Пятой элегии молодая пара «смогла». Любящая женщина, сказано у Рильке, достает до колена ангела. Расставание с земным мучительно, потому что «жизнь здесь прекрасна» (Hiersein ist herrlich). Расстаться - как ребенку оторваться от материнской груди. В элегиях говорится о жилах, полных земного. Сказано, что в нас нуждается здешнее.
Не является абсолютным и принцип театральности и визуальности. Поэтическая речь, достигающая в «Элегиях» небывалой силы, им противостоит. Перекрывая театральность и визуальность, «Дуинские элегии» риторичны, формальных законов риторики не соблюдая.
Элегии - это не иссякающий поток речи. Движущей силой является именно говорение. Глаголы - «сказать», «говорить», «кричать», но и «хвалить», «славить» - не только мелькают на страницах «Элегий»: эти глаголы - истолкователи поэтики цикла, векторы его направленности.
Поздняя поэзия Рильке сопоставлялась с абстрактным искусством. Начиная с «Новых стихотворений» Рильке вводит новую форму выразительности - «фигуру». «Фигура» для Рильке - почти графическое обозначенное движение, например, вверх (стихотворение «Оранжерея»), конденсация смысла стихотворения, наконец, его самоистолкование вне слов. «Фигура» понималась автором как образ движения стихотворения и движение жизни. В тексте проглядывает некий чертеж - вектор, фиксирующий направление взгляда и смысла. Угадывается ход самой жизни - от зарождения, устремленного вверх напора, до конца, смерти. Необходимая Рильке абстрактность - стремление показать не предмет, а то, что за ним.
Но непосредственное живое начало этой поэзии - прежде всего «Элегий» - в силе лирического высказывания и динамичности общего строя. Выразительность в самих переходах от «заторов» к потоку. Эта поэзия «вокативна». С почти невозможной в стихах свободой Рильке прерывает себя, останавливается, требует внимания, выделяет важные для него слова курсивом.
«Дуинские элегии» диалогичны. Ни в одной книге Рильке не повторялась с таким постоянством вовлекающая форма вопроса (девять раз в одной только первой элегии). Эта форма направлена от спрашивающего к внимающему, она хочет быть понятой. Ни в одной его книге, кроме разве что «Часослова», не утверждались с таким упорством поэтологические права первого лица речи. Но в «Часослове» монах оставался игровой фигурой. «Я» «Элегий» в наибольшей возможной степени приближено к авторскому. Частая замена «я» на «мы» не меняет дела: это лишь, с одной стороны, чуть отстраненная, а с другой, - объединяющая и соединяющая форма все того же первого лица. «Мы» включается в сказанное от «я», присоединено к нему, представляя в «Элегиях» отсутствующее человечество.
В работах об «Элегиях» неоднократно обсуждался вопрос о Gegenueber, о том, к кому обращена речь. Но сам ее характер, сочетающий высоту со строем и лексикой разговора, прерывающей себя, разъясняющий, накапливающей примеры, позволяет заключить, что она обращена не только к всезнающему ангелу, как это по преимуществу понималось, но и к другому «ты» - к «нам»: «Weißt du,s noch nicht?» («Еще ты это не знаешь?»). Или: «Sollen nicht endlich uns diese ältesten Schmerzen fruchtbarer werden?» («Не должна ли эта древняя боль нам наконец стать плодотворной?», Первая элегия). Сама трагичность ситуации вбирает множество, подхватывает его, говорит об общем с ним опыте, к нему прислушивается.
Ни в одном другом произведении Рильке не была так важна и всегда естественная и важная у него интонация, «тон сказанного», в котором, по убеждению Пастернака, «все дело». Именно на этом основании вырастает то качество этой поэзии, которое, как уже говорилось, он ценил в ней - «настоятельность сказанного, нешуточность, прямое назначение речи».
«Нешуточность» обозначена первой же строчкой «Элегий»: «Кто, если я закричу, услышит меня в порядках ангелов?» (Wer, wenn ich schrie, hoerte mich denn aus den Engel // Ordnungen?). Это вопрос о разрывах бытия и об оставленности человека. «Я» и «мы» не могут отрешиться от человеческого, растворясь в уничтожительном для них всезнании ангела. «Каждый ангел ужасен» - не поэтому что это присущее ему свойство, а от неспособности человека его всезнание выдержать. Ангел, как разъяснял Рильке польскому переводчику В. Гулевичу, «более высокий ранг действительности». «Дуинские элегии», как раньше «Часослов», широко распахнуты, сочленяя в себе бесконечность пространства и времени с разными пластами человеческого.
Жанр большой лирической формы, не поэмы, а цикла каждый раз по-особому связанных стихотворений - претендует теперь на всеохватность. Почти одновременно с «Дуинскими элегиями» появляются «Выжженная земля» Т.С. Элиота, «Песни» Э. Паунда, «Седьмое кольцо» Георге, «Сестра моя - жизнь» Пастернака. Из всех перечисленных произведений «Дуинские элегии», быть может, в наибольшей степени отстоят от открывающейся привычному взгляду жизни.
Широта и особый характер мира намечены в «Элегиях» немногочисленным рядом фигур - ангел, дети, звери, герой, рано умершие, любящие. Каждую из этих фигур можно толковать различно. Но все они приближены к пределу жизни или находятся по другую его сторону. В письме к Витольду Гулевичу Рильке писал, что считает ангела порождением его собственной мифологии, а не христианской религиозности. В каждом из этих образов широкая неопределенность. Персонажи элегий - не столько участники этой действительности, сколько ее реперы.
Поэзия Рильке задается вопросом о месте человека в мире. Следует ответ: «Не зная своего истинного места, действуем мы из связи. Антенна чувствует антенну и пустая даль обманчива»: «Ohne unsern wahren Platz zu kennen, // handeln wir aus wirklichem Bezug. // Die Antennen fuehlen die Antennen, // und die leere Ferne trug»). Широта «Элегий» и их динамизм выполняют все ту же важнейшую для Рильке задачу - задачу собирательности, прочерчивания связей, Bezuege. Быть может, единственным из немецкоязычных поэтов того времени Рильке нашел для этих связей поэтический язык.
Л-ра: Новый филологический вестник. – 2009. – № 3. – Т. 10.
Произведения
Критика