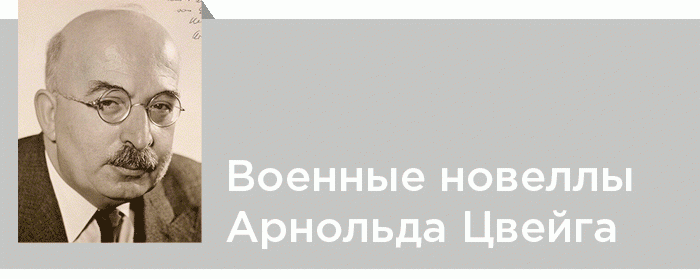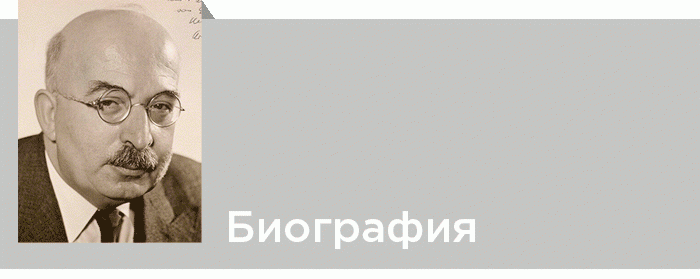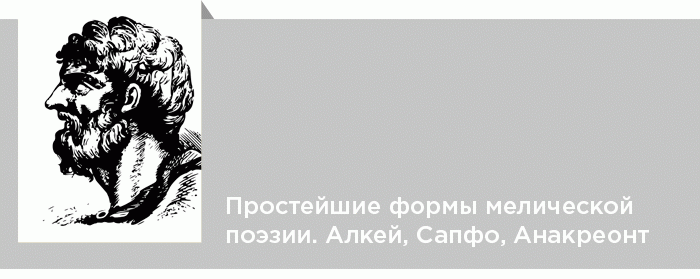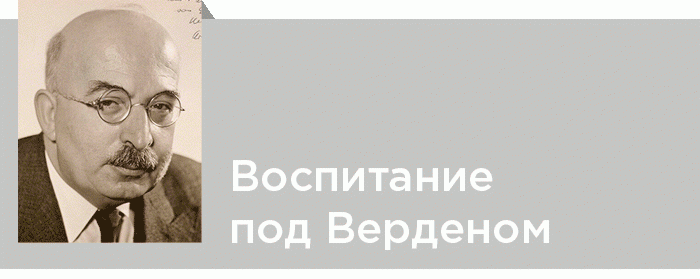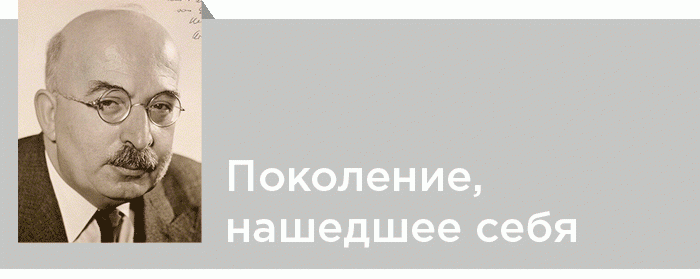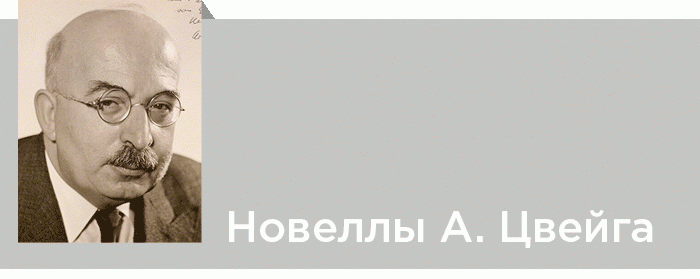Арнольд Цвейг. Мальвы

Они высились перед домом — кроваво-красные прямые мальвы, устремляясь в голубой и золотистый день, словно древки пик, обвешанные, пурпурными колокольцами и зелеными пуговицами. Шестнадцатилетняя Аннелиза Шустов стояла перед забором, маленькая, живая, черноволосая. Она стояла, к сожалению, по другую сторону ограды и с восхищением смотрела на цветы. Право, их стоило пожалеть. В саду перед беседкой напротив белого дома сидели несколько мужчин, они были без пиджаков и курили, и пахло там нехорошо. Можно подумать, что ей, Аннелизе Шустов, очень хотелось иметь такие мальвы. Нет, это просто ужасно. Разве ее не послали собрать «пукет» для дылды? У мамы вечные причуды. Приезжает вдруг в гости из России и говорит: «Аннелиза, не нарвешь ли ты букет для фрейлейн Блаукепунктер? Я считаю, что это следует сделать». — «А я нет, совсем не считаю», — то есть Аннелиза только подумала так. «Хорошо, мама», — сказала она. Пойдет ли Макс? Нет, Макс не пойдет. Значит, ей придется идти одной. Наклоняться — вот терпеть не могу. И вообще старомодно и скучно преподносить «пукеты». (Аннелиза Шустов вместо слова «букет» всегда употребляла это простонародное словечко, которому научилась у Макса.) Да и подходит ли это к ее «стилю»? Конечно, нет!
Стояла великолепная погода, солнце сияло, и Аннелизе было превесело… Но мамино желание оказать любезность… Нет, просто ужасно. А мальвы сразу увеличат букет! Цветов было еще совсем немного: только ромашки — белые звезды с светло-желтыми точками — и застенчивый вереск. Почему Макс не отправился с ней? Во-первых, дело пошло бы гораздо быстрее, и, кроме того… он говорил бы о своем друге. Конечно, он был невыносим, этот друг, со своими высказываниями, и она, Аннелиза Шустов, находила возмутительным, что он завел разговор о ней. Какое ему дело до ее шляпы? Он сказал, что у фрейлейн Шустов есть свой стиль. Совершенно определенно. Но эту шляпу ей носить не следуй. Определенно не следует. Слишком широкие поля. Аннелиза взялась за свою широкополую шляпу левой рукой. Восхитительно! Во-первых, очень модная, а во-вторых, если хотите знать, какое кому дело до того, что она носит! Ей она нравится! Правда, шляпа не подходит к ее «стилю». Жаль. И сегодня, в воскресенье, этот человек тоже здесь. Она, Аннелиза Шустов, его просто не выносит. Хоть Макс от него и в восторге. Господи, Макс! Макс просто ее друг, и все. Кроме того, он племянник дылды и живет в том же пансионе. Он решает ей задачи по математике. Она помогает ему иногда с французским. Ведь недаром у нее была мадемуазель, там, в России. А сочинения она пишет сама. Макс ей вовсе не помогает, правда. Господи, что только девочки не выдумают, Уж немецкую-то литературу она знает! Конечно, не так, как этот его приятель. Но зато у нее нет мании величия и она не говорит так… так странно и иронически. Эта ирония отвратительна. И зачем она сейчас здесь? Только из-за мальв. Довольно глупо смотреть через забор. А если бы он ее сейчас увидел?! Он, конечно, улыбнулся бы своей иронической улыбкой. Просто непереносим! И… и вот он там показался. Конечно, это он… О господи! Как неприятно… Она так глупо покраснела, ужасно…
Впрочем, маленькая Аннелиза, которая стояла перед забором, могла бы и не смущаться. Он был вовсе не здесь. Он ушел в свои стихи, в свои строфы, — они звучали прекрасно, хотя смысл их был и не совсем ясен. Они звучали прекрасно — в них столько одиночества и тайны. Как трагично полюбить именно такую девушку… А может быть, только естественно… Он при его одухотворенности должен был нарваться на такое поверхностное, бездушное существо. Слово «нарваться» его ранило. Да, таков уж он, так тонко чувствует все оттенки настроений. О себе говоришь, как о постороннем, и вкушаешь всю горькую сладость самоистязания… «Нарваться»… Кажется, что нервы торчат из-под кожи, так их все ранит. Между прочим, про нервы и кожу — это он удачно сказал (он медленно провел рукой по тщательно выбритому подбородку). И нужно же быть таким вызывающе здоровым блондином, когда у тебя поэтическая душа. Просто жестоко, совершенно определенно жестоко. Вероятно, это и составляло его трагедию. Он доживет до старости. Ужасно. Все великие поэты умирают молодыми. А Гёте? Но Гёте вообще не человек, Гёте — символ. Символ человека. Нет, фрейлейн Аннелиза Шустов не символ. Определенно нет. Она — нечто красное, ей бы стоять в лучах солнца или ждать по ночам, когда луна из литого золота медленно поднимается над черными деревьями… Нет, это тоже не в ее стиле. У нее нет души, совершенно определенно.
И вот… Она все-таки тут! Стоит возле ограды перед мальвами! Обожает букеты, как девчонка! Вот это ее натура! Поставит дома в вазу, на память… Впрочем, вкус у нее есть… Вот только шляпа… Как бы заговорить с ней? Что-нибудь вроде: смотрите-ка, да ведь это фрейлейн Шустов!
— Смотрите-ка, да ведь это фрейлейн Шустов, — сказал он, — и вооруженная букетом. Наверно, поставите в свою комнату, в какую-нибудь раскрашенную вазу?
— Да, конечно. Вы не поможете мне?
— Разумеется, с удовольствием. Так мило, когда молодая девушка любит цветы… Это ей идет.
— Это ее стиль, правда?
— А, Макс проболтался. Не очень-то благородно с его стороны, — сказал он.
С чего это он взял?.. Видно, она обидела его. Сделала ему больно.
— Мы, психологи… Вообще говоря, сожаление и сострадание хоть и свойственны женщинам, но это чувства устаревшие, и от них нужно избавляться.
Она не находит этого. Наоборот. Людей, которые не знают сострадания, она считает отвратительными. Отвратительными…
Любимая, нежная, подумал он и сказал:
— Вы настоящая женщина, фрейлейн Аннелиза Шустов. Все слабое достойно гибели. — И, бережно сняв с травинки божью коровку, на которую чуть не наступил, он посадил ее на столбик ограды.
Они вместе следили, как маленький жучок с трудом вскарабкался вверх, настороженно поднял свои оранжевые в точечку надкрылья и поплыл в воздухе.
Слышно, как грохочут стихии… — произнес он, словно отсутствуя.
— Вы что-то сказали?
— Ах, извините, это просто реминисценция.
Ей стало жутко. В полном восхищении она сказала:
— В моем присутствии это излишне, ведь я неспособна уловить подобные вещи.
Восхитительная колкость, подумал он.
— Право же, я не хотел вас обидеть. Я ведь уже попросил прощения. Не сердитесь, фрейлейн Шустов! Хорошо?
Пауза. Его бросило в жар. Он что-то не то сделал. Впрочем, она и не думает так уж всерьез сердиться. Она не из таких, Аннелиза Шустов. Господи, случается же сказать лишнее! Ничего, все уладится… Он казался очень спокойным. Он так мило попросил прощения… И она стала с жаром рассказывать, почему она здесь, и для кого «пукет», и что ей так нужны мальвы, а потом она пойдет еще в лес за папоротником.
— Значит, вам нужно достать мальвы? — И он вспомнил, что только что у него был хороший образ — что-то красное, — но он забыл какой… Девушка, которая стояла рядом, была так прелестна, так неповторимо очаровательна. — Да, но я не знаю, как это сделать.
А что, если их украсть? Поддеть палкой через забор. Она будет наготове и сразу же их сорвет. Вот было бы замечательно!
Я расцелую твою милую детскую головку, Аннелиза, подумал он и сказал укоризненно:
— Фрейлейн Шустов, вы ребенок. Там ведь люди!
Ах, эти… Да, он прав.
— Что ж тогда делать?
— Ничего не делать. Вам придется отказаться от мальв, фрейлейн Чустов. Я думаю, что ваша фамилия Чустов, а не Шустов…
— А почему?
— Не знаю… Я так чувствую. — Пауза.
Они все еще стояли у забора, и хлопотливые пчелы летали вокруг огромных красных цветов, они пробирались в чашечки и занимались своими делами, усердно, без устали. Иногда какая-нибудь пчела улетала. Вместо нее прилетали другие; жужжа, они направлялись прямо к цветку. Юноша и девушка молча стояли под тяжелым солнцем.
— Аннелиза, ты, верно, ждешь, пока твой букет вырастет? — спросил кто-то сзади. — Ты совсем пропала. Здравствуй, старина. — К ним подошел Макс. Аннелиза так долго не возвращалась, что дамы забеспокоились и послали его вслед. В такую жару!
— А вы стоите перед забором и что-то там выглядываете. Я ничего не вижу.
— Аннелизе очень хочется достать мальвы. Но это невозможно.
— Действительно, невозможно, нас могут увидеть.
Макс ничего не ответил, отворил калитку — она громко и неприятно заскрипела — и сказал несколько слов одному из сидящих там мужчин, вежливо, держа шляпу в руке. Тот, который был моложе всех, встал, подошел к цветам и сорвал самые красивые — три великолепные пики, увенчанные цветами. Он отдал их Максу. Тот горячо поблагодарил. Калитка опять заскрипела.
— Вот, Аннелиза, для твоего букета. Счастливо развлекаться. Прощайте.
И он ушел обратно в свою любимую тень, наслаждаться покоем. Юноша с завистью посмотрел ему вслед. Как просто все решалось, как все само собой разумелось… Наш брат не догадается поступить так. И презрительно пожав плечами, он заявил:
— Плебей. Никакого такта и душевной тонкости.
Но Аннелиза его не слышала. Она стояла, любуясь своими цветами.
— А теперь мы пойдем в лес, — радостно сказала она. — Папоротник… Вы ведь знаете…
Он знал. Между прочим, она произносила это слово неправильно. И тогда они пошли в лес.
Идите и не беспокойтесь. Счастливые, я не буду вам докучать дольше. Почему должен я удовлетворять любопытство посторонних? Для этого нет никаких причин. Небо голубое, солнце сияет, и в светлой листве громко хлопочут птицы. Идите спокойно. Я делаю жест рукой, словно закрываю занавес, и повторяю эти шесть слов: и тогда они пошли в лес…
1907
Перевод Е. Фрадкиной
Произведения
Критика