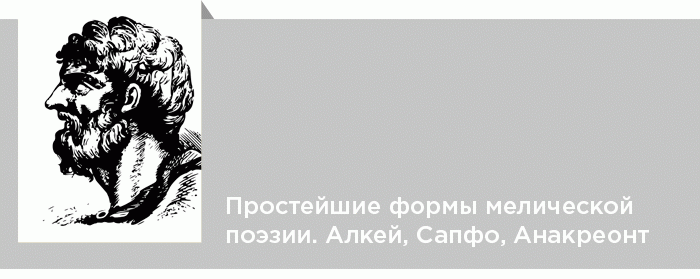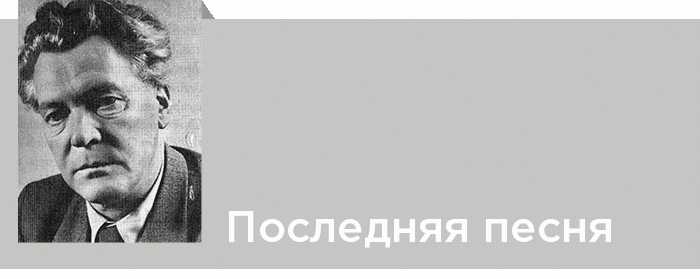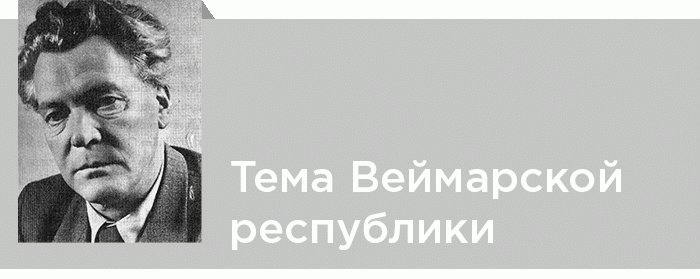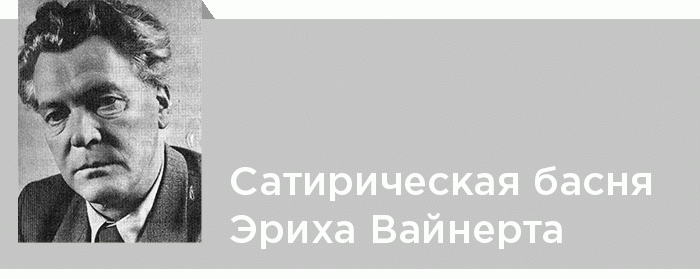Эрих Вайнерт. Тихий Виктор

Он был храбрым солдатом. Но никогда не кричал о своих заслугах. Я часто наблюдал за ним, когда он сидел на террасе у моря на старой каменной скамейке и читал или смотрел вдаль. У него были рыжие волосы, веснушчатое лицо, застенчивые глаза. Он почти ни с кем не разговаривал.
Однажды в полдень, когда декабрьское солнце слегка нагрело воздух, я отправился к морю. Виктор сидел на своей скамье и читал. Я подсел к нему и спросил, что это он изучает. Он ответил — историю Франции девятнадцатого века.
- Ты читаешь по-французски!
- Я провел несколько месяцев в эмиграции в Марселе и там научился.
- Вот оно что! Когда на днях, во время диспута, ты говорил о Флобере, твои слова звучали удивительно продуманно, и я решил, что ты, вероятно, изучал историю литературы или что-нибудь в этом роде.
Виктор повернул ко мне веснушчатое лицо и смущенно улыбнулся:
- Я вовсе не учился. Мой отец был рабочим на химическом заводе в Гриссгейме. О, мне очень хотелось учиться!
- Сколько же тебе лет! И откуда ты так много всего знаешь!
Виктор взглянул на меня и ответил серьезно:
- Оттуда же, откуда все. Я занимался.
- Чем же!
- Музыкой. Я играл на кларнете в маленьком оркестре. Надеялся, что мне повезет и я смогу учиться музыке. Но на какие богатства! Потом я делал ящики. А в тридцать первом стал безработным.
- Участвовал когда-нибудь в политическом движении!
- Раньше нет, только здесь,— ответил он чуть растерянно, словно мой вопрос его смутил.
- Тогда почему же ты эмигрировал!
Виктор покраснел и пожал плечами, казалось, он стыдится какого-то темного пятна в своем прошлом.
- Я покинул Германию не из-за политики.
- Надеюсь, не из-за уголовных дел! — спросил я напрямик.
Виктор усмехнулся и помедлил с ответом.
- Послушай-ка, Виктор,— сказал я,— не думай, что я собираюсь у тебя что-нибудь выпытывать. Но почему человек, вроде бы аполитичный, бежит из Германии и отправляется на войну, до которой ему, как будто бы, никакого дела нет!
Виктор ответил серьезно:
- Особых причин удирать из Оффенбаха, конечно, не было; к тому же и работу я там нашел, у гробовщика. Он делал дешевые гробики, чуть поструганные только снаружи, чтобы не занозиться при переноске. Работы у меня хватало, хотя я не строгал, а только стоял у ленточной пилы. Как-то спрашиваю хозяина: «Герр Ферхланд, теперь, должно быть, загибается куда больше народа, чем раньше!» — Он поднял голову, перестал строгать и немного подумал. Потом опять взмахнул рубанком и, не отрывая глаз от работы, ответил, без всякого упрека, но твердо: «В моей мастерской, Виктор, я не разрешаю говорить на политические темы».
Я не стал возражать, но история эта меня рассердила. Не думай, друг, что я был совсем уж темным болваном, которому никакого дела нет до всего, что он видит вокруг. Но я был еще недостаточно политически развит и думал: весь этот кровавый разгул — нечто вроде войны, которая обрушилась на страну, а война рано или поздно кончается. Раньше я даже разок-другой ходил на ваши митинги. И думал про себя: конечно, вы правы. Но партийные порядки чем-то противоречили моим романтическим взглядам. Я брался за свою глупую дудку и уносился в другой мир. Так и бродил между двумя лагерями. А может, просто боялся действительности. Нацисты мне ничего плохого не делали; ведь я был вполне благопристойным гражданином без подозрительного прошлого. Так продолжалось, пока террор не коснулся нас. Я увидел жертвы уже совсем рядом. Тогда из страха родилась ненависть, которую кларнетом не успокоишь. Но еще не политическая ненависть, а просто глубокое отвращение. Потом к нему прибавилось что-то, похожее на стыд перед теми, кто страдал, но не сгибался.
Однажды вечером, не вынеся тоски, подавленный, я отправился к старому другу детства, которого давно не видел. Дверь открыла его жена, посмотрела на меня и сказала: «Вы немного опоздали, молодой человек, за Паулем больше нечего шпионить — его уже заставили замолчать навсегда». В комнате закричал малыш, и она захлопнула дверь. Понимаешь, ведь Пауль был одним из лучших людей, которых я знал.
После этого я навестил в Боркенгейме одного старого социал-демократа, давнего друга моего отца. Хотел найти кого-нибудь, кто мог меня ободрить. Тот сидел захмелевший у приемника за вечерним стаканом вина и слушал музыку.
«Ах, это ты, Виктор»,— сказал он и, заметив мое подавленное состояние, сразу стал утешать. «Виктор,— сказал он, похлопывая меня по колену,— ты пойми, такая теперь наша судьба. Но все это пройдет. Ведь закон против социалистов тоже миновал. Ты посмотри, приличных людей они не трогают. Мне вот пока никто ничего худого не сделал». Я и десяти минут не просидел у этого болвана.
Стало совестно за свое жалкое прозябание. Стоящего парня они прикончили, трусливого оппортуниста не тронули.
А потом гробовщик взял меня на постоянную работу. Я сам принимал по телефону заказы, хозяин не подходил: он боялся аппарата. Каждый день одно и то же: «Говорят из такого-то лагеря! Высылайте завтра в три часа шесть ящиков!» И вдруг я стал испытывать страх перед досками, которые нарезал. Когда я ставил их стоймя, они всегда были ладони на две выше меня. А когда хозяин затем строгал их, казалось, что доски шипели: «Ящики для живых, ящики для живых, ящи-ки для жи-вых!» Работа нагоняла на меня жуть. На улицах мне чудился запах тления. Я убегал за город. Но шепот бежал за мной: «Ящики для живых, ящи-ки для жи-вых!» И я думал — был бы у меня хоть друг, чтобы излить ему свою душу!
Как-то я подхожу к мосту, а из пивной, что на углу, вываливаются два штурмовика. Одного из них я знал, но давно не встречал. «Виктор,— заорал он и хлопнул меня по плечу.— Придется пропустить еще стаканчик за встречу». Зашли в пивную. Они оба уже изрядно нагрузились. «Гуляем по случаю отъезда, Виктор, — сказал Леонгард. — А ты еще не штурмовик! Пора бы. А я вот, видишь, уже в рейхсвере, в особой части».
Когда я услышал этот грубый голос, то подумал: зачем я пошел с ними! Посмотрел в его налившиеся кровью глаза и вдруг вспомнил: он уже в школьные годы любил разорять птичьи гнезда и был порядочной скотиной.
«Да, — продолжал он ухмыляясь,— теперь, дорогой Виктор, я уезжаю. Куда именно, сказать тебе не могу. Лечу борт-механиком. Послушай-ка, ты ведь знал дылду Блехнера! Он тоже там!»
«Где это там!» — спросил я. Те двое рассмеялись. Приятель Леонгарда прошептал мне на ухо: «Полетел подбросить большевикам в гнездышко парочку крутых яиц!»
Леонгард пьяным жестом схватил меня за шиворот и засмеялся: «А-а, ты смекнул, что это испанские деревни! Что ж, парень, ты политически подкован».
Вот тогда я все понял. И оба молодчика мне стали отвратительны. Здесь, рядом со мной, быть может, сидели те самые дьяволы, которые заказывают ящики для живых.
К счастью, тем двоим скоро пришлось уйти. А я потом еще долго стоял на мосту и размышлял. Мне стало ясно: они — враги Германии. Значит и мои враги. И враги Испании! Поэтому испанский народ должен стать моим другом. Видишь, как наивно я добрался до сути дела. Какой-то инстинкт говорил мне: прочь отсюда! Ты обязан что-нибудь сделать. А здесь ты ничего не сможешь. Вот я и покинул страну — никто меня не вел, кроме моего глупого инстинкта.
По-настоящему моя политическая жизнь началась во Франции. Поздно она началась, товарищ! Очень поздно я узнал, что именно нужно делать,— вот это и есть темное пятно в моем прошлом. Но кое-что сделать мне все-таки уже удалось, и сделать как следует.
Произведения
Критика