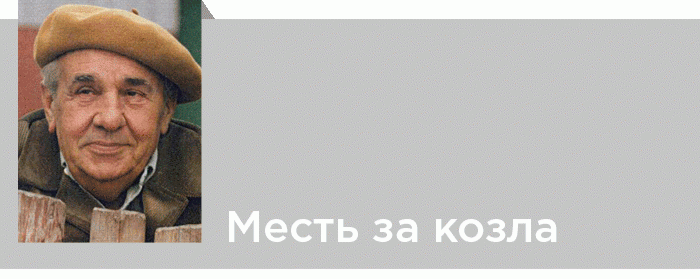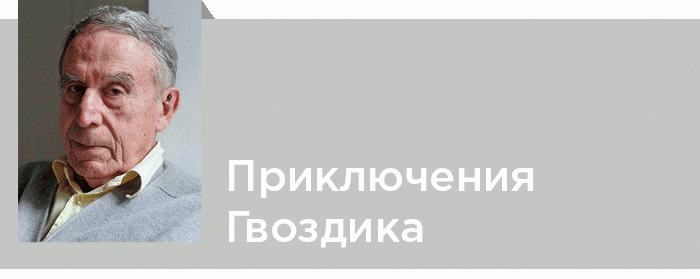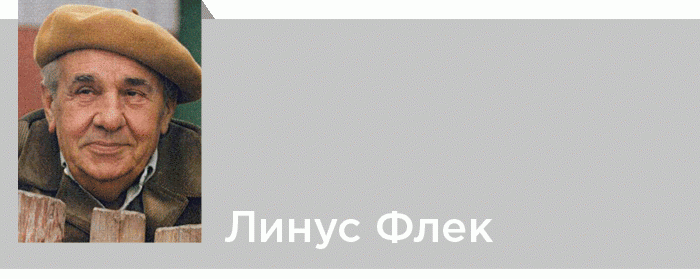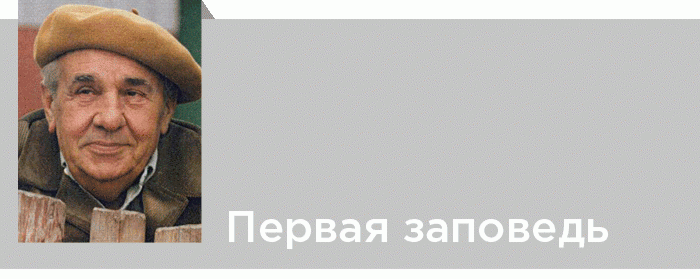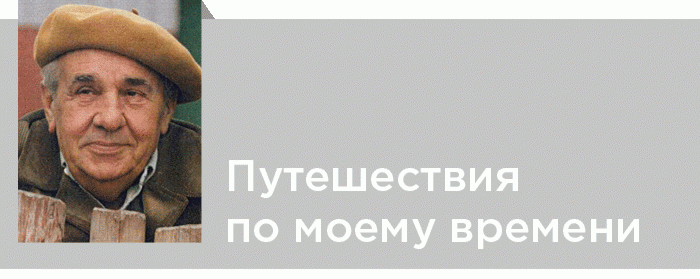Ханс Вернер Рихтер. Бегство в Абанон

(Отрывок)
Посвящается Гертруде Кюкельман
Возможно, об этом и вообще не стоило бы писать, ведь главное давно уже миновало, миновало для обоих участников: серьезные и несерьезные увлечения, длительные привязанности, разочарования и, разумеется, те минуты, когда подъем чувств сменяется равнодушием и даже антипатией.
Так было в жизни одного, так было в жизни и другого, но было у каждого по-своему. Каждый прожил жизнь сам по себе, никак не соприкасаясь с другим.
Он не может точно сказать, когда первый раз увидел ее. Лет, должно быть, двадцать назад или больше. Он не был завзятым театралом, ходил в театр, лишь когда его что-нибудь заинтересует или покажется важным по какой-либо другой причине. Там он увидел ее первый раз, на сцене, в какой роли, он уже не помнит, и какая это была пьеса, он тоже забыл. Осталось впечатление, только впечатление, которое так до конца и не поблекло. Оно становилось сильней, когда он видел ее на сцене, а в последующие годы оно почти совсем изгладилось. Он часто задавал себе вопрос, что это за впечатление, какие флюиды от нее исходят, какое излучение его достигает. Но не мог ответить. Даже когда он просто видел в газете ее портрет, все повторялось: такое же излучение, такие же флюиды. Он мог разглядывать этот портрет снова и снова, не зная толком — почему.
Она была актриса и тем для него интересна, как актриса, не как человек, не как женщина. Это он так для себя решил. Красивой она не была, не из тех, о ком говорят «красивая женщина». Он и вообще не мог думать о ней как о женщине. Никогда не пробовал. Она была маленького роста, он знал, что маленького, но ему она всякий раз казалась выше, чем на самом деле, независимо от того, в каком костюме она играла. Ее движения его завораживали: три шага вперед или три шага назад,
ноги под колоколом юбки, поклоны, опущенная голова. Он, пожалуй, назвал бы ее не красивой, а изящной, но слово, на его взгляд, было чересчур тривиальным. Для обозначения того, что он испытывает, оно было недостаточно четким, недостаточно определяющим. Что-то в ней представлялось ему недоступным, несовместимым с житейскими буднями.
Встреться она ему в те годы, он счел бы ее нереальной, для него это был бы не обычный живой человек во плоти. Но в те годы она ему не встретилась. И так прошло двадцать лет, двадцать два года, а может, и еще больше.
* * *
Он слышит ее шаги у себя над головой. Она ходит взад-вперед—судя по всему, босиком. Время: то ли около полуночи, то ли чуть за полночь. Точно он не знает. Если бы над ним был прозрачный потолок, он смог бы увидеть ее ступни. Мысль эта какое-то время его занимает: комната с прозрачным потолком, а на потолке, как на стеклянной подставке, снующие взад и вперед босые ноги. Потом эта мысль ускользает, и он спрашивает себя, почему никак не заснет. Шаги ее босых ног этажом выше настолько тихи, что не потревожили бы ничей сон. И все же он вслушивается. Теперь шаги куда-то удаляются, очень поспешно, вот они совсем затихли, они где-то в другом месте, в другой комнате. Так он это себе представляет. Теперь можно и уснуть. Он переворачивается на правый бок и пытается думать о чем-нибудь другом: о делах дня, о тягостном разговоре, который у него был вечером.
Он соскальзывает в дремоту, он уже почти видит сон, и тут шаги возвращаются, сперва они слышны откуда-то издали, потом ближе, очень тихие шаги. Он снова просыпается, очень этим недоволен, но сознает, что проснулся, скорее всего, от удивления. Ну какое ему дело до ее шагов?
Теперь он слышит другой звук. Звук бегущей воды. Наверно, вода бежит в ванну. Он лежит на спине, подложив руку под голову. Ему вдруг захотелось сосчитать, сколько капель вмещается в одну ванну. Дурацкая мысль. Он пытается ее отогнать, но она приходит снова: одна, две, три, четыре, тысяча, сто тысяч. Сто тысяч капель — в одну ванну. Возможно, и больше, двести тысяч к примеру, а возможно, всего сто пятьдесят. Ничто не мешает ему произвольно увеличить число или уменьшить как заблагорассудится. Он думает: пересчитать сто тысяч капель все равно нельзя.
Шум бегущей воды у него над головой вдруг усиливается. Теперь он похож на далекий, очень далекий рокот. Вдруг рокот резко обрывается, и наверху воцаряется полнейшая тишина. Ванна полная, думает он и пытается представить себе, как выглядит полная ванна. Ничего не получается. Ему кажется, будто он слышит все, что над ним происходит. Снова слышны шаги, снова шаги босых ног. Но сейчас они торопливей, чем раньше, а потом исчезают: шаги, ноги, вообще все.
Теперь над головой у него тишина. Он больше ничего не слышит. Он хочет представить себе, как она ложится в ванну. Хочет, но не может, он не видит женского тела, он ничего не видит. Попытка растормошить фантазию беспомощна, а может, и смешна. Он бы мог уснуть. Прямо сейчас. Какое ему дело до звуков над головой. Никакого дела, ни малейшего.
Он вынимает из-под головы скрещенные руки. Неудобно, лежа на спине, ловить звуки, доносящиеся сверху. На мгновение ему кажется, будто уши у него стали больше и длинней. Нелепая мысль. Такая же нелепая, каким ему теперь кажется все: комната, шторы на окнах, которые он различает с трудом, потолок над ним, который светится в ночи меловой белизной, на этом потолке лежит пол, а по этому полу скоро опять забегают ее ноги, ее босые ноги.
* * *
Она открывает дверь изнутри, а он входит с улицы. Встреча для него неожиданная. Он испытывает некоторое смущение, как человек, который хотел видеть другого человека, но в то же время предпочел бы не видеть. Движением руки она приглашает его войти в дверь, которую раскрыла перед ним. Он отвечает схожим движением, только не таким элегантным, не таким изысканным, нет, уж скорее неуклюжим и беспомощным. Они стоят лицом к лицу и глядят друг на друга. Ему бросается в глаза, что она все время меняется. Разве она не иначе выглядела несколько дней назад, когда он встретил ее на лестнице, или неделю-две тому назад, внизу, в гараже? Не становится ли она при каждой встрече то больше, то меньше ростом?
У нее изящная фигура, что-то от фарфоровой статуэтки, но сейчас все в ней как-то более строго и подобрано. Похоже, будто ее натянули на лук вместо тетивы. Во всяком случае, такая мысль мелькает у него, покуда он ее разглядывает. Вот и цвет ее глаз тоже изменился, как ему кажется. Они темные, черные, может быть, даже очень черные, а разве прошлый раз они не были другие, карие или светло-карие? Ему непросто воспринимать этот непостоянный облик, эту переменчивую мимику, эти движения, которые, как ему кажется, тоже всякий раз выглядят по-другому. На голове у нее шляпка, нет, не так: у нее на затылке какой-то плоский предмет. Он думает, возможно, она уже переоделась для спектакля, возможно, она уже вошла в роль, которую ей предстоит играть вечером.
Она спиной придерживает дверь, и тогда он, не придумав ничего лучшего, спрашивает:
- Как поживаете?
Он мог бы сказать что-нибудь другое, еще банальнее, но ему приходит в голову только эта стереотипная фраза, которую может произнести любой человек. И она отвечает такой же ничего не значащей фразой: «Спасибо, хорошо», и он делает полшага по направлению к ней, чтобы пожать протянутую ему руку.
В общем, все это вполне обычно и не имеет значения. Он снова отмечает про себя, какая она маленькая, куда меньше, чем он, а ведь и его никак не назовешь высоким. Разве несколько дней назад она не показалась ему выше ростом, не высокой, разумеется, не высокой, но выше? Он удивляется этой перемене, но лишь какое-то мгновение, не дольше, потому что теперь она смеется, хотя, может, не смеется, а просто улыбается? Улыбка меняет ее лицо, которое, на его взгляд, слегка подкрашено. Голос у нее — как у птицы, поющей в низком регистре.
- Я не очень вам мешала прошлой ночью? Я, верно, слишком шумела, правда? Я все носилась взад и вперед.
Он не сразу отвечает, а отвечая, сам внимательно выслушивает свою ложь:
- Я вообще не слышал ни звука. Я очень крепко сплю, я бы сказал, как сурок. Вы мне совсем не мешали.
Она глядит на него с некоторым сомнением.
- А я думала, внизу все слышно. Дом построен на живую нитку. Вы не находите?
Он это тоже находит, он с ней согласен, и она продолжает:
- Знаете, у меня такая привычка — вечером, перед тем как лечь, вымыть ноги очень холодной водой. Тогда я лучше засыпаю.
Он не знает, что на это ответить. Он бы в жизни не смог заснуть с холодными ногами, но он выпускает ее руку, и какое-то мгновение ему кажется, будто она не знает, что ей делать со своей рукой. Она ее роняет, потом сгибает в локте, чтобы подчеркнуть очередную фразу. Он думает: актерский жест. Ему нравится, как она стоит, вот сейчас, держа руку перед грудью и чуть наклонив голову, словно на сцене.
- А я все горюю, что от меня много шума. Ведь, когда вода льется в ванну, поднимается такой шум...
Он снова повторяет, что ничего не слышал, что в полночь он уже спит, что никакая вода его разбудить не может. И тут она с легкой улыбкой задает вопрос, которого он никак не ожидал:
- А сны вам снятся?
Он отвечает, пытаясь отогнать растущее смущение:
- Ну что мне может присниться? Когда я утром просыпаюсь, я уже не помню, что было ночью. Я слишком крепко сплю.
На это она:
- А я думала, вы должны видеть сны. Ведь это вполне возможно. Не так ли?
Какое-то мгновение он подыскивает ответ, но не находит. Вопрос насчет снов его смутил. Какое ей дело до чужих снов? И вообще он совершенно уверен, что никаких снов не видит. Впрочем, мысль эта уходит так же быстро, как и пришла. Видеть сны, не видеть снов, видеть, не видеть. Он мог бы завести с ней разговор про сны, здесь, в проеме распахнутой двери, но ему это кажется нелепым. Да она и не ждет ответа. Разумеется, он мог бы задержать ее разговором на две, на три, а то и на пять минут. Он в нерешительности: хочет он ее задержать или не хочет? У него переменчивые ощущения. Он знает, что хотел бы ее видеть, разговаривать с ней, быть с ней вместе, но одновременно хотел бы не попадаться ей на глаза. Удивительная несогласованность желаний! Он спрашивает себя, испытывает ли она что-нибудь подобное. Едва ли, она не смутилась ни на минуту. Она слишком много бывает среди людей, чтобы открыто проявить свое смущение. Она улыбается, но улыбается не ему, так можно улыбаться доброму знакомому: дружески, любезно, доверительно.
- До свидания. Мне пора на репетицию. Извините меня. Я спешу.
Он смотрит, как она идет, легко, торопливо, чуть не вприпрыжку. И снова его занимают эти движения, хотя он и не знает, как их определить. Сказать «милые» было бы неверно, они не милые, здесь нужно другое слово, совершенно другое. Он не может найти подходящее, вероятно, подходящего вовсе и нет. Да, да, теперь он уверен, что подходящего слова просто не существует.
* * *
Вот уже несколько дней он не слышит ее шагов у себя над головой. То ли она уехала на гастроли, то ли куда-нибудь отдыхать.
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он поселился в этом доме и уже на второй или третий день установил, что она живет прямо над ним. Установил не без удивления. В первые недели она ни разу ему не встретилась. Потом в один прекрасный день неожиданно возникла на лестничной площадке этажом выше. Он поднимался по лестнице, а она спускалась, очень медленно, шаг за шагом, эта незнакомая ему женщина. Он даже растерялся. Не может быть, неужели это она. Она выглядела слишком элегантно и много моложе, чем должна бы выглядеть с его точки зрения. На ней была модная шляпка, платье, сверху прозрачный летний плащ, доходивший до середины икр, и туфли на высоких, острых каблуках.
Она прошла мимо, не поклонившись, и он проследовал наверх, тоже не поклонившись. Ведь он не был с ней знаком, никогда ее не встречал и до сих пор видел лишь на сцене, Может, это и впрямь была не она, просто какие-то черты ее чуть подкрашенного лица показались ему знакомыми.
Он хотел было оглянуться, но не стал, когда почувствовал, что с удовольствием поглядел бы ей вслед. По его разумению, он уже вышел из того возраста, когда глядят вслед женщине. Он был бы просто смешон. Перед своей дверью он остановился и, отпирая ее, одним глазком увидел, как она выходит из дома, так энергично распахнув дверь, словно ей некуда девать энергию. Она не оглянулась, она не подняла глаза, туда, где стоял он, и все же ему почудилось, будто в ее взгляде, когда она проходила мимо, мелькнула искорка любопытства. Значит, это бесспорно она и ей небезызвестно, кто он такой. Чему он не удивился. Вероятно, консьержка рассказывала ей про него так же, как рассказывала ему про нее. Отсюда вполне естественное любопытство, и, может быть, с ее стороны оно ничуть не меньше, чем с его.
Войдя наконец в свою квартиру, он поймал себя вот на каком желании: он хотел бы, чтобы, толкнув стеклянную створку уличной двери, она поглядела на него, пусть даже мимолетным, беглым взглядом. Впрочем, он тотчас же отрекся от своего желания: исполнись оно, это бы все равно ни к чему не привело, так сказал он себе.
* * *
Со вчерашнего вечера шаги у него над головой возобновились. Ему недоставало этих шагов, в чем он теперь честно себе признается. Полуночные шумы этажом выше уже стали частью его жизни.
Он снова лежит на спине, подложив руки под голову. Он слушает шаги, которые то удаляются, то приближаются снова. Они не стали другими, но теперь, как ему кажется, они стали увереннее, энергичнее, как будто ноги за это время отдохнули. Хотя разве ноги могут отдыхать? Примерно неделю назад он спросил у консьержки, куда делась актриса, которая живет этажом выше, и та ответила«
- В Италию поехала, на курорт. По-моему, недалеко от Венеции. Точно не скажу.
Но он и не хотел точных сведений. Его это не интересовало — во всяком случае, он так думал. А если даже интересовало, то так, между прочим, как вообще люди интересуются жизнью своих соседей.
Он пытается больше не обращать внимания на звуки у себя над головой. У него и так есть о чем думать. Его уговорили выступить, он должен держать речь перед людьми, которые ему по большей части несимпатичны. Следовало отказаться, это выступление стоит ему поперек горла, он чувствует себя совершенно к этому неспособным, недостаточно подвижным и гибким. И все же он дал себя уговорить. Его раздражает собственное согласие, раздражает и то, что он совершенно не готов к выступлению. До завтрашнего вечера осталось совсем немного времени. Он пытается упорядочить свои мысли и полностью сосредоточиться на предстоящей речи. Он формулирует фразу, мысленно разворачивает ее перед собой и тут же забывает, едва успев сформулировать новую. Он тщетно силится воскресить в памяти утерянное. Он знает, у него теперь прескверная память, и с каждым годом она становится все хуже, но еще ни разу с ним не бывало так, чтобы из памяти ускользнули фразы, которые он только что с превеликим трудом сочинил.
Вдруг сверху доносится какой-то грохот. Похоже, будто уронили стул. Звук отдаленный; проходя через потолок, он изменяется до неузнаваемости. А может быть, вовсе и не стул, может, умывальный таз или шкаф. Разом, словно их ветром сдуло, исчезают все мысли, все фразы, включая последнюю, которую он только что сформулировал. Он слышит, как у него над головой что-то убирают, потом снова ее шаги, шаги, как ему думается, босых ног. Ему трудно вернуться к предстоящему выступлению, мысли разбежались.
Вместо этого он видит ее перед собой, какой она была при их второй встрече: серое домашнее платье, очень простенькое, ни малейшего намека на элегантность, только на шее цепочка, тонкая, очень тонкая золотая цепочка, а вместо туфель на каблуке, в которых она кажется выше, чем на самом деле, на ней были тапочки, мягкие, пушистые тапочки, слишком большие, как ему кажется. Ведь не могут у нее быть такие большие ноги. Он считает, что они должны быть гораздо меньше и изящней.
Оба стоят внизу, в подъезде, перед стеклянной дверью, там, где висят почтовые ящики. Он видит, что эта встреча слегка напугала ее. С легким поклоном она говорит:
- Извините, пожалуйста.
Он не понимает, за что ее надо извинять. Ему чудится, будто легкий, едва заметный румянец залил ее лицо, которое сейчас, без всякого макияжа, выглядит старше, чем при их первой встрече, выглядит вполне на столько лет, сколько ей, как он думает, есть.
- Пожалуйста, — отвечает он — и потом, чуть помешкав: — Что я должен извинить?
И тогда она:
- Ничего, ровным счетом ничего, я просто так сказала.
Она улыбается, произнося эту фразу, и легкий румянец исчезает под улыбкой так же быстро, как и появился. Он думает: надо бы представиться, сказать, кто я такой; но эта идея тотчас кажется ему донельзя глупой. Они знают друг друга, он и она, они знают, кто они такие. Он не прочь бы сказать и еще что-нибудь, добавить две-три фразы, но ему ничего не приходит на ум. А вопрос «Что я должен извинить?», наверно, был задан зря. У него такое ощущение.
Вынимая из ящика свою почту, она чуть улыбается. Но ему кажется, что у нее замороженная улыбка, улыбка актрисы, может быть заученная на сцене в тысяче ролей. Но не прячет ли она за улыбкой свое смущение? Она ведь смущена, он знает это. Он и сам смущен. Она перебирает полученные письма с любопытством и нетерпением, словно для нее нет ничего важнее на свете, чем эти письма.
Он мог бы завязать разговор, мог бы спросить у нее, как было в Италии, хорошо ли она отдохнула. Хватило бы нескольких ни к чему не обязывающих слов. Но он этого не делает, хотя и не знает — почему. Что-то его удерживает, не замешательство, нет, что-то другое.
Она поворачивается и уходит со своими письмами через стеклянную дверь, вверх по лестнице. Он мог бы пойти вслед за ней, сразу же, непосредственно за ней. Есть так много вопросов, которые вполне можно задать. Что она сегодня делает, где играет, чем занята, много ли ей приходится учить наизусть? Но он так и стоит перед давно уже отпертым ящиком и делает вид, будто все его мысли отданы письмам, которые он сейчас оттуда вынимает.
Произведения
- Бегство в Абанон
- Линус Флек, или утраченное достоинство
- Эвтерпа с берегов Невы, или чествование Анны Ахматовой в Таормино
Критика