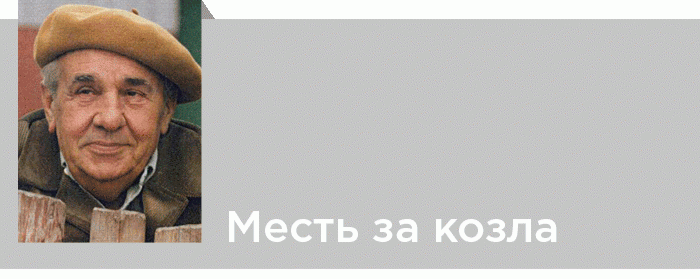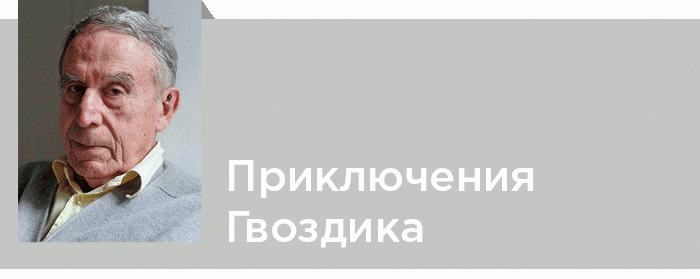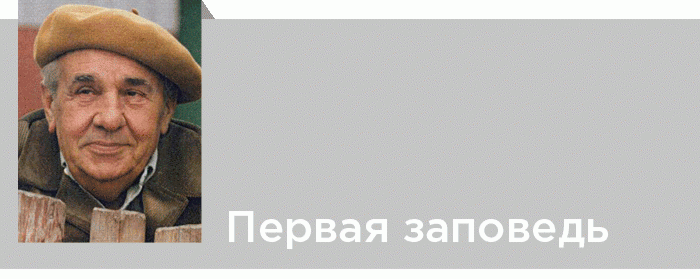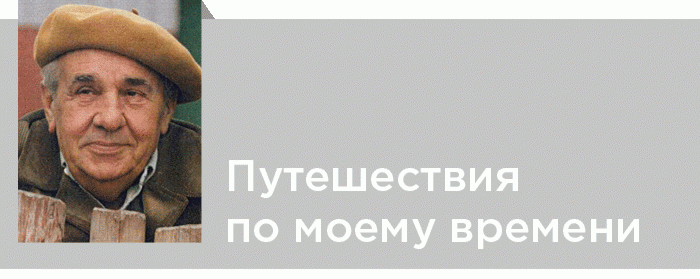Ханс Вернер Рихтер. Линус Флек, или утраченное достоинство
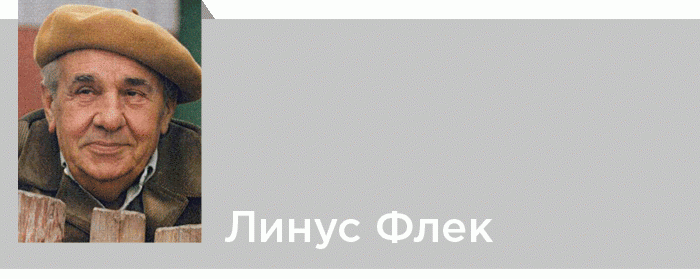
(Отрывок)
ГЛАВА 1
Война была при смерти. Она умерла в первые теплые весенние дни, когда начал таять снег, с гор в долины подул фён, в лесах зажурчали ручьи и с каждым днем их журчанье становилось все громче.
Но еще доносились отзвуки пулеметных очередей, еще стреляли танки и рвались бомбы, и жители городка, лежавшего между двумя пологими горными склонами, еще сидели в своих подвалах и ждали, когда все кончится.
- Сын мой,— сказал прусский советник военного суда Карл Фридрих Флек и с трудом приподнялся на своем жестком походном ложе.— Мы во второй раз проиграли войну. Бог не был к нам милостив. Он пожелал нас уничтожить. Стыд и позор обрушатся на нас. А я, сын мой, не могу перенести ни стыда, ни позора. Поэтому я ухожу из жизни, выпрямившись во весь рост, как и прожил ее.
- Так точно, отец,— отозвался сын, стоявший в ногах кровати; его округлое лицо скривилось, он отвесил отцу легкий поклон и задул свечу, горевшую на табуретке возле кровати и лишь скудно освещавшую темную чердачную комнатушку. Советник военного суда со стоном откинулся на подушку и закрыл глаза.
- Куда же ты теперь направишься, Линус?
- Не знаю, отец.
- И что из тебя выйдет, когда меня уже не будет?
- Я же не знаю, отец.
- Великий боже, охрани его,— прошептал советник военного суда. Он задышал неровно, с трудом, но весьма скоро в комнате раздалось сдержанное похрапывание. Линус вышел из чердачной комнатки. Он ненавидел это ежедневное умирание отца. Болтовня насчет стыда и позора казалась ему нелепой, а заботы о нем, Линусе, с его точки зрения, совершенно необоснованными. Он-то с жизнью справится. Ему ведь уже исполнилось шестнадцать лет, и до сих пор он ухитрялся уклоняться от всего, что ему было неприятно — от гитлерюгенда, от службы во вспомогательных отрядах противовоздушной обороны и от школы, где его считали неспособным и лентяем. Сумеет он обойтись и с победителями. Надо только любезно принять их и приветствовать как подобает.
Осторожно переставляя ноги в тяжелых, подбитых гвоздями горнострелковых башмаках, которые вынужден был носить согласно «служебному предписанию» отца, сын вышел в тесную прихожую. Линусу был отвратителен захламленный чулан, в котором они жили вот уже два года на положении эвакуированных. В холодный и вьюжный январский день они с отцом покинули Берлин—-город уже бомбили — и под несмолкающие патриотические речи советника удрали в это прибежище в Верхней Баварии.
- Дело идет к окончательной победе, сын мой,— заявил тогда отец, а затем начал разглагольствовать относительно потопленного тоннажа, маскировочного отвода войск и секретного оружия, которое поможет отправить врага на тот свет.
Линус, правда, замечал противоречия между словами отца и его действиями, однако не спорил с ним, кивал и как бы соглашался. Возражать не имело смысла. Отец как полководец и стратег исходил из весьма ограниченных перспектив кухонного горшка да пивной кружки, которые всегда должны быть полны. В начале войны он еще состоял советником военного суда, но уже через год ввиду слабости коронарных сосудов был отпущен домой.
- И я его сын,— сказал себе Линус, остановившись перед грязноватым зеркалом в рамке барокко, висевшим над старинным комодом.
Да, он сын старика Флека, его настоящее имя Лингард, но он называет себя Линус и мечтает о жизни, не имеющей ничего общего с жизнью отца. И лицо у него совсем не отцовское. Оно не костистое, не худое, но округлое, приятной и мягкой гладкости, глаза мечтательные, туманно-серые, уши маленькие, почти изящные; правда, лоб низковат, но все же достаточно высок, чтобы свидетельствовать об известной интеллигентности, которой отец, по мнению сына, лишен. Также и нос — без особых примет — был вполне интеллигентным, а вот губы и подбородок слишком детские и мягкие; вероятно, позднее, чтобы подчеркнуть мужественное начало, придется их прикрыть русой или рыжеватой бородкой.
Линусу нравилось собственное Лицо. По его мнению, оно было выразительным, и он мог изменять его как угодно. Вот и сейчас он слегка выдвинул вперед нижнюю губу, задрал нос, ж из зеркала в барочной раме оно улыбнулось ему, чуть английское, чуть американское — словом, такре, какое, казалось ему, должно быть у человека, если враг занял город.
- Oh, captain',— прошептал он,— I love always the American». I will hope you are very happy in this country... Welcome to you’.
Линус произнес эти слова с каким-то треском, словно во рту у него была бусинка и он перекатывал ее между мелкими, мышиными зубами. По английскому языку он был учеником средней успеваемости, но в последние недели затвердил несколько фраз, которые теперь могли ему пригодиться.
Громко топая тяжелыми башмаками, спустился он по лестнице хлипкого одноэтажного деревянного домика, прошел по скрипучему полу мимо квартиры художника Кристофа Мерка и уселся на ступеньках каменного крыльца.
Был тепловатый весенний вечер. Леса, тянувшиеся по горным склонам, выдыхали сумрак, с лугов доносился аромат расцветающих одуванчиков. Деревянный домик, Который Кристоф Мерк называл «обитель художника», стоял на склоне, и Линусу отсюда был виден город. Он видел крышу гостиницы «Под черным орлом», старинную башню ратуши, а дальше поблескивавшие теперь чернотой окна гимназии, которая за два года его пребывания в Баварии доставила ему очень много горя и досады и очень мало радости.
Треск пулеметных очередей в горах смолк, доносилось только Далекое стрекотание самолетов в вечернем небе. Ни одного огонька не вспыхивало в городе внизу. Окна и улицы оставались темными и погружались постепенно и почти беззвучно в прилив ночного мрака.
Линус размышлял. Наступали новые времена. Их несли в собой бои в горах, бомбящие самолеты и американская армия, надвигавшаяся с юга. Что ж, он, Линус, сумеет использовать эти новые времена. Он бросит школу, подружится с американцами и уйдет отсюда, чтобы начать новую жизнь. Но вот как быть с отцом...
- Линус, Линус,— донесся до него стонущий голос отца из открытого чердачного окошка. Действительно голос умирающего. Стыд и позор, подумал Линус, вскочил и вбежал в дом.
Рассерженный вошел он в их чердачную комнатушку под крышей.
- В чем дело, отец?
- Я умираю, Линус.
- Ну что ты, отец!
- Уже настало время, сын мой. Когда кайзер...
- Ах, отец, брось ты своего кайзера. Он же давным-давно умер.
- Но есть же фюрер.
- Он тоже только что умер.
- Боже, смилостивись над ним,— прошептал советник военного суда, сложил руки перед собой и уронил их на грудь.
Линус закрыл окно, спустил затемнение и зажег свечу на табуретке. Свет свечи упал на лицо отца. Лицо было осунувшееся, изголодавшееся. Линус посмотрел на стоящие рядом с подсвечником стеклянные трубочки с вероналом — снотворное, которое он три дня назад вымолил для отца в последнем проходившем через город немецком медико-санитарном батальоне. Трубочки были пусты. Линус испугался.
- Куда ты дел веронал, отец?
- Я проглотил его, сын мой.
- Как? Все таблетки?
- Все, сын мой.
- Ты с ума сошел, отец!
- Нет,— прошептал советник военного суда уже угасающим голосом,— так лучше. Через несколько минут я предстану перед моими предками. Бог призвал меня к себе. Он не желает, чтобы я увидел это ужасное поражение. А ты, Линус, не забывай о своей матери. Правда, она налгала мне и обманула меня, бросила и уехала с другим куда-то за границу, кажется в Америку, но я прощаю ее. В этот час я всем прощаю, слышишь, Линус, всем!
- Да, отец.
- И тебе тоже, Линус. Подойди, прими мое благословение.
Линус опустился на колени возле кровати. Он уже знал эту игру. Почти каждый день начинались разговоры о прощении, отец благословлял его, готовился к смерти, и каждый раз на следующее утро снова открывал глаза, и повторялось то же самое. Выживет, пожалуй, и после основательной дозы веронала.
Линус ненавидел эту игру, но участвовал в ней, как участвуешь в том, чего нельзя изменить. Смиренно положив голову на край кровати, ждал он благословляющей руки отца и думал о матери, которая еще до войны взяла да и удрала с каким-то журналистом польского происхождения, называвшим себя Косгарденом — фамилия, которую Линус всегда помнил и которую отец произносил с неизменным презрением. Взяла и убежала, так выразился тогда отец, на том дело и кончилось. Линус опять слышал язвительный смех матери, когда отец принимался отстаивать свое национальное достоинство, объявлял себя сторонником антисемитизма, третьего рейха и фюрера. Уже одно воспоминание об этих сценах заставляло его содрогаться от ужаса.
- Где же твое благословение, отец? — прошептал он, как полагалось по правилам игры, но рядом с ним не раздалось ни звука. В комнатке стало так тихо, что ему показалось — он слышит собственное дыхание. Эту фразу насчет «собственного дыхания» он прочел в одной из тех книг, которые за последнее время читал запоем. — Отец, — сказал он, — почему ты молчишь?
Ответа не последовало. Надо потушить свечу, подумал он, может быть, ему свеча мешает, и рука Линуса потянулась к подсвечнику, задела за одну из трубочек от веронала, трубочка упала, зазвенев. Линус испугался и вместе с тем рассердился на отца. Зачем ему понадобилось сразу принять все таблетки? Умереть он от них не умрет, а раздобывать их стало так трудно. Может быть, завтра это окажется уже невозможным. И как ему, Линусу, шестнадцатилетнему мальчику, втолковать американцам, что таблетки веронала ему необходимы? Правда, он был уверен в своих силах...
«Welcome to you, captain»,— скажет он, но кто знает, как ответит такой вот американский «кэптен» на приветствие. Может быть, у них кроме танков имеются еще л$£со и кнуты. Разве оберщтудиендиректор Кнасс не говорил им, что американцы еще полуобезьяны, что они спрыгнули прямо с деревьев в свои джипы и у них нет никакой культуры? Он, Линус, этому не верит. Ему, наоборот, казалось, что старик Кнасс — у него лицо, в точности как у рейхсфюрера Гиммлера, он им чрезвычайно гордился,— сам-то спрыгнул в шестой класс гимназии прямо с дерева.
Линус слишком долго стоял на коленях, и они заныли. Ну что же, отец так и не даст ему своего благословения? Он знал каждую фразу этого благословения и мог повторить его наизусть.
«Сын мой,— сказал бы отец в двадцатый или тридцатый раз,— сохрани мужественную прямоту характера. Шагай по жизни, как всегда шагал я, будь храбр, неподкупен, правдолюбив. Помни всегда, что ты немец. Это обязывает. Ты мой сын, сын советника военного суда Карла Фридриха Флека, чьи предки были солдатами, пасторами и государственными чиновниками. Живи в их духе ради народа и нации, будь верен и всегда выполняй свой долг».
«Да, отец,— ответит он, как обычно,— я буду храбра неподкупен, правдолюбив. Обещаю тебе».
Однако в комнате продолжало царить безмолвие. Линус поднялся с колен и склонился над отцом, прислушиваясь К его дыханию. Далеко в горах глухо раскатился взрыв. Линусу почудилось, будто в чердачное окно повеяло чем-то жутким, неуловимым: крыло смерти, или ее дыхание, или, как выразился бы оберштудиендиректор Кнасс, воля предвечного.
Линус этого не понял. Уж слишком часто разыгрывал он вместе с отцом сцену смерти и последних минут с благословением и принятием благословения, с увещаниями и раскаянием. Теперь он не испытывал ничего.
Танки стояли в начале улицы, которая вела к гимназии и называлась Иозеф-Геббельсштрассе. Ее обитатели даже не успели переименовать ее или хотя бы снять табличку с этим названием. В данную минуту один из американских солдат старательно разбивал табличку ломом.
Линуе наблюдал за ним. Он стоял поодаль с охапкой полевых цветов и выкрикивал через определенные промежутки времени:
- Welcome to you!
Солдаты, сидевшие в танках, смеялись над ним. Линус видел их раскрытые рты, их загорелые, словно дубленые лица под беретами и не обижался на их смех. Каждый должен терпеть стыд и позор, которые в той или иной форме обрушиваются на него и о которых изо дня в день твердил отец, чье тело лежало теперь там наверху, в чердачной комнатушке.
Линус был на улице один. Жители все попрятались, и только белые простыни, висевшие из окон, подтверждали их готовность прекратить войну. Даже во всех окнах гимназии белели флаги, и Линус удивлялся, откуда оберштудиендиректор Кнасс так скоро раздобыл столько простынь.
- Welcome to you! — крикнул он еще раз, затем сошел на мостовую и начал разбрасывать цветы перед танками. Он делал это очень аккуратно и притом не сводил глаз с американских солдат, которые, видя, как он усердствует, кричали ему что-то ободряющее и смеялись.
Стояло ветреное утро, дул фён. Простыни бились на ветру о стены домов, солнце жгучими лучами озаряло булыжную мостовую, и удары лома, разбивавшего табличку с названием «Иозеф-Геббельсштрассе», звучали для Линуса как угроза, пока наконец под радостное улюлюканье солдат осколки разбитой таблички не посыпались наземь.
- О’кау — сказал американский солдат, вскинул лом на плечо и, громко ругаясь, направился к Линусу. Линус испуганно выронил оставшиеся цветы и, повернувшись, вознамерился бежать, но солдат был уже возле него и удержал его за пиджак,
- Нацист?
- No.
- Вервольф?
- No, nо!
- Focken bоу! — заревел американец, и не успел Линус опомниться, как долговязый солдат одной рукой схватил его сзади за штаны, другой — за воротник, поднял и стал трясти так, что он чуть не задохнулся. Кровь прилила к голове, над собой высоко в небе он увидел поблескивающий шпиль ратуши, под которым ветер трепал белую простыню. А он-то воображал, что его примут совсем иначе! И он начал отчаянно дрыгать ногами и звать на помощь.
По улице прошли два грузовика и затормозили на его цветах. Из первой машины выскочил офицер, прикрикнул на долговязого солдата, и Линус почувствовал, как пальцы, вцепившиеся ему в штаны, разжались. Его ноги коснулись земли, и страх, который только что владел им, улетучился вместе с глубоким вздохом. Он все еще стоял, оглушенный, возле солдата с ломом, когда к ним подошел офицер, два раза окинул его с головы до ног испытующим взглядом и спросил:
- А ты что тут делаешь?
Линус вздрогнул. Американец бегло, почти без акцента, говорил по-немецки, и Линус решил, что настало время произнести именно ту фразу, которую он целыми днями разучивал перед зеркалом в стиле барокко.
- Welcome to you, captain, — пролепетал он, — I hope you are very happy in this country.
Офицер посмотрел на него, опешив. Потом звонко расхохотался, смех был короткий и смолк так же мгновенно, как начался. Обернувшись, офицер бросил несколько приказаний сидевшим в грузовиках, затем снова обратился к Линусу:
- А по-немецки ты говоришь?
- Yes, sir.
- Как тебя зовут?
- Линус Флек.
- Так, так. Что ж, Линус Флек, пойдем с нами. Мы кое о чем с тобой потолкуем.
И уже не обращая на него внимания, офицер направился к ближайшему дому. Долговязый солдат со своим ломом побежал впереди офицера, а Линус шел позади. С первого грузовика спрыгнули два солдата и с наведенными автоматами последовали за Линусом. Долговязый высадил своим ломом дверь, и не успело в душу Линуса снова заползти чувство страха, как он уже сидел в обставленной плюшевой мебелью гостиной перед круглым полированным столом из орехового дерева и услышал низкий бас офицера, спрашивающего его:
- Почему ты слоняешься среди наших солдат и зачем рассыпаешь цветы перед нашими танками? Ты что, так уж рад нашему приходу или еще почему-нибудь? Где твои родители?
На миг Линус замялся, но он твердо знал, что ему следует сейчас отвечать. Все дело в том, чтобы сделать свой рассказ как можно правдоподобнее и убедительнее. За его спиной стояли в дверях те два страшных солдата с наведенными автоматами, на диване сидел долговязый с ломом, а перед ним, по ту сторону стола,— американский офицер; его темные волосы слиплись от пота, стальной шлем он снял и положил перед собой на стол. Линус слегка покраснел, опустил голову, уставился в зеркальную, полированную поверхность стола и сдавленным шепотом начал.
Его отец, сказал он, сегодня ночью скончался; у него-де было слишком слабое сердце, и он не выдержал такой великой радости. Долгие годы ждал он этого дня, все свои надежды возлагал он на американцев: когда они придут, повторял он вновь и вновь, всему этому стыду и позору придет конец.
При словах «стыд и позор» американец поднял голову. Его ослепительно белые зубы казались жемчужным ожерельем, висевшим на смуглом лице. Он зевнул, широко раскрывая рот, и как-то удивительно быстро снова закрыл его, словно захлопнул.
- А твоя мать? Куда она делась?
Линус не успел ответить — слезы хлынули у него из глаз, запрыгали по носу точно капли дождя и упали на полированную крышку стола из орехового дерева. Там они образовали сначала крошечные лужицы, потом целые озера, которые обычно соединяются между собой каналами. Никогда еще Линус так отчаянно не плакал. Он и сам был этим ужасно удивлен.
- Ну, ну,— сказал офицер, явно смущенный,— только не плачь. Мы же не людоеды. Может, нам удастся тебе помочь. В общем, моя фамилия Равицкий, капитан Равицкий.
Услышав эту польскую фамилию, Линус вздрогнул, как будто нечаянно коснулся обнаженного электрического провода, ибо тут же вспомнил некоего польского журналиста, с которым убежала его мать. Может быть, здесь открывалась перед ним возможность быстрее достигнуть цели? И он начал рассказывать о своей матери; подчеркнул, что она слишком рано исчезла из его жизни, уехала с польским журналистом в Америку; потом понес всякую околесицу, будто и мать его польского происхождения, она родом из Познани и она-де так и не смогла вполне привыкнуть к Германии. Во время этого длинного и бессвязного рассказа офицер несколько раз кивал головой, отирая потный лоб, потом вернулся к вопросу об отце.
Произведения
- Бегство в Абанон
- Линус Флек, или утраченное достоинство
- Эвтерпа с берегов Невы, или чествование Анны Ахматовой в Таормино
Критика