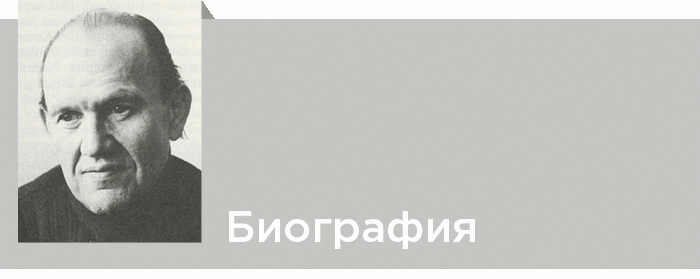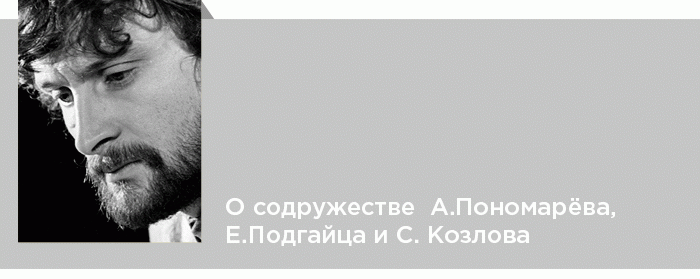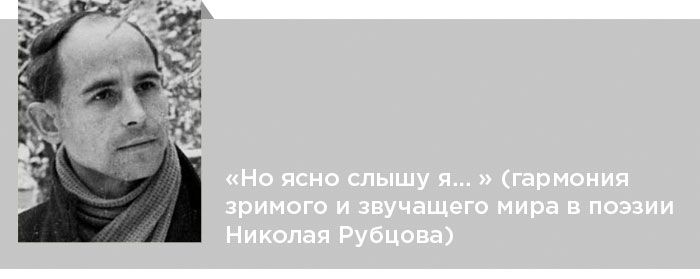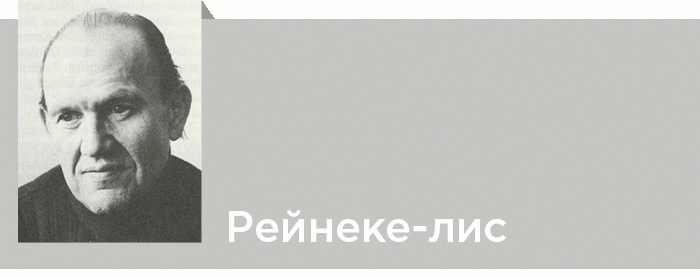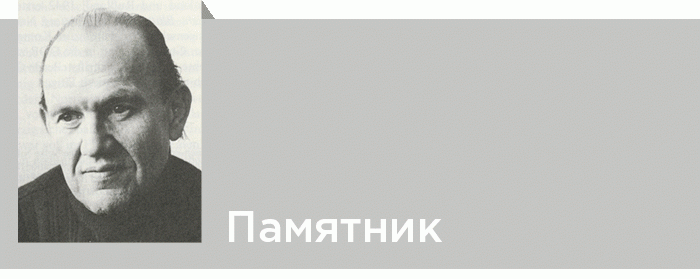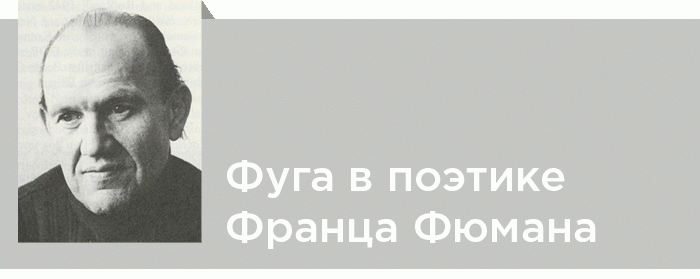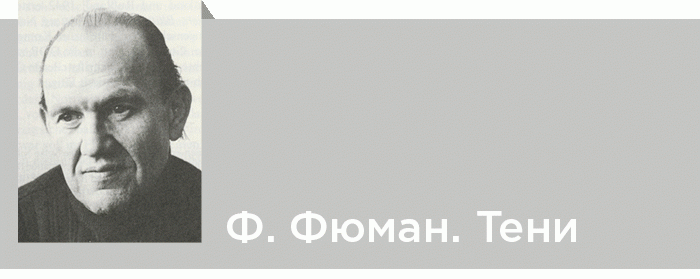Франц Фюман. Богемия у моря
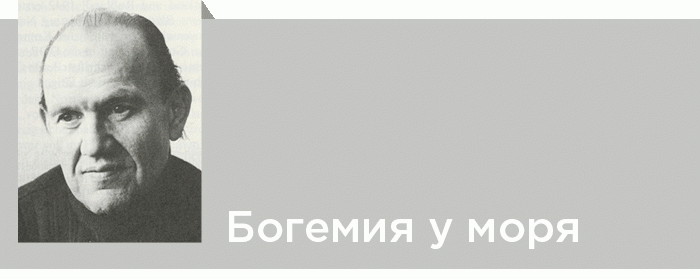
(Отрывок)
Ты убежден, что наш корабль
причалил
К Богемии пустынной?
Да, но только,
Боюсь не в добрый час: темнеет
небо,
Грозиг нам буря.
Шекспир, "Зимняя сказка"
Лишь через десять лет после войны мне довелось снова поехать к морю. Час моего отъезда казался сказочным сном, он запомнился мне на всю жизнь, как запоминается единственная березка, растущая на выжженной земле. Я люблю море. Все мы, уроженцы Богемии, этой милой земли, далекой от побережья, любим море, грозную пустыню волн и туч, мучительной любовью, а я родом из Богемии и двенадцать лет уже не видел моря. Семилетним мальчуганом я побывал на берегах Адриатики и с той поры сохранил в памяти картину безмерной колышущейся голубизны и огромных, сочных, буйно разросшихся растений, лето перед войной я провел на одном из островов Северного моря, а потом, уже солдатом, плавал по Эгейскому морю, серому, ощетинившемуся бурными волнами, и море тогда было лишь пучиной, угрожавшей нам минами. Затем целых двенадцать лет я видел только сушу: русские равнины и груды берлинских развалин, потом я начал жизнь заново и вот теперь, впервые после войны, поехал к морю.
Стоял май, когда я отправился в Ц., рыбацкую деревушку западнее Ростока, стоял май, было еще прохладно, даже холодно, но мне хотелось побыть наедине с морем. Я вышел в коридор вагона и стал смотреть в открытое окно, мне казалось, что сквозь угольную копоть и паровозный дым до меня уже доносится соленый запах моря. За сосновыми лесами Брандонбурга вставали холмы, расстилались темно-зеленые луга, прорезанные, словно жилками, узкими канавами, горизонт был чист и ясен. Чувство безудержной радости овладело мной: я ехал к морю, впервые после войны я снова ехал к морю, я смогу пробыть у моря целых две недели, буду бродить по берегу и, как бы ни было холодно, каждый день буду купаться, строить крепости из песка и писать стихи, собирать ракушки и янтарь и плыть по течению времени, как водоросль по морской волне. Работа, с которой пришлось мне немало повозиться, была, наконец, завершена, мучительно трудная работа о днях войны, и теперь я хотел целых две недели писать лишь о чем-то приятном, пусть даже о сущих пустяках. Поезд, весело пофыркивая, мчался вперед, луга горбились тысячами болотных кочек, дубовые леса возвышались над поросшими ольшаником лощинами, мелькали луга, окаймленные камышами, ивы с обрубленными макушками топорщили свои растрепанные ветви, а среди зарослей тростника, среди лугов и ольшаников блестели четыре озерца, четыре совершенно круглых озерца, четыре капли серебра на темной зелени. На лугу лениво паслись коровы, черно-белые, тучные стада терпеливых животных, а из окна фыркающего поезда вылетел клочок бумажной салфетки и порхнул к ивам, словно первая чайка.
В Ростоке нам надо было сделать пересадку.
Когда мы проезжали через город, я протиснулся к окну вагона и увидел краешек моря, мутно-серый, зажатый камнями, на котором покачивалась рыбачья лодка под серым холщовым парусом, пахло йодом и солью. Потом мы поехали на запад мимо лугов и высоких лесов, где колыхались волны папоротника, вое время вдоль моря, только его не было видно, а потом я пересел на автобус и доехал по дороге, поднимавшейся вдоль гряды дюн, и мы прибыли в Ц., и я вышел из автобуса и услышал шум моря. Поставив чемоданы возле автобусной остановки на песок, я взбежал по дощатому настилу на дюну, и передо мной раскинулось бесконечное, серое, закипавшее под ветром море...
Открытое море, вот оно, перед моими глазами!
Я стоял на вершине дюны, и смотрел вдаль, и слышал в своем сердце удары волн. Было свежо, свежий майский день, голубовато-стальное небо и перекатывающиеся волны. Вдали волны трепетали, как улыбка, чуть скользящая по лицу моря, но потом волны вдруг вырастали и с грохотом катились к берегу-громада устремленной вперед воды, которая, все круче загибая свой гребень, стремительно надвигалась на сушу и била о берег могучими громыхающими валами. Слева от меня узкая лента берега бежала прямо и терялась в серой дали, сливаясь с водой, воздухом и землей, справа же берег круто поднимался от дюны к обрыву, образуя излучину, которая упиралась в отвесно падающую скалу цвета охры. У подножья охряного обрыва лежали три могучих валуна, гладких, тускло поблескивающих черных камня, у которых закипал прибой, и море своими самыми могучими валами достигало стены обрыва. Я стоял на дюне и смотрел, как катятся валы, я слушал рев ветра и грохотание валов, бьющих о берег, серебристые морские ласточки стремглав проносились над волнами, а я смотрел на море, на ласточек, на небо, и мне казалось, что я очутился в каком-то другом мире.
Долго стоял я так, глядя, как катятся волны, и пытался понять закон, подчинивший себе чередование волн от самых малых до самых больших, но не обнаружил в их чередовании никакого ритма, хотя и чувствовал, что какой-то ритм здесь скрыт. И в самом деле, ярость моря нарастала от волны к волне, чтобы в конце концов прорваться двумя, тремя могучими ударами, а потом снова падала до слабого прибоя, то седьмой, то восьмой или девятый, то вдруг после пятого и шестого одиннадцатый или двенадцатый набегающий вал был самым могучим, но потом, нарушая всякий порядок, гремящая масса воды задолго до своей поры перехлестывала маленькие волны, заглушая всей своей мощью их робкое бормотание. Конечно, здесь был какой-то ритм, но я не угадал его, возможно, определенное чередование волн повторялось через несколько дней или даже недель, а может быть, - кто знает-лет или целых столетий! Но хватит ломать голову! Я подвернул повыше брюки, снял ботинки и носки и осторожно вошел в море. Вода была холодной, вода была соленой, изумительно холодной и соленой, в воздухе пахло солью, дул свежий ветер, стальной голубизной отливало небо-невысокое, плоское, едва прикрывавшее море, а волны накатывались одна на другую.
В эту минуту я был совершенно счастлив. Я побежал вдоль берега к валунам, тускло мерцавшим в полосе прибоя. Охряной обрыв высился над валунами, и я заметил змеившуюся на нем трещину, самые неистовые волны докатывались до стены, и из трещины струились мелкие комочки глины. Меня обдало пеной, я побежал обратно к дюне, снова надел носки и ботинки и пошел к автобусной остановке. Чемоданы стояли, разумеется, на том же месте, где я их оставил, кому было здесь красть мои чемоданы! Я огляделся и увидел между шоссе и дюнами крытые камышом дома с зеленеющими палисадниками, по другую сторону шоссе простирались луга, перерезанные канавами, и по лугам брели коровы, тучные, с блестящими налитыми боками, я увидел ограду выгона и каемку камыша и снова выгон, который тянулся уже до самого горизонта.
Возле автобусной остановки расположились магазины, фотография, кооператив, маленькая лавочка промтоваров, за ней гостиница, а дальше, уже поччи на выгоне, стояла пекарня. Я спросил, где находится дом фрау Гермины Трауготт, который мне указали в Бюро путешествий: Цвеенхаген, 6, и кондуктор автобуса показал Мне на дом, стоявший между шоссе и холмами дюн, маленький одноэтажный, крытый камышом деревянный домик, окруженный кустами роз и украшенный вырезанными из дерева скрещенными лошадиными головами на коньке крыши, настоящий старый рыбачий домик у моря. Этот дом как нельзя более пришелся мне по душе, особых удобств он, как видно, не обещал, но я и не искал их, я отказался от предложения Бюро путешествий пожить в гостинице одного известного курорта и попросил устроить меня в каком-нибудь частном доме, мне хотелось иметь маленькую тихую комнату вблизи от моря, и этот дом предвещал исполнение моих желаний.
Я взял свои вещи и вошел в дом. Я увидел квадратную прихожую, справа за дверью что-то зашуршало, зашевелилось, потом оттуда вышла маленькая женщина, лет пятидесяти, и молча взглянула на меня.
- Я не ошибся? Вы фрау Гермина Трауготт?
Я, наверно, здесь самый первый курортник, - сказал я, а маленькая женщина безучастно смотрела мимо меня, а потом неторопливо вытерла руку о грубый передник в серую и голубую полоску и тихо сказала:
- Да.
Потом она достала из кармана передника ключ, кивнула мне и молча прошла мимо меня к выходу.
Я последовал за ней, обходя сторонкой стайку кур, рывшихся во дворе, и обогнул дом. Фрау Трауготт открыла дверь с другой стороны дома, дверь вела в комнату, точно такую, какую я ожидал увидеть: низкая, уютная горница с широким трехстворчатым окном и коричневым деревянным полом, в ней стол и стул, шкаф и кровать, столик с белым фаянсовым умывальником, окрашенные в зеленый цвет стены, на которых не висело ни одной картины. За окном виднелись дюны: трава колыхалась под ветром, по небу плыли облака, - кому нужны здесь намалеванные на картоне розы или морской прибой! Фрау Трауготт остановилась в дверях, до этого она молча шла впереди меня, а теперь остановилась в дверях, все еще вытирая руки о полосатый серо-голубой передник, смотрела на комнату и не произносила ни слова.
- Прекрасная комната, - сказал я, - как раз такую мне и хотелось, фрау Трауготт!
- Да, сударь, - сказала женщина без тени улыбки на лице.
Она стояла в дверях, продолжая вытирать руки о передник. Она была невысокая, лицо у нее было доброе, лицо много поработавшего на своем веку человека, круглое, с небольшими скулами, курносым носом и поджатыми губами, на висках-морщины, сбегавшие от уголков глаз к маленьким, чуть заостренным ушам. Беззлобное и, пожалуй, даже веселое лицо, только взгляд ее глаз был удивительно пустым. Неподвижные, лишенные блеска глаза глядели куда-то вдаль, широко раскрытые, они казались невидящими, и это придавало ее лицу ка"
кое-то призрачное выражение. Но тогда я не задумался над этим, мне хотелось поскорее пойти к морю, и, распаковывая свои чемоданы, я задавал обычные для приезжего вопросы, а фрау Трауготт скупо отвечала мне, удивительно тусклым голосом, под стать ее потухшему взгляду. Я спрашивал, где смогу обедать, где мне надо зарегистрироваться, ожидается ли хорошая погода и есть ли другие гости в ее доме, а фрау Трауготт отвечала: "В-гостинице", отвечала: "У бургомистра", отвечала: "Не знаю", отвечала: "Нет", и все это тусклым голосом, без всяких жестов. Я продолжал распаковывать чемоданы, и вдруг в разгар моей работы она тихо пробормотала, словно повторяя с трудом заученные слова:
- Вам к завтраку подавать три или четыре булочки, сударь?
- А нельзя ли просто черного хлеба? - спросил я, и этот вопрос, казалось, привел ее в смущение,
некоторое время она стояла молча, потом таким же тусклым голосом сказала: "Я узнаю", медленно повернулась и безмолвно вышла, закрыв за собой Дверь.
"Хорошо хоть, она не балаболка", - подумал я и еще подумал, что когда-нибудь я узнаю причину ее странного поведения. Я подумал также, что она, судя по говору, нездешняя, потом мысленно одернул себя: я приехал сюда отдыхать, а не интересоваться чужими судьбами. Быстро разложив свои вещи, я надел тренировочный костюм и захватил с собой книжку карманного формата. Мне хотелось подольше побродить по берегу, побродить часа два, три, а потом посидеть где-нибудь на дюне и почитать книжку, которую я до сих пор еще не читал, хотя уже много лет тому назад она тенью вторглась в мою жизнь: это была "Зимняя сказка" Вильяма Шекспира. Засовывая книгу в карман, я еще раз взглянул в окно: во дворе, окруженная курами, фрау Трауготт качала воду. Я наблюдал за ее движениями, которые были удивительно безжизненны, как и ее взгляд и ее голос, она качала воду однообразными взмахами руки, слегка наклонившись вперед, но корпус ее и голова оставались неподвижными. Она качала воду, как машина, и, наполнив два двадцатипятилитровых ведра, потащила их в дом, опять слегка наклонившись вперед и тяжело ступая. Я выбежал, чтобы помочь ей, встретил ее в передней и успел только отворить дверь в кухню. Она поставила ведра и чуть слышно сказала:
"Спасибо, сударь", глядя мимо меня, куда-то в угол.
- Я пойду к морю, фрау Трауготт, - сказал я,
а фрау Трауготт, стоя в кухне, вытирала о передник руки. - Может, я вернусь поздно, так вы, пожалуйста, не беспокойтесь, - сказал я, а фрау Трауготт чуть слышно прошептала: "Хорошо, сударь".
Потом она вдруг спохватилась и закрыла дверь.
"Странно, - подумал я, но потом подумал: - А какое мне до этого дело?" - и побежал вниз по дюне, к морю.
Я шел по берегу, сам не зная куда. Обрыв остался позади. Я шагал по влажному песку, который пружинил под ногами, грохотали волны, дул ветер, однообразие бесконечности обволакивало меня. Не знаю, сколько времени я так шел, мне казалось, что время давно остановилось, что здесь не кончаются сумерки и не начинается день, здесь только холодная, обдувающая тебя грохочущая хмарь, в ^которую входишь и теряешься в ней. Прилетели чайки, остроклювые дочери бури, жадно кричащие сгустки колышущегося воздуха. Я шел, и они появлялись у меня перед глазами и исчезали, уносимые ветром, новые стаи, как молнии, проносились мимо и пропадали без вести в бушующей стихии. Над грядой дюн колыхалась густая трава, словно бровь на лице моря. Глядя на колыхание травы, я вспомнил вдруг свою хозяйку, я представил себе ее стоящей в дверях, с безжизненными глазами, тусклым голосом, и образ ее заслонил от меня чаек и берег моря. Я пытался избавиться от этого наваждения, но мне не удавалось. "Какое мне, черт возьми, дело до этой женщины! - ругал я себя. - У меня отпуск, я не желаю забивать себе голову чужими заботами, я хочу отдохнуть!" Но чем больше я старался изменить направление моих мыслей, тем отчетливей и настойчивей представал передо, мной образ этой женщины: вот она стоит, маленькая, с потухшим взглядом, вытирая руки о полосатый передник.
"Ну, а теперь хватит!" - сказал я, наконец, уселся у подножья дюны и, достав свою книжку, отдался во власть потоку ямбов, уносившему меня в бесконечное море поэзии. Действие сказки происходило в королевстве Сицилии и в королевстве Богемии, все началось в Сицилии, благоухание цветов апельсина и яростный гнев, а потом передо мной и вправду предстала Богемия, и Богемия эта лежала у моря. Это была суровая страна, где бродили медведи, она лежала у сурового Северного моря, и разбушевавшиеся волны уносили моряков с разбитых у ее побережья кораблей в черную бурлящую бездну.
Богемия у моря! Я читал, слыша, как шумит море, как ветер шелестит травой на дюнах, я читал про Богемию, про королеву, которая вот уже шестнадцать лет, как умерла, про статую из камня, удивительно похожую на королеву, - эта статуя возвышалась на постаменте, и король, виновник гибели королевы, после шестнадцати лет покаяния решился подойти к этой статуе, он упал на колени, схватил каменную руку, и-о чудо! - рука оказалась теплой, и статуя открыла глаза, и статуя, каменная статуя, сошла с постамента и заговорила, и тут я вновь увидел перед собой безжизненные глаза фрау Трауготт.
С досадой я отложил книгу. Оставалось лишь несколько страниц, но мне не хотелось их дочитывать, ведь все кончилось хорошо, умершая воскресла, король был прощен, и дальше шла мораль. Я отложил книгу в сторону, я видел перед собой фрау Трауготт, ее пустые, безжизненные глаза. Кто сделал ее такой?
Кто превратил ее душу в камень, какую тайну скрывал ее тусклый голос? "Чепуха!" - сердито подумал я и еще подумал, что ищу здесь какие-то тайны, которых вовсе нет. Она, наверно, просто стесняется, подумал я, у нее какие-то свои заботы или нелады с мужем, какое мне до всего этого дело!
Я страшно проголодался. Солнце стояло высоко в небе, было не меньше двух, а то и четыре часа, точно я не знал. Вдруг берег загрохотал: застучали сотни копыт, гнали коров. Черные, в белых пятнах коровы, заполнив узкую полосу берега, тянулись мимо меня погоняемые двумя пастухами, молодым и старым, совсем так, как в сказке, которую я прочел. Стадо, вокруг которого с лаем бегала собака, брело мимо меня, я шел среди стада вдоль гремящего берега, пахло коровами, выгоном, навозом и жвачкой-запахи моего деревенского детства. Богемия у моря! Коровы шумно сопели, подпасок хлопал палкой по боку тучной коровы. Богемия у моря!
Я смотрел на дюну, она высилась на фоне неба, высокая и круглая, - край света, я смотрел на дюну, и она круглилась огромным поросшим травой куполом, а дорога сворачивала вниз, в долину, куда я шел и куда стягивались стада. С неба сползала серая влажная хмарь, тяжело опускаясь на вершины гор, горы были испещрены, изрезаны ущельями, зелеными ущельями, склоны круто обрывались, открывая сосны и ели, луга на скатах, пруды и ручьи, огороженные выгоны, а на холме желтую деревянную ча-^ совню. Правый'склон горы я видел, левый лишь ощущал, с горы спускалось стадо, хлева были недалеко, пахло травой. Богемия у моря! Пространство растеклось, время распалось, я плыл по времени, как водоросль по морской волне, на какой-то миг я потерял сознание, ничего больше не видел и не слышал, какой-то миг я не понимал, где я, но потом оцепенение прошло, и я почувствовал, что снова стою в прихожей моего родительского дома.
Я зажмурился, в прихожей было сумрачно, скрипела деревянная лестница. Я бросился вверх по лестнице, швырнул в угол школьный ранец и распахнул дверь в комнату. "До чего есть хочется!" - крикнул я, с шумом захлопнув за собой дверь, и тут я увидел в комнате какого-то господина, сидящего в мягком кресле, подтянутого, выхоленного господина с короткими светлыми волосами и коротко подстриженными бакенбардами, он был в больших очках без оправы, с золотым мостиком, курил сигару и что-то говорил моему отцу, который стоял у серванга и открывал бутылку вина. Я не слышал, что говорит этот господин в очках с золотым мостиком, я только видел, как он говорил, как шевелились его губы, но ничего не слышал. Вдруг комната пришла в движение, мягкое кресло, в котором сидел неслышно разговаривающий господин, стремительно надвинулось на меня, а сервант с моим отцом отъехал назад, так, что всю сцену я видел как бы в двух планах: спереди, крупным планом, мягкое кресло с господином, а сзади-маленький, совсем крошечный сервант с моим отцом, господин в мягком кресле, заложив ногу на ногу и посасывая си-, гару, опять заговорил, и я вдруг стал отчетливо слышать каждое его слово.
- Богемия у моря, разве это не смешно? - спросил он и посмотрел на меня, и я увидел его глаза, увеличенные стеклами очков, глаза искрились и сверкали. - Великий Шекспир запросто поместил Богемию у моря, - сказал он, - так что вы сами видите, любезнейший, какого мнения он был об этом народе! - Он щелкнул пальцами. - Не столь уж высокого, - сказал он, - не столь уж высокого! - И он снова щелкнул пальцами и потом тщательно вытер руку носовым платком.
Вдруг сквозь потолок въехали носилки, и тогда этот господин простер руку и указал на меня, он стал расти и сделался совсем желтым и будто замер, но все указывал рукой на меня, и я вдруг страшно испугался и хотел убежать, но ноги мои не двигались. Тогда я увидел, что на руке, которая приближалась ко мне, пять пальцев, это меня очень удивило, и я еще больше испугался. Я закричал, но крик застрял у меня в горле, я только шевелил губами и хватал воздух, как рыба. "Поклонись, да поживее!" - сказал мой отец, стоя у серванта, и тогда я, поняв, в чем мое спасение, стал быстро отвешивать поклоны, глядя на лакированные ботинки и шелковые носки сидящего в кресле человека, который продолжал расти, едва не проломав потолок комнаты головою. Я испытывал жгучий страх и взглянул на отца, ища у него помощи, но вместо моего отца там стоял человек в черной накидке и черном шелковом берете и поигрывал черепом, он налил в череп вина до самых краев, высоко поднял его и во все горло крикнул какое-то грозное, грохочущее слово, поднялся грохот, комната загрохотала, толчок сотряс комнату, грохочущий толчок, и все исчезло, и коровы проворно бежали мимо, и тявкала дворняжка. Мой сон средь бела дня как рукой сняло, и теперь я открытыми глазами взглянул на тот мрачный час в моей жизни. Час, когда я узнал, что мы, немцы, предназначены владеть всем миром, и весть об этом была для меня тогда слаще, чем стакан вина, который позволили мне в тот день выпить. Это был весенний день, мне было двенадцать лет, голодный, я примчался из школы домой, распахнул дверь и увидел в комнате незнакомого гостя, который горячо убеждал в чем-то отца, а отец, стоя у серванта, открывал бутылку вина, ввинчивая штопор в пробку, он сказал, чтобы я поклонился как можно почтительнее, потому что стою перед самим господином бароном фон Л., дворянином, поборником пангерманства в Чехословакии.
Я быстро поклонился - так почтительно, как только мог, - едва не коснувшись лбом коленей, и господин барон рассмеялся и протянул мне руку, а я украдкой наблюдал за ним сквозь прищуренные ресницы и никак не мог понять, почему такая важная персона, которой принадлежит вся земля в округе, внешне ничем не отличается от всех прочих людей. Но барон, выглядевший как и все люди^ протянул мне руку и спросил, знаю ли я, кто такой Шекспир, а я гордо ответил: "Так точно, господин барон!", и пересказал содержание "Гамлета", "Макбета" и "Отелило", и барон сказал, что я настоящий книжный червь, а потом заговорил о "Зимней сказке" Шекспира и о том, что великий Шекспир поместил Богемию у моря и что из этого можно заключить, как ничтожен этот народ. Я громко засмеялся: Богемия у моря! И мой отец засмеялся, и барон, смеясь, сказал, что Шекспир может оказаться прав, по крайней мере в будущем. Этого я не понял, и мой отец, видимо, тоже, так как недоуменно развел руками и вопросительно взглянул на барона, и тогда барон разъяснил нам, слушавшим его затаив дыхание, дальнейший ход истории: германский рейх расширится до Урала, и все, кто не принадлежит к немецкой нации, будут выселены из этого пространства в Сибирь, и тогда Богемия окажется, возможно, у полярного моря, и барон предложил поднять за это бокал.
- Великолепно, просто великолепно! - воскликнул мой отец, а барон сказал еще, что народы не могут больше жить, не завися друг от друга, значит, остается лишь одно: подчиниться германским законам или быть вычеркнутыми из истории. Отец наполнил бокалы, а я молча, охваченный благоговением и робостью, смотрел на барона, который передвигал народы, как пешки на шахматной доске, в моих глазах он был богом, повелителем судеб, потом мы выпили за Богемию у полярного моря, а когда спустя много лет я вернулся домой из русского плена, научившись правильно понимать вещи вроде тех, о которых говорил барон, мне захотелось прочитать пьесу, декорации которой были уже мне знакомы: Богемия у моря. Я часто держал в руках эту пьесу, но всякий раз срочная работа вклинивалась между мной и книгой, так что в конце концов я дал себе что-то вроде клятвы прочитать ее при первой же моей встрече с морем. Вот я ее и прочитал, правда, не до конца, я получил наслаждение от прекрасных стихов и познакомился при этом с двумя Богемиями у моря, и в обеих Богемиях была женщина с безжизненными чертами лица, и мне вдруг стало страшно. Я снова вспомнил тусклый голос фрау Трауготт, вспомнил ее акцент, свойственный людям, жившим на моей бывшей родине, и мне стало ясно, что она переселенка. "О боже, теперь она начнет меня спрашивать, вернемся ли мы когда-нибудь снова в Богемию!" подумал я и еще подумал, что опять начнется разговор, который мне уже не раз приходилось вести с переселенцами, разговор о том, что выселение было неизбежно и что надежда вернуться обратно обманчива и опасна.
Я никогда не боялся таких разговоров, ведь я сам был переселенцем и одобрял территориальное размежевание двух соседних народов. В пользу этого говорили все справедливые доводы, за аргументами я бы не постоял, но только какие аргументы годились в данном случае? Этого я не знал и вместе с тем чувствовал/что все больше и больше меня трогает судьба женщины, говорившей странным, беззвучным голосом, смотревшей потухшими глазами, и это беспокойное чувство не покидало меня.
"Я поговорю с ее мужем, конечно же, так оудет всего верней", - подумал я, и эта мысль снова принесла мне успокоение. Я зашел в гостиницу и съел вполне заслуженный мною ужин: холодное ассорти из мяса. Потом я купил себе бутылку рома и отправился домой.
Фрау Трауготт стояла во дворе и чинила курятник. Она оторвала от стены курятника три гнилые доски и прибивала на их место новые. Я поздоровался с ней, она опустила молоток и гвозди и чтото пробормотала, посмотрев на меня, вернее, мимо меня. Я хотел пройти в свою комнату, но, увидев, как она стоит с молотком и гвоздями в руках, наклонившись вперед, устремив взгляд на поросшую травой дюну, вдруг пожалел ее. Мне захотелось сказать ей что-нибудь приятное, и я предложил ей свою помощь, но она своим обычным тусклым голосом сказала, что не смеет об этом просить, и по одной этой фразе мне стало совершенно ясно, что она родом из Богемии.
- Я охотно помогу вам, фрау Трауготт, - сказал я и, взяв у нее молоток и гвозди, стал прибивать доски к стенке курятника. Она не возражала, смущенно стояла возле меня, потом вдруг выпрямилась и сказала: "Тогда я пойду приготовлю вам чаю", и медленно пошла на кухню.
"Она такой человек, который ничего не хочет брать даром", - подумал я, продолжая забивать гвозди, и, когда я прибил доски, появилась фрау Трауготт со своим подносом.
- Готово, - сказал я, отложил в сторону молоток и открыл фрау Трауготт дверь в мою комнату, она сняла с подноса чайник, стакан и маленькую сахарницу, а я откупорил бутылку рома и пригласил фрау Трауготт выпить со мной стаканчик грога.
- Сейчас прохладно, стаканчик грога вам не повредит, - сказал я, но фрау Трауготт молча покачала головой и оправила свой передник. Я сказал, что она, наверно, ждет мужа, и поэтому не хотел бы ей мешать, но она снова покачала головой. Я придвинул ей стул и предложил сесть, но она продолжала стоять.
- Ваш муж в отъезде, фрау Трауготт? - спросил я.
Она промолчала, в третий раз покачав головой.
- Он погиб, - сказала она, помедлив.
Я закусил губу.
- На войне, - сказала она и медленно повернулась, намереваясь уйти.
- Останьтесь же, фрау Трауготт! - поспешно проговорил я и с мягким усилием усадил ее на стул, потом достал из чемодана чашку и смешал ром с дымящимся чаем. Фрау Трауготт неподвижно сидела на краешке стула, не решаясь притронуться к налитому стакану. Чтобы помочь ей преодолеть смущение, я начал восторженно рассказывать о море, о побережье, а она сидела передо мной, как каменное изваяние.
- За ваше здоровье, фрау Трауготт! - сказал я и поднял стакан. Фрау Трауготт робко протянула руку, взяла стакан и отпила глоток, какое-то время она нерешительно держала ' стакан у губ, потом допила его и поспешно поставила опять на стол.
Я налил ей еще и спросил, живет ли она здесь одна, и она сказала: "Да". Я спросил, есть ли у нее дети, и она сказала: "Мальчик". Я спросил, сколько ему лет, и она сказала: "Пятнадцать". Я спросил, где он, и она назвала районный город. Я спросил, что он там делает, и она сказала, что учится в школе. Потом я уже не знал, о чем ее еще спросить, откуда она родом, спрашивать мне не хотелось, я помешивал ром в своей чашке, фрау Трауготт неподвижно сидела на краешке стула, и я почем зря ругал себя за то, что смутил робкую женщину своим упрямым писательским любопытством, но такова уж роковая особенность нашей профессии.
Я снова заговорил, расхваливая красоту здешних мест и деревушки, сказал, как хорошо я себя здесь чувствую, а фрау Трауготт повторяла свое:
"Да, сударь", - и глядела, как за окном колышется на дюне трава. Потом она вдруг слегка наклонилась вперед и тихо, чуть-чуть торопливее, чем обычно, зашептала: "Если бы только не это море, сударь, море еще всех нас унесет!" Неожиданно я понял, что страх перед непривычным морем сломил ее во^лю к жизни, отсюда и безжизненный взгляд и тусклыи голос. "Они хотят его прибить гвоздями, прибить море гвоздями, вот ведь беда!" - снова зашептала она, блуждая взглядом по колыхавшейся на дюне траве. Прибить гвоздями? Я не понимал ее. Может, она в уме повредилась? Я смотрел, как ста сидит передо мной на краешке стула, крохотная, съежившаяся, с добрым беззлобным лицом, исказившимся от страха, со взглядом, устремленным вдогонку ветру.
Она смотрела, как колышется под ветром трава, а меня охватывал страх. Она вся съежилась и, слегка приподняв руки, словно защищаясь, зашептала:
"Вода нахлынет, сударь, она отступит, возьмет разбег и нахлынет, ведь стена-то уже дала трещину и..." Она содрогнулась и неожиданно оборвала шепот, как будто ее слова уже сами по себе могли навлечь беду.
- Кто это собирается прибивать море гвоздями? - спросил я, пытаясь скрыть свой испуг. Но фрау Трауготт ничего не ответила. Она не сводила глаз с окна. Я предложил ей выпить еще стаканчик, но больше пить она не стала. Мне очень хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, хотелось утешить ее, и я сказал, что спокон веку здесь не было никаких наводнений и совершенно исключено, чтобы прилив перехлестнул когда-нибудь через дюны.
И все же я чувствовал, что все мои слова так же тщетны, как тщетна попытка услышать шепот в реве бури. Разговоры не помогали, надо было что-то предпринять, надо было помочь этой женщине преодолеть страх перед морем. Я осторожно спросил, не переселенка ли она. Фрау Трауготт медленно подняла голову. "Ведь вы тоже, сударь", - тихо сказала она. А когда я спросил, откуда она это знает, она, помолчав, ответила: "По говору".
Я назвал ей место, где я родился, а она все с таким же безучастным лицом назвала свою родину. Это оказалось по соседству с той горной деревушкой, где я вырос, я родился в горах, она - в долине. Я спросил, чем она занималась, и она ответила, что работала в поместье, и еще я узнал, что муж ее тоже работал в поместье, а потом стал солдатом и погиб в 1943 году в Африке, а она осенью 1945 года со своим пятилетним сыном приехала сюда, в Ц. Все это она рассказала не сразу, а лишь отвечая на мои многочисленные вопросы. Я спросил, есть ли тут другие переселенцы. Она кивнула, потом снова стала смотреть в окно, не произнося ни слова. Я понял, что больше ничего от нее не добьюсь, и извинился, что отнял у нее время. Фрау Трауготт покачала головой, взяла поднос со своим стаканом и вышла из комнаты.
За окном завывала буря. Ветер бешено трепал на дюне траву. Взошла луна, желтая, как лимон.
Фрау Трауготт прошла, сгорбившись, по двору, и я представил, как она, такая же сгорбленная, стоит на помещичьем поле. "Надо помочь ей, - подумал я, - надо отправить ее подальше от моря, пока она совсем не помешалась". Судьба ее казалась мне вполне ясной: батрачка у помещика, измученная, забитая, короткое время замужества было, вероятно, единственно счастливым в ее жизни, но муж ее ушел в армию, а потом погиб, а потом ей пришлось покинуть родную деревню и очутиться одной с ребенком у моря, этого незнакомого, никогда не виданного рычащего моря, и море бесновалось, штормило, и тогда-то в душу ее вкрался смертельный ужас и сломил её волю к жизни, а теперь ей надо помочь, пока еще не слишком поздно и пока она совсем не потеряла рассудка. Разделившие с ней ту же судьбу другие переселенцы, как видно, прижились здесь, они не были так одиноки, как эта женщина. И я снова увидел ее безжизненные глаза, и вдруг я снова увидел барона. Я увидел его сидящим, заложив ногу на ногу, в мягком кресле, с бокалом вина в руке, и я увидел женщину, которая гнула спину на его поле, и увидел, как я сам чокаюсь с бароном, а потом увидел себя солдатом армии, которая выступила в поход, чтобы положить конец самостоятельности народов, я сжал руками голову и понял, что судьба этой женщины неотрывна от моей собственной.
На следующее утро я пошел к бургомистру.
В канцелярии я его не застал, секретарша сказала, что он ушел на строительство дамбы, и добавила, что я могу найти его недалеко от обрыва, километра два оттуда. Я поблагодарил ее и отправился в путь.
Ветер переменился, теперь он дул в сторону моря и отгонял от берега воду, которая отчаянно сопротивлялась. Тучи кружились клочьями, над зеленой отмелью взлетали брызги пены. Я пытался себе представить, что произойдет, если ветер снова переменится и прилив с грохотом обрушится на берег, я пытался увидеть этот прилив безжизненными глазами фрау Трауготт, и я увидел бушующее море, серые пасти бегемотов, лязгавших зубами и брызгавших пеной. "Почему ей раньше не помогли? - сердито подумал я. Неужели не замечали, что она здесь чахнет от вечного страха..." Я подумал о бургомистре этой деревни и решил, что он один из тех бюрократов, у которых глаза хоть и открыты, но мало что видят, они не способны разглядеть человека в его горе и в его счастье.
Тем временем я ушел уже далеко, теперь берег медленно спускался охрово-красными террасами и тянулся на высоте дюн, изрезанный зубцами, образуя неоглядную излучину до самого горизонта. На берегу я заметил толпу людей, а когда подошел ближе, то увидел, что море и впрямь прибивают гвоздями: на громадных, грубо отесанных каменных плитах, которые, как шпора, одна за другой тупо вонзились в бок моря, стояли одетые в кожаные штаны и куртки люди, они стояли возле рельсов откаточного пути, где, подбрасываемая паром, сверху падала чугунная баба, забивая в волны толстую сваю. С каждым выхлопом слышался грохот и треск. Я видел, как облако пара рассеивалось под ворывом ветра, кожаная одежда людей в этот пасмурный день отливала серовато-черным блеском, а молот копра удар за ударом с грохотом бил по шляпке толстого ^коричневого гвоздя, по сантиметру уходившего в морское дно. Это было великолепное зрелище. Какое-то время я наблюдал за работой, потом стал искать глазами бургомистра. Его я нигде яе видел, кругом стояли одни рабочие. Я спросил, здесь ли бургомистр, и оказалось, что он один из тех, кто стоял у копра в кожаных спецовках: худощавый мужчина лет пятидесяти, с обветренным лицом в глубоких морщинах, открытым взглядом и сильными руками. На мой вопрос он ответил, что он действительно бургомистр и, как только улучает возможность, работает здесь, на строительстве дамбы, дело это срочное, рабочих рук не хватает, а попусту околачиваться в канцелярии не в его привычках. На речь бюрократа это было не похоже, бургомистр мне понравился, и поэтому без обиняков я сказал ему, что живу у фрау Трауготт и хотел бы поговорить с ним о невзгодах этой женщины, но бургомистр вздохнул, посмотрел в даль моря и сказал, что это тяжелый случай.
Произведения
Критика