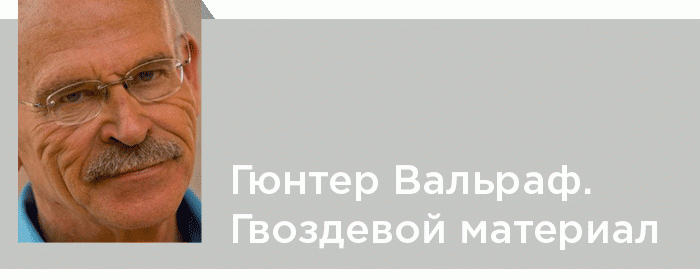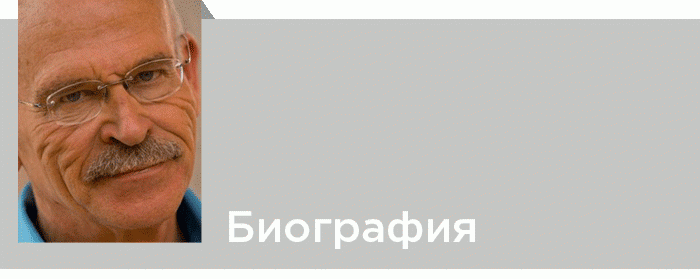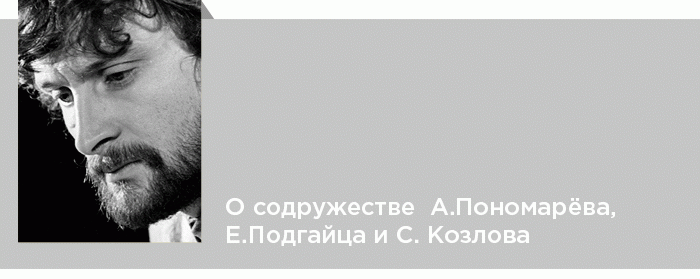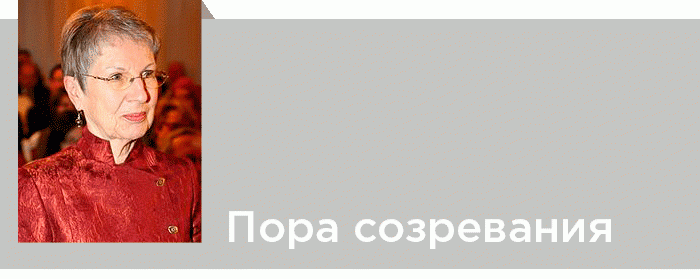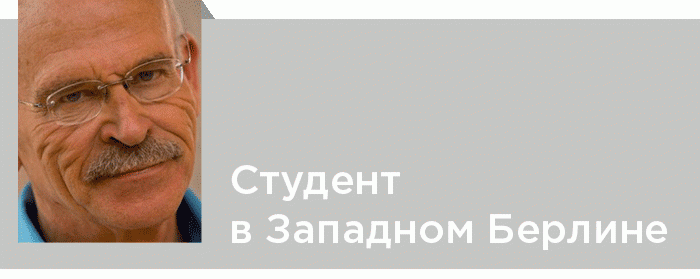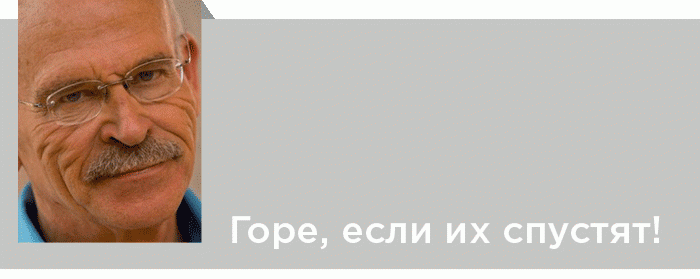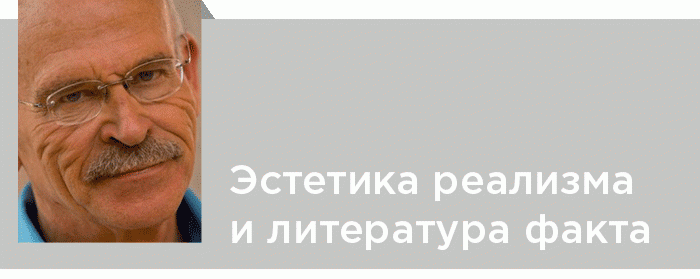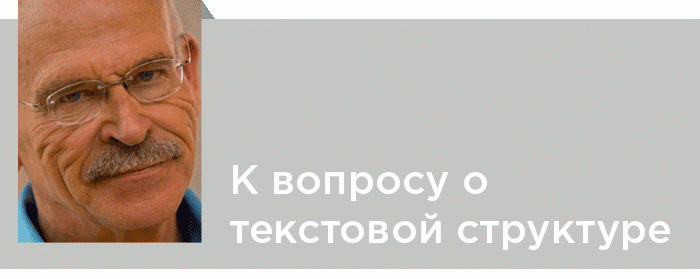Гюнтер Вальраф. Напалм? О, конечно, почему бы и нет?!
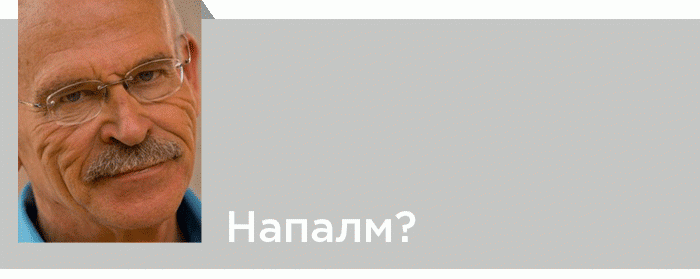
Напалм — это продукт химии, интенсивно горящий, с трудом поддающийся тушению землей или водой. Огонь пожирает жертву на глазах оцепеневших от ужаса людей. Цель этого оружия двоякая: подвергнуть терзаниям жертву и сломить волю к сопротивлению у выживших. США используют напалм для уничтожения вьетнамских деревень; уже длительное время он служит обычным оружием, применяемым против гражданского населения. Во Вьетнаме напалмом жгли больницы, школы, санатории и поликлиники" (Бертран Рассел, «Напалм и массовое убийство»).
«Напалм легко прилипает к коже человека, его невозможно потушить, он горит долго (до 15 минут) и причиняет тяжелейшие ожоги. Смертность при ожогах от напалма очень высока (в среднем 35 процентов в очаге пожара и еще 21,8 процента в больницах). Напалм вызывает ожоги третьей степени, т. е. глубокие раны. Напалм горит долго, температура горения достигает 1000° С. Мягкие ткани часто прогорают до кости. Ожоги от напалма заживают медленно и оставляют обезображивающие рубцы» (из шведского сборника документов «Напалм»).
«При взрыве полутонной напалмовой бомбы возникает стена огня шириной в 60 метров, катящаяся с глухим грохотом и сжигающая все на своем пути. Вблизи зоны огня всему живому угрожает смерть от удушья, ибо напалм горит с такой интенсивностью, что расходуется весь кислород воздуха» (проф. Б. X. Франклин, Стэнфордский университет, США).
«Во Вьетнаме потребность в протезах рук и ног в настоящее время выше, чем когда-либо в мире, а их запас ограничен. Для гражданских лиц их, во всяком случае, не хватает. Самые ужасные ожоги из виденных мною явились следствием напалма. В месте, где горящий напалм попадает на кожу, тело спекается, образуя бугры. Для лечения этих ран не хватает ни медикаментов, ни врачей...
Этим оружием было сожжено более чем 1400 деревень. Каждый месяц война убивает или калечит тысячи людей. Раненые лежат на деревянных нарах, часто по двое, на носилках в коридорах, везде...» (М. Геллхорн, американский журнал «Лэйдис хоум джорнел»).
Чтобы иметь право задавать вопрос о моральной ответственности, я придумал следующую ситуацию: «Я, владелец химического завода, нашел дешевый способ производства пальмитата натрия (главной составной части напалмовой бомбы). Получил крупный заказ от американской армии. Могу рассчитывать и на другие крупные заказы. Но меня одолевают сомнения. Мне известны ужасающие последствия действия этой бомбы. Я капиталист-католик, меня мучают угрызения совести, и я спрашиваю совета: позволено ли мне, могу ли я, должен ли я принимать заказы, выполняя которые буду способствовать войне?»
Вначале звоню во Франкфурт, в Католическое бюро, дающее советы по телефону. Дежурный капеллан заинтересовался. Просит изложить подробнее. Не перебивает. Его первая реакция: «Не хотел бы я быть в вашей шкуре». И совет его такой же внезапный: «Я не стал бы с этим связываться... слишком все это отвратительно во Вьетнаме, из-за жестокости янки...» К тому же, поскольку мой напалм обойдется дешевле, чем у других фирм, его поставка означала бы «финансовую поддержку войны». Даже если бы эта война была справедливой — чего он не считает,— должен был бы встать вопрос о моральной ответственности производителя оружия, вызывающего столь чудовищные раны. Благодарю его и заверяю, что откажусь от поставок. Еще две-три беседы с тем же результатом — и опрос, мне самому не очень приятный, можно было бы закончить.
Но дело принимает иной оборот. В церкви маленького городка близ Франкфурта второй раз задаю мой вопрос. Опускаюсь на колени в исповедальне и объясняю, что пришел не исповедоваться, а просить совета. Меня выслушивает молодой священник; рассказываю о заказе и о баснословных прибылях, на которые можно рассчитывать.
— Считаете ли вы, что я стану участником преступления? — спрашиваю я в заключение.
Он подходит к этой проблеме с иной стороны: отнюдь, о преступлении и речи быть не может. Это всего лишь решение, которое нужно принять лично, посоветовавшись с богом. И далее, совершенно все равно... какое я приму решение, главное в том, что это решение принято с участием господа.
Мое возражение: «Сейчас я, пожалуй, мог бы согласиться. Но позже, позже, боюсь, меня замучает совесть, если в конце концов выяснится, что эта война такая же агрессивная, как та, которую вел Гитлер», кажется, производит на него впечатление:
— Верно, да, да, да. Прежде всего нужно принять во внимание, какое впечатление ваш поступок произведет на других, не так ли?! Ведь потом могут сказать, он, мол, католик, а помогал в неправом деле, и это может легко привести к неприятностям со стороны официальных властей!
Единственная причина не принимать заказов, по его мнению, не в морали, а в этике.
— В этом случае скажут: вот, мол, предприниматель-католик, тогда ответил «нет». Это может произвести великолепное впечатление, и люди поймут, что в данном случае католик поступил мужественно, с пониманием своей ответственности.
Я пояснил:
— Не думаю, чтобы это играло потом какую-нибудь роль, ведь заказы эти совершенно секретные.
Тут он меняет точку зрения:
— Молитесь святому духу, чтобы он ниспослал вам праведное решение.
И если я «...с его помощью приму то или иное решение, мне не о чем будет беспокоиться». Надо лишь сказать себе: «Я делал это при участии бога, просил у бога совета, и меня осенило свыше в тот момент, что это хорошее деяние... а угрызения совести и все, что будет потом, пусть меня не волнуют; с морально-теологической точки зрения дело лишь в мгновении перед принятием решения, и в самом решении, и прежде всего в том, что решение это принято с участием бога». Вот как это просто, если есть алиби в лице бога.
Собираясь подняться с колен, я говорю:
— Так я и не понял, следует мне это делать или нет. Он все еще продолжает уповать на бога.
— Подождите,— останавливает он меня,— я хочу вас благословить: во имя отца и сына и святого духа, аминь.
— Аминь,— повторяю я и ухожу.
В притворе висит кружка для пожертвований, украшенная маленькой фигурой негра. Бросишь монету, и негр кивнет. Рядом щиток, на котором от руки написано: «Деньги из кружки извлекаются ежедневно, взламывать и красть смысла не имеет».
На следующий день отправляюсь в монастырь, расположенный в небольшом городке неподалеку от автострады Франкфурт — Кёльн. В монастырской церкви есть несколько ниш, они освещены свечами и в каждой — алтарь: святого Иуды, святого Иосифа и святого Винцента, особенно богато украшен алтарь некоего безымянного святого, фигура из камня, опирающаяся на меч, на голове — стальной шлем: неизвестный солдат. «В память о братьях, павших в 1814—1818 гг.»,— начертано на каменном цоколе.
Обращаюсь к брату привратнику:
— Мне нужен совет. Хотел бы побеседовать со священником.
Он посылает меня в одну из приемных. Минут через пять появляется монах лет семидесяти, в черной сутане. Рассказываю ему свою историю.
— Напалм? Что это? — переспрашивает он.— Вьетнам, а что там, собственно, происходит?
Описываю действие напалма:
— Это страшнее фосфора, прожигает тело, его невозможно потушить. Тело спекается в бугры, гноится. Я видел фотографии детей, жертв напалма. Трудно представить себе, как они искалечены. Монах рассеивает мои сомнения:
— Пусть совесть вас не мучает, ведь вы не бросаете бомбу, а бросят бомбу или оставят на складе — это совсем другой вопрос.— Речь его очень рассудительна: — Что ж, тот же вопрос можно задать, когда призывают человека в армию. Он ведь тоже ничего не может поделать. Ясно, ответственность несут облеченные властью.
Я:
— Но наш напалм стоит намного дешевле; может случиться и так, что мы продлим войну. Может быть, всего на один день, но...
Он прерывает меня:
— Да, да, мой милый, но тем самым вы можете ее и ускорить.
(Аргумент, которым оправдывали взрыв атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки.) На прощание заверяет меня:
— Поверьте, маленький человек действительно ничего не может сделать. С этим нужно смириться. В вашем случае я не вижу ничего, что могло бы отяготить вашу совесть. — И добавляет: — Постарайтесь, однако, не пользоваться этой прибылью однобоко. С помощью ваших денег вы можете сделать много хорошего.
Еду в один из крупнейших немецких соборов, где исповедуются в любой час дня и ночи. Духовные отцы работают посменно. Опускаюсь на колени в одной из исповедален. За плетеной стенкой иезуит, о чем говорят буквы «8. У.» на карточке с его именем. Подходит к вопросу по-деловому, рассматривая с коммерческой точки зрения:
— Дело в том, сможете ли вы, отклоняя заказ, чему-нибудь помешать? Кроме того, не вы ведь используете этот продукт, вы лицо второстепенное, все решает правительство. — И он приводит сравнение: — Возьмем нож. Я продаю нож. Приходит некто, о ком мне известно, что он использует нож для убийства, но если вместе с тем мне известно, что он, фанатик, обойдет еще пять магазинов, пока не получит нож, пусть даже за двойную цену, то я ему продам нож. В конце концов, я коммерсант.
Мое возражение: «Если каждый так будет думать...» вызывает у него некоторое беспокойство.
— Безусловно, у меня были бы сомнения, но возьмут ли они верх — решает разум.
Дать мне однозначный ответ он не в состоянии: «Приходится учитывать многие обстоятельства». Предлагает мне «обратиться за советом к специалисту в этой области, теологу, сведущему в вопросах морали, к профессору Кломпсу, он в этих делах кое-что смыслит».
Но я вначале обратился еще к одному иезуиту, к патеру Леппиху. Позвонил ему во Франкфурт.
— О, к сожалению я в этом не разбираюсь, скуд разумом. Эрхард, внешняя политика, а тем более такие вопросы, нет, я этим не занимаюсь. Мое дело — Азия, Африка, прокаженные и тому подобное, а для этих вопросов я скуд разумом.
Просит написать ему, у него есть специалисты, с которыми он консультируется. Когда же я сказал, что решить вопрос мне нужно сегодня, он еще раз подчеркивает свое скудоумие, добавляя, что «так поспешно никто решить вопрос не сможет, это слишком трудно».
После этого я посетил еще девять пасторов и капелланов. Четверо без обиняков советовали принять заказ. Один сказал, что мне лучше было бы от этого дела отказаться. Другой счел, что все зависит от того, чего пытается добиться войной Джонсон, применяет ли он это оружие «из чувства ответственности за свободный Запад или война стала для него вопросом личного престижа», но, поскольку постичь это невозможно, лучше мне «отказаться от земных прибылей».
Трое патеров заявляют о своей некомпетентности и сообщают адреса «авторитетных людей», известных теологов-моралистов, некоторые из них принимали участие в последнем Вселенском соборе.
Обращаюсь в более высокую инстанцию. По телефону спрашиваю профессора Кломпса, крупнейшего специалиста во всех вопросах морали, преподавателя Кёльнской духовной семинарии.
— Что бы вы сделали, если были бы в моей шкуре?
Кломпс:
— Нужно учитывать многие обстоятельства, но я бы согласился.
Когда же я описал ему губительное действие напалмовой бомбы, он немедленно привел пример для сравнения:
— Монастырские винные подвалы в Трире снабжают весь мир вином, и что они могут поделать, если это вино продают в грешных ночных кабаках, где танцуют обнаженные девицы и всякое бывает, о чем я понятия не имею. Нельзя ведь ответственность за это взвалить на трирских монахов. Нас зачастую вовлекают в события, которых мы вовсе не желаем.
— Если все это обстоит именно так, — говорю ему, — то я спокойно могу принять заказ.
— Да, — отвечает мой собеседник, — это ведь еще и вопрос коммунизма и демократии: что американцы защищают демократию, сомнению не подлежит, не так ли? Если у вас будут еще вопросы, — прощаясь, говорит профессор, — я охотно готов вам помочь.
Многие священники рекомендовали мне профессора Хиршмана, иезуита из монастыря святого Георга, что во Франкфурте, как эксперта именно в этой области. Спрашиваю его:
— Стало быть, вы считаете, что, поставляя напалм, я беру на себя вину?
Он:
— Совсем не обязательно. Решает другое: где он применяется и как он применяется.
Патер Хиршман был советником Вселенского собора по этим вопросам и одним из главных советников конференции епископов в Фульде.
— А как я, предприниматель, могу знать, где и как он применяется в каждом отдельном случае? Этот вопрос для меня — дело принципа.
Он считает иначе. По его мнению, это вопрос не морали, а «военной техники». Поэтому адресует меня в Бонн, в военный отдел епископа:
— Генеральный викарий Гриц как раз тот человек, который разбирается в военном планировании. И знает офицеров, с чьим мнением считаются в этом деле.
Генеральный викарий Гриц отбыл в инспекторскую поездку. Со мной беседует его заместитель, прелат Штеегер. Он очень осторожен:
— Откровенно говоря, не очень хотелось бы говорить об этом по телефону. — Но потом все же говорит: — Ради справедливого дела подобные поступки совершать разрешается. Но справедливое ли это дело, вам теолог не объяснит. Справедлива война или нет — вопрос политический. — И направляет меня в следующую инстанцию: — Вам надо обратиться к депутату бундестага, занимающемуся внешней политикой.
— Считаете ли вы,— спрашиваю я, — что от него я скорее могу получить ответ, чем от священника?
Он отвечает несколько неуверенно:
— Это должен быть депутат с широким кругозором. — И едва не проговорился: — Вопрос справедливой... гм... справедливой обороны сложен потому, что непросто получить точные данные. В современных войнах обе стороны утверждают, что стали жертвой агрессии. Не священнику решать, кто агрессор.
Рассказываю о фотографиях с искалеченными детьми:
— Я спрашиваю себя, можно ли вообще продавать подобные средства. Иначе говоря, если не продавать, то война кончится!
Он:
— Я рад, что вы это так близко принимаете к сердцу. Кто направил вас к нам?
Я:
— Профессор Хиршман.
Он:
— Это меня несколько удивляет, ведь он теолог-моралист.
Я:
— Именно так. Сперва мой духовник адресовал меня к Хиршману, а он уж к вам, сказав, что должен решить кто-то, кто имеет доступ к документам.
Он:
— Абсолютно справедливо.
Я:
— А вы отправляете меня к следующему специалисту.
Он:
— Ну, хорошо, и я читал кое-что из этих сообщений о напалме, но, откровенно говоря, не очень-то представляю себе, что это.
Я:
— Тяжелейшие ожоги, часто неизлечимые.
Он:
— Ну, если это так, то, пожалуй, можно было бы посоветовать вам не брать заказ. Хотя есть опасность, что они закажут его где-нибудь в другом месте.
Я:
— Теоретически можно даже утверждать, я помогаю продлить войну, если достаточно большие заказы. Ведь у нас он обойдется им намного дешевле.
Он:
— Ну, знаете, дело выходит за рамки телефонного разговора. Ведь что такое «ужасное оружие»? Это серьезный вопрос. Может случиться, что «ужасное оружие» сокращает войну... Но если это действительно не оружие в прямом смысле, то я бы все же не выносил окончательного решения, посоветовав — лучше откажитесь... Но, как я уже сказал, не мне... нет, так просто этого не скажешь. Да, как я уже ответил, трудно сказать, справедливую или несправедливую войну ведут там американцы. Кто может утверждать, что они ведут несправедливую войну?! Вы же знаете, на улицах молодые люди ругают войну. Все это, как мне кажется, не так просто.
После этой борьбы и минутной слабости он восклицает:
— Там борьба ведется в интересах всего мира, всего мира, на мой взгляд, всего мира... а безошибочного решения, абсолютной уверенности вы в этом вопросе никогда не найдете! К тому же по телефону, как я говорил, обсуждать это трудно...
На это я отвечаю:
— Теперь я, кажется, пришел к решению, что не возьму заказ. Все это очень сложно.
Он:
— Советую вам обратиться к специалисту по вопросам внешней политики, который понимает в этих делах.
Через два дня застаю генерального викария Грица на его квартире. Но и он может сказать не больше, чем заместитель, который успел сообщить ему о нашем разговоре.
— Пытался узнать, — говорю ему,— что-нибудь от специалистов в области внешней политики. Они считают, что я должен обратиться непосредственно к американцам.
Он пасует:
— Хорошо, но в этом случае все возможности определить решение будут для вас исчерпаны и вы, по моему убеждению, всегда можете сослаться на свою добросовестность... Ибо оружие это используется в таком отдалении, что вы практически в этом участия не принимаете.
Но я еще сомневаюсь, и он добавляет:
— Вы можете обратиться в министерство иностранных дел.
Беседую затем с профессором Рихардом Эгентером, проживающем в Мюнхене, тоже теологом-моралистом. Эгентера рекомендовал мне священник во время исповеди как «особенно добросовестного в подобных вопросах».
Эгентеру напалм, однако, не известен:
— Это что, зажигательные бомбы? — Несмотря на это решает: —Я думаю, напалмовые бомбы можно без всяких сомнений применять, ведя войну в установленных рамках человечности... Ведь и граната и штык тоже инструменты не из приятных.
Он не верит, что «американцы применяют напалмовые бомбы главным образом против гражданского населения».
— Я допускаю, — говорит он тем не менее, — что это иной раз случается, просто люди не всегда справляются со своими задачами. Кроме того, напалмовые бомбы нужны им, по-видимому, только чтобы сжигать джунгли.
— Да, — отвечаю я, — американцы называют это, кажется, «уничтожением листвы», хотя время от времени это совсем не кажется той или иной деревушке.
Он:
— Я стал бы уважать каждого, кто скажет: не могу взять это на свою совесть. Но не стал бы презирать никого, кто скажет: в нынешних условиях считаю это правильным.
В заключение приводит самого себя в качестве примера:
— Я уже подвергался нападкам из-за моей позиции в вопросе об атомном оружии... Ибо не в состоянии сказать, что оно абсолютно недозволено... Стоит только подумать, что грозит человечеству, если коммунисты нападут на свободный мир...
Грех он мне отпускает заранее по трем причинам: «Первая — цель, ради которой применяется напалм, беря проблему в целом, является благородной; вторая — с применением этого оружия военные действия не перестают быть общепринятыми; третья — если не вы, то другие будут его производить».
П
рофессор Альфонс Ауэр из Вюрцбурга, тоже известный теолог-моралист, признает:
— Это, разумеется, очень сложный вопрос... — Но тут же добавляет: — Хотя речь идет не об атомном оружии, а о почти традиционном.
В принципе он не имеет ничего против войны американцев во Вьетнаме:
— Я бы даже сказал, что у американцев есть истинные причины вести эту войну, причем положительные причины. — Его сомнения другого рода: — Напалм действует только на тех людей, на которых прямо попадает, или имеет рассеивающее действие?
Я:
— Он очень быстро растекается по большой площади.
Он:
— Тогда это чрезвычайно сложно.
Я:
— Вы считаете, что я тем самым беру часть вины на себя?
Он:
— Изготавливая любое оружие, вы должны понимать, что оно тоже поражает невиновных. Это бы, собственно, меня не волновало. Меня беспокоит другое: не обладает ли это обычное оружие действием, выходящим за рамки человечности...
Я:
— Оно не такое уж новое, чтобы внушать страх. Если бы мне пришлось поставлять первые бомбы, у меня были бы такие же сомнения.
Он:
— Весь вопрос в том, обладает ли это оружие обычным рассеивающим действием и именно из-за этого не поддается контролю. Подобная проблема возникала и в отношении атомной бомбы; ее применение при известных условиях дозволено, ибо действие ее взрыва поддается контролю.
Я:
— Но в этом смысле, так сказать, стоит сделать еще шаг, и окажется, что бомба, которая уничтожила весь мир, тоже поддается контролю...
Он:
— Собственно, применение напалма при известных условиях против гражданского населения не является для вас критерием. Это не от вас зависит. Вы продадите безобидный пистолет, а человек убьет жену.
И дальше: — Вопрос с напалмом для меня особенно сложен, поскольку я не имею точного представления, как это все выглядит в действительности. Я слишком мало знаю о его действии.
Я:
— Узнать это в полной мере можно, лишь оказавшись жертвой.
Но тут профессор переходит к существенному критерию. Он — за убийство чистое, безболезненное.
— Что касается этих новых штучек, то нет уверенности в их действии. Мои сомнения заключаются главным образом в том, что действие этого оружия не в неизбежности ранений, а в дополнительных мучениях.
Я:
— А разве в первую очередь главное не в осуждении любого средства, предназначенного для уничтожения людей?
Он:
— Я бы этого так просто не сказал. Я установил бы различие между средством, с помощью которого эта, так сказать, неизбежная цель достигается прямым путем, и тем, которое влечет за собой такую чудовищную форму убийства...
Я:
— Вы считаете, что устрашением можно ускорить окончание войны?
Он:
— Да, на это рассчитывали, когда обратились к атомной бомбе. И никому до сих пор не известно, не было ли это в конечном итоге меньшей жертвой, чем если бы война продолжалась еще долгие годы.
Я напоминаю ему нагорную проповедь: там ведь говорится: «Возлюби своих врагов; делай добро ненавидящим тебя», а это производит впечатление. Он не считает нагорную проповедь подходящей к этому случаю. По следующей причине: «Тогда война с самого начала была бы бессмыслицей». Нагорная проповедь, по его мнению, относится лишь к «поведению одного человека по отношению к другому». Под конец беседы он называет мне еще двух экспертов, у которых я могу испросить совета: доктор Мартин Гриц из военного отдела епископата в Бонне и пастор Хиршман, «8. У.».
Я не говорю ему, что уже беседовал с обоими.
Наконец я все-таки попадаю к теологу-моралисту, который усматривает в моем вопросе принципиальную проблему. Это профессор Шольц из Фульды.
— Изготовление подобного оружия граничит с безнравственностью, — говорит он. Он считает, что «ныне лишь в малых ситуациях оборона может быть справедливой». Поэтому он считает «и отказ от службы в армии благородной задачей».
Шольц:
— У нас должны быть люди, способные, подобно пророкам, нести людям великие идеи, такие, как, например, христианство или демократия. Но внушать их словами, а не оружием.— Он настолько объективен, что предлагает выслушать и другое мнение: — Я не хочу давать вам односторонний совет. Вам надо поговорить еще с кем-нибудь, кто мог бы предложить относительно точное решение, позвоните в монастырь святого Георгия, во Франкфурте, пастору Хиршману.
Второй теолог-моралист, советующий мне отказаться от поставок напалма, профессор Бёкле из Бонна. И для него это не военный вопрос, а «безусловно, нравственный» и решению моему он «глубоко сочувствует». Он удивлен:
— Да разве найдется ныне промышленник, который вообще в чем-то может усомниться, если речь идет о таком грандиозном бизнесе?
Выполнение заказа он называет «преступлением против человечности...»
— Хотя классическая теологическая мораль и могла бы это позволить.
«Классическим теологом-моралистом» является его коллега профессор Шеллинген:
— Я участвовал в обеих мировых войнах. И должен сказать: в современной войне практически безразлично, как убивают. Получит ли человек ранение в живот или осколок разобьет ему позвоночник — он все равно будет парализован. А это похуже напалма. Поэтому нужно применять самое сильное оружие, а откажешься, так выдашь себя агрессору на растерзание.
Агрессор в его глазах — это Вьетконг, более того, весь коммунистический лагерь, он усматривает во Вьетнаме «всемирный заговор».
Ему очень понравилась статья военного консультанта «Франкфуртер альгемайне цайтунг» Адальберта Вайнштейна в субботнем приложении.
— Вайнштейн утверждает, что если американцы будут еще некоторое время продолжать свою тактику, то партизанская война зачахнет (вернее было бы сказать, «захлебнется кровью», но он говорит «зачахнет»). Он не рекомендует мне обращаться с моими угрызениями совести к единомышленнику.
— Он вам в конце концов отсоветует.
Вместо этого мне следует рассмотреть вопрос позиций, которую он называет этикой ответственности.
Шёллинген:
— Должен вам сказать, что я не могу быть другом пацифистов-радикалов. Вас, видимо, направили ко мне потому, что я написал книгу по этим проблемам. Ко мне обращаются с просьбой написать статью, высказать мнение, выступить с докладом. Я иду людям навстречу и, последовательно проводя учение немецкого социолога Макса Вебера, доказываю, что нельзя ничего добиться «пасхальными маршами» или только убеждениями, нельзя только «желать», нужно брать на себя ответственность и за решения. Считаю, что работать на мир — занятие пошлое.
Я:
— Грязное?
Он:
— Да, ведь никогда не бывает, чтобы друг другу противостояли белоснежные ангелы и черные дьяволы. События могут казаться ужасными, но нужно видеть перспективу.
Упрекает американцев в «величайшей сентиментальной глупости».
— Я слушал недавно интервью с Нимеллером. Его аргументация держится на традиционных представлениях. Он рассуждает так, будто Вьетнам — суверенное государство со строгими границами. А ведь это совершенно не так.
Он убежден, что война, если взять в целом, стала гуманнее.
— В средние века или в древности люди избивали друг друга дубинками. Так что если сравнивать, например, с древними войнами, то многое изменилось к лучшему. Язычники всегда воевали ради уничтожения целых народов, а те, кого не уничтожали, становились трофеями, ими торговали на рынках. К счастью, мы уже давно прошли эту стадию. Сейчас действует множество ограничений. Самое страшное как раз в том, что современные партизанские войны нарушают эти законы.
Для него «в конечном итоге важен вопрос о войне, как таковой», и он отвечает на него так:
— Я не вижу никакой возможности остановить ход событий.
И чтобы избавить меня от последних сомнений, говорит:
— Будете ли вы поставлять американцам свою продукцию или торговать с ними чем-либо иным — решительно все равно.
— Вы считаете, что это такая же торговля, как и любая другая?
— Да, совершенно верно.
— Ну, если это так, то я могу со спокойной совестью браться за это дело. А часть дохода пожертвую моему приходу.
Он радостно восклицает:
— Вот об этом стоит поговорить! Или еще лучше, когда в стране восторжествует мир, а сопротивление Вьетконга уже слабеет, потребуются значительные затраты на восстановление. Тогда вам нужно будет обратиться в Ахен, в миссионерский центр. Величайшая трагедия для нас, католиков, состоит как раз в том, что большая часть населения именно Южного Вьетнама — добрые католики. И тогда нам придется помочь им снова встать на ноги.
«И послал вестников пред лицем своим; и они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его Иаков и Иоанн сказали: Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение».
(Лука, 9, 52-56)
Произведения
Критика