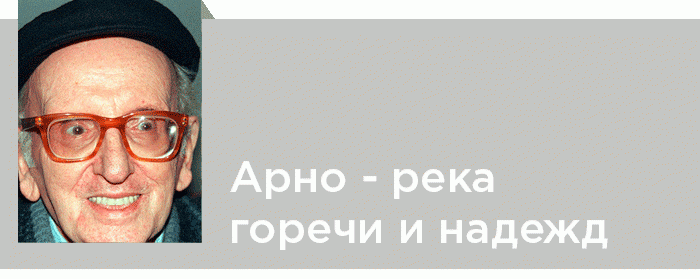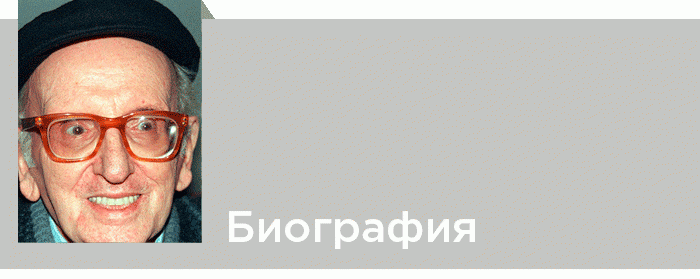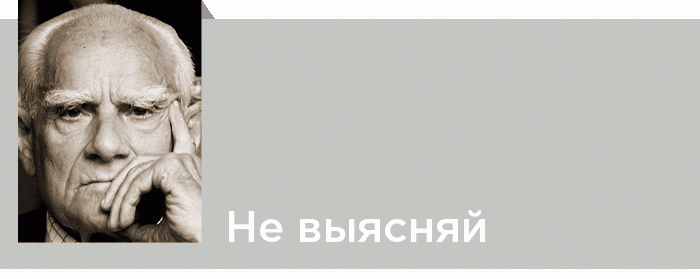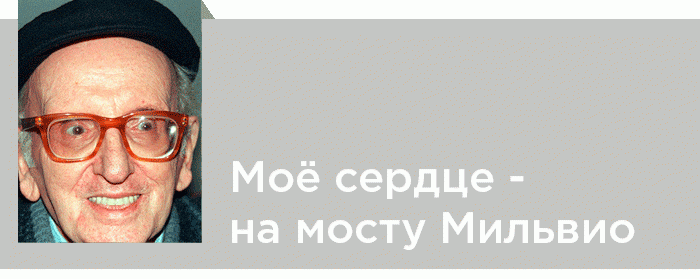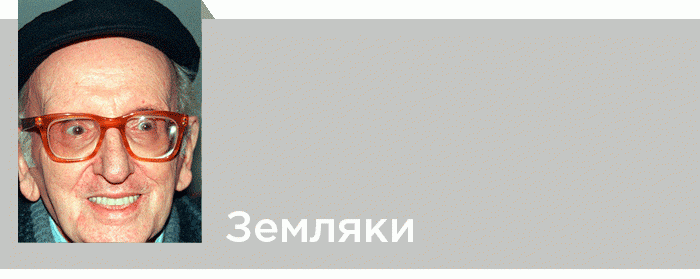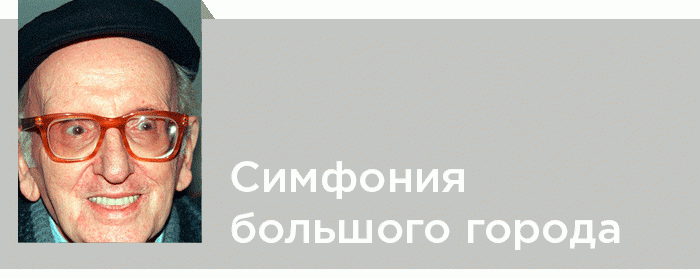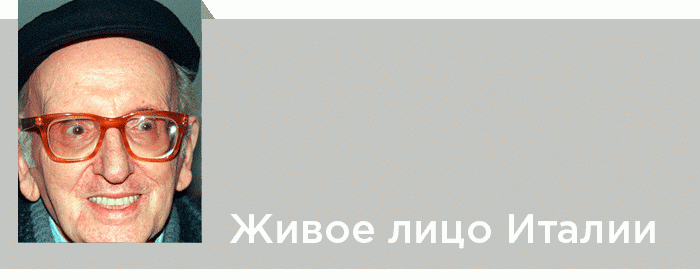Васко Пратолини. Ванда

У Ванды были черные глаза с золотой искоркой и белокурые волосы. Мне никак не удавалось сказать ей, что я люблю ее; ведь я даже не знал, что ее зовут Вандой. Но вот однажды утром она первая остановилась посреди моста и подождала, пока я набрался храбрости подойти поближе.
— Послушайте, — сказала она, — ведь это просто наваждение. Целый месяц вы ходите за мной как тень. Скажите же, что вам нужно, и положим этому конец.
— Неужели вы не догадались? — воскликнул я.
В эту минуту мимо нас прошла женщина, ведя за руку маленькую девочку, которая вслух повторяла свои уроки. Девчурка была еще в полусне и сбивчиво лепетала:
— Ты будь, вы будьте — вы будь, ты будьте…
Мы оба рассмеялись, и это помогло нам преодолеть смущение.
Ванда облокотилась на парапет; я сделал то же и стал смотреть на реку. Зеленая вода Арно стояла высоко, доходя почти до окон ювелирных лавчонок на мосту.
Я указал на середину реки:
— Посмотрите вон на того, в челноке.
Мне показалось это самым важным из всего, что я мог бы сказать ей.
Она ответила:
— Сразу видно, что этому человеку нечего делать. Я ему завидую.
На обоих концах моста стояли статуи Четырех времен года, спиной друг к другу.
Нам было по восемнадцать лет; я работал учеником в газете; Ванда служила продавщицей в магазине мод и зарабатывала семь лир в день; жила она с отцом и бабушкой; отец был судейским чиновником и ходил по домам с опротестованными векселями.
Целый год мы каждое утро встречались здесь, на Понте Веккьо. Ванда жила за рекой, в той стороне, куда смотрели с моста статуи Весны и Лета. Мы выпивали по чашке кофе в баре; там бывали свежие бриоши, мы покупали один и делили пополам; Ванда обмакивала свою долю в чашку и ела маленькими кусочками, высасывая кофе прежде, чем откусить бриош; она бранила меня за то, что я разом проглатывал свою половину.
Я провожал Ванду до магазина; там я немного задерживался, а она начинала прибирать витрину, чтобы еще разок улыбнуться мне. В полдень и по вечерам мы снова проходили по мосту.
Дни шли за днями, поочередно отражаясь в реке, что текла перед нашими глазами: желтая, мутная была она в январе, во время половодья, неся стволы деревьев и падаль с полей, захваченных разливом. В такие дни ювелиры подходили к окнам мастерских и поглядывали на водомер. В жаркую летнюю пору на реке выступали песчаные островки, запруда пересыхала и на ней целый день играли голые ребятишки; только под мостом вода еще струилась почти незаметно, прозрачная до самого дна. Но весной она бывала зеленая; вечерами мы останавливались на мосту, и Ванда, облокотившись на парапет и подперев лицо руками, пела, глядя на реку.
— Любимая, — говорил я, лаская ее, но Ванда не слушала меня.
— Ты любишь реку больше, чем меня, — говорил я ей в шутку.
— Глупыш, — отвечала она, смеясь.
Потом наступило лето; на парапете сидели люди, проходили веселые компании, играли на мандолине; за мостом торговали арбузами.
Шел тысяча девятьсот тридцать восьмой год; испанские республиканцы потеряли Брунете, какой-то муж убил свою жену, итальянское правительство утвердило закон о расовой дискриминации, но все эти события были далеки от нас, оставаясь лишь газетными заголовками. Для нас с Вандой имели значение лишь часы, проведенные на мосту, прогулки по бульварам, да еще ее отец, который отказывался со мной познакомиться.
— Я сумею его убедить, вот увидишь, — говорила Ванда. — Вообще-то он ничего против не имеет, вот только мы с тобой несовершеннолетние.
С каждым днем Ванда постепенно превращалась в женщину, стала выше ростом и с тех пор, как мы научились целоваться, очень изменилась. Но в ней сохранилось прежнее беспокойство, тревожная манера задавать вопросы даже о самых незначительных вещах, словно она жила в постоянном кошмаре, который время от времени усиливался, разрастался.
— Это наваждение, — повторяла она тогда, как при первой встрече. — Почему они так поздно зажигают фонари? Почему ты подстригся именно сегодня? Почему столько вечеров стоит полная луна?
Я мечтал, что мы поженимся и будем жить вместе и у нас будет детекторный радиоприемник, красивый, как игрушка. В июне я подарил Ванде пунцовую косынку, и в прохладные вечера она надевала ее на шею поверх белого платья.
— Я вовсе не хотела влюбляться. Я в первый же день тебя предупредила, чтоб ты меня оставил в покое, — повторяла она.
— Я знаю, — отвечал я, беспечно смеясь, — Когда же ты мне откроешь свой секрет? Разве тебе не кажется, что теперь я достаточно сильно люблю тебя, так что ты меня ничем напугать не можешь?
— Нет еще. — Она смотрела на меня серьезно, а я целовал ее.
Ванда становилась все бледней, все рассеянней и беспокойней.
— Ты слишком устаешь от домашних хлопот, — говорил я. — Так ты долго не выдержишь.
Однажды вечером она сказала:
— Но если ты меня так любить, почему не попробуешь поглубже заглянуть ко мне в душу? Я жду этого, чтобы открыть свой секрет.
— Я все знаю о тебе, ты как воздух, которым я дышу. Я знаю тебя, как открытую книгу, — отвечал я.
— О, глупыш, — сказала она, и в ее голосе прозвучали одновременно и любовь и скорбь, которые мне суждено было потом припомнить.
Мы стояли, опершись о перила; дул ветер, и парк был затянут туманом, в котором терялись два ряда фонарей. Река казалась живой черной массой, которая надвигалась из-под аркад, откуда доносился непрестанный гул воды, бьющейся в устои моста.
Ванда сказала:
— Это наваждение. Ты все время говоришь: я знаю, я знаю. Ничего ты не знаешь — вот что. Почему я блондинка? Я не должна быть блондинкой. Знаешь ты это?
— Ты блондинка, потому что блондинка, — сказал я.
— У меня не должно быть белокурых волос. Это наваждение какое-то. Я тебя люблю. А почему я тебя люблю? Ты, конечно, это знаешь — ну-ка, объясни. Почему? Я не знаю этого. Знаю только, что люблю, а почему — понять не могу.
Она была странно спокойна, смятенными были лишь ее слова.
— Ты, разумеется, все знаешь, — повторила она. — Знаешь и то, что река впадает в море. Но ты не знаешь, что я никогда не видела моря. Да, да, мне двадцать лет, а я никогда не видела моря и даже на поезде никогда не ездила. Это ты знаешь?
— Глупышка, — сказал я. — Так это и есть твой секрет?
Она подперла голову обеими руками, облокотившись на парапет, и сказала:
— Теперь ты думаешь, что это и есть секрет. Просто наваждение.
Я обнял Ванду за плечи и, повернув ее лицо к себе, увидел, что она плачет. Я вытер пальцем одну слезу и смочил ей губы.
— Попробуй, — сказал я, — море такое же соленое.
И поцеловал ее в щеку.
— В воскресенье мы поедем к морю. Поедем на поезде. К вечеру мы успеем вернуться. Для отца ты придумаешь объяснение.
— Этого не нужно, — ответила она медленно, глядя прямо перед собой на реку. — Отец уехал и не скоро вернется.
— Он поехал к родным?
— Да, — ответила она.
Когда я провожал Ванду домой, она, сойдя с моста, посмотрела на статуи и сказала:
— Что тут делает Весна в такое время года? Это ты знаешь?
Она ласково толкнула меня в грудь, прежде чем протянуть мне губы, но глаза ее были полны слез. Я вытер их платком.
В эту ночь мама разбудила меня, войдя в мою комнату.
— Я пришла посмотреть, закрыто ли у тебя окно, — сказала она. — Слышишь, какая буря?
Лил проливной дождь, и потоки воды с силой били в стекла.
Уходя, мать сказала:
— Завтра река вздуется.
Утром яркое солнце встало над мостом; улицы и фасады домов были омыты тем свежим воздухом, который приходит на смену буре. Вода в реке поднялась до окон ювелирных лавок; на них были спущены железные шторы.
Я ждал Ванду, но она не пришла; я прошелся по рынку, но не встретил ее; когда я подумал, что накануне вечером было свежо и она простудилась, я решил пойти к ней домой.
Я постучал; мне открыла немолодая худая женщина в пенсне; на ней был выцветший голубой халат; она вытирала тряпкой какую-то кухонную посуду.
— Ванды нет дома, — сказала она мне грубовато и с раздражением, — Она, видно, ушла из дому спозаранку. За ней два раза приходил санитар, а ее все нет.
— Почему санитар? — спросил я.
— У ее отца был очень сильный припадок, кажется, что на этот раз…
Я все еще стоял на пороге, растерянный, у меня достало духу лишь спросить:
— Ее отец болен?
Женщина спросила:
— А вы не из полиции?
— Нет, — сказал я. — Я друг.
— Ах, извините, а то они почти каждый день приходят. Ведь отец Ванды сошел с ума три месяца назад после того, как его уволили с работы за то, что он еврей. Он обезумел от отчаяния.
— А Ванда? — спросил я.
— Не представляю себе, куда она могла уйти, — ответила женщина. — Может быть, попросить у кого-нибудь взаймы. Понимаете, мы ей помогаем как можем, ведь она тоже потеряла работу, но мы и сами в золоте не купаемся.
Два дня спустя далеко, близ самого устья, река выбросила тело Ванды.
Критика