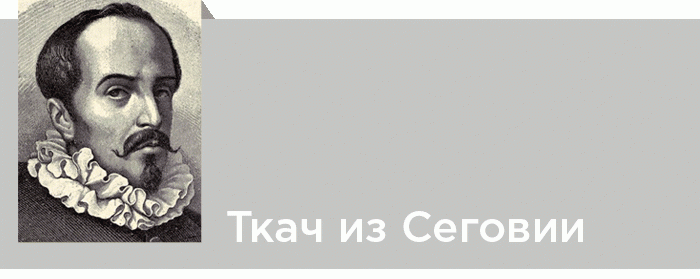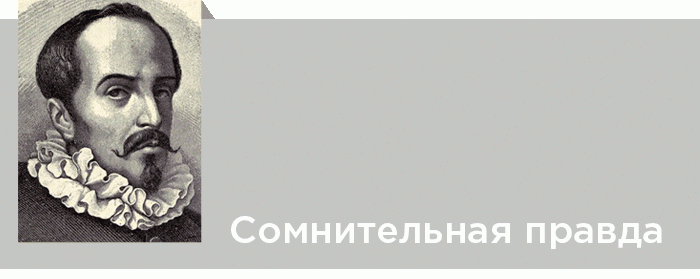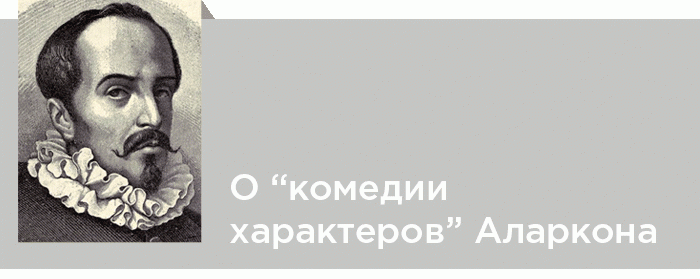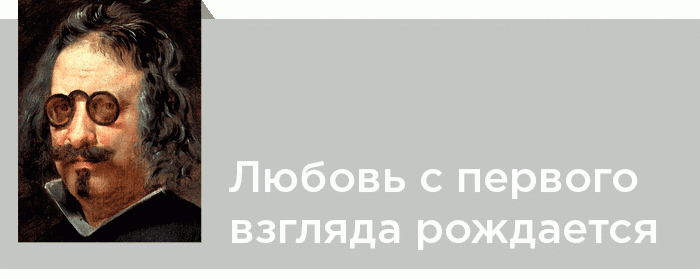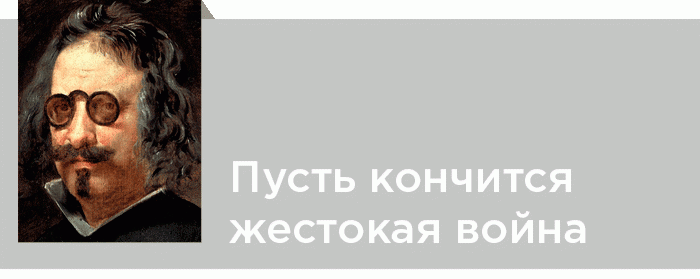Метафора как средство моделирования мира в поэзии Франсиско де Кеведо

М. Б. Смирнова
Короткий анализ функционирования метафоры в эпоху барокко и, в частности, в поэзии Франсиско де Кеведо мне хотелось бы начать с наблюдения Ю. М. Лотмана о типологической природе риторических фигур: «Следует обратить внимание на то, что существуют культурные эпохи, целиком или в значительной мере ориентированные на тропы, которые становятся обязательным признаком всякой художественной речи, а в некоторых предельных случаях всякой речи вообще». Одной из таких эпох, безусловно, является барокко.
Как всякая переходная эпоха, барокко представляется периодом запутанным и сложным для изучения. С одной стороны, еще живо культурное наследие средневековья, с другой стороны, европейская культура стоит на пороге Нового времени, нового «открытия мира и человека». Язык средневековой культуры постепенно утрачивает живую связь с действительностью и в рамках барочного сознания становится своего рода метаязыком культуры, беря на себя функцию культурного кода. Это, по сути, отражает процесс разрушения традиционалистского типа культуры — таковыми были всецело культура средневековья и в своей основе культура Возрождения.
Примером данного процесса является превращение языка петраркистской неоплатонической лирики Кеведо в своего рода знаковую систему. Метафора в этой группе стихов Кеведо по существу уже не имеет права называться метафорой, так как перестает быть «семантическим скандалом». Это метафоры-клише, метафоры-знаки, задача которых не поразить читательское воображение, а сигнализировать о том или ином образе либо типе отношений, заданных самой условностью неоплатонического универсума.
Появление в текстах Кеведо таких «стершихся» метафор, как рубин или коралл (губы), слоновая кость или снег (кожа), роза (румянец), жемчуг (зубы), золото (волосы) и других «сигнализирует» о наличии образа дамы, образа-клише, нарочито абстрактного и лишенного какой-либо индивидуальности. Функцией метафоры здесь является не описание дамы, не создание наглядного образа, а обозначение одного из необходимых элементов любовного универсума — возлюбленной, которая выступает как абстрактный носитель идеи красоты.
В другом случае, когда используются метафоры тоже традиционного светоносного, или небесного, ряда (солнце, звезды, золото, свет, лучи, пламя и др.), они важны не сами по себе, а как знаки, сигнализирующие о наличии парадигмы любовного универсума. Каждая из этих метафор автоматически вызывает в культурном сознании той эпохи уже готовый, хорошо известный в течение нескольких веков образ любовного универсума. Так, метафора, уподобляющая возлюбленную солнцу, сигнализирует о следующей парадигме: 1) образ возлюбленной причислен к нематериальному ряду, он развоплощен, т. е. отчужден от ряда земного, «тварного», конечного и тем самым причислен к ряду небесному, божественному; 2) возвышенное положение возлюбленной диктует пространственную организацию любовного универсума, где господствует вертикаль, верхнюю точку которой определяет фигура дамы, а нижнюю — влюбленного; 3) высокое, т. е. царственное положение возлюбленной связано с отношениями господства/подчинения между дамой и влюбленным; 4) жар, исходящий от солнца, символизирует любовный огонь и выявляет изначально двойственную природу любовного чувства как любви-муки.
Если подключать другие метафоры, то можно было бы выстроить более дробную и полную парадигму, однако и без того ясно, что в этих случаях метафора, используемая как культурный код, не равна самой себе. Она стремится выйти за свои семантические границы, апеллируя к традиции как культурному контексту. И эта каноническая метафора становится у Кеведо основным средством гармонизации мира (совпадающего в данном случае с любовным универсумом), который воссоздается в соответствии с одним из вариантов традиционной структуры.
Использование традиционных метафор в качестве осознаваемого культурного кода уже само по себе свидетельствует о разрушении канона, но в поэтическом творчестве Кеведо можно найти пример явного разрушения канона — это стихия пародирования, стихия смеховой девальвации традиционных культурных ценностей:
Чтоб воспеть улыбку милой,
Жемчуг песнопевцу нужен:
Как же он прославит зубки,
Не упомянув жемчужин?
А вот зубы коренные,
Не в пример передним, нищи,
Хоть на них лежит забота
Пережевыванья пищи.
Подобным образом высмеиваются далее практически все канонические метафоры, и звучит это почти как эстетический манифест. Устанавливается, таким образом, дистанция между языком живым и языком-каноном. Мир как бы раздваивается. Разрушение традиционалистского типа культуры означало одновременно разрушение недискретного образа мира, где одно являлось знаком другого, где слова и вещи ежеминутно обнаруживали существующие между ними связи, где все было погружено в стихию сходства.
В эпоху барокко движение мысли начинает определяться категорией различия, а категория сходства становится скорее предметом художественной игры, способом «насильственного» восстановления гармонии, ушедшей из расколотого мира, перед лицом которого оказывается человек.
В XVII в. происходит смещение в отношениях «слово-вещь», или, как формулирует Мишель Фуко, «глубокая сопричастность языка и мира оказывается разрушенной (...) Вещи и слова отныне разделены». Однако барочное сознание пытается восстановить единство мира и связь между вещью и словом в рамках «второй реальности» — искусства. Утраченные связи между вещами заменяются связями между словами. Ведущую роль в восстановлении такого вторичного подобия играет метафора. Она стремится связать удаленные друг от друга понятия, установить сходство там, где оно на первый взгляд невозможно, т. е. создать картину недискретного изоморфного мира. В этом отношении роль метафоры можно было бы назвать «мифотворческой», имея в виду сам типологический принцип мифологического конструирования мира.
Природа барочной метафоры всецело рациональна. Барочная эстетика уподобляет акт умственного творения метафоры акту божественного творения мира, выдвигая как основную категорию «остроумие» (agudeza). Такова теория остроумия и метафоры, которую в итальянской эстетике развивает Тезауро в «Подзорной трубе Аристотеля», а в испанской — Бальтасар Грасиан в трактате «Остроумие и искусство изощренного ума». Центральной категорией эстетики Грасиана является концепт, суть которого состоит в «изящном сочетании, в гармоническом сопоставлении двух или трех далеких понятий, связанных единым актом разума». Одной из разновидностей концепта Грасиан называет метафору, однако не любую, а лишь ту, которая поражает нас неожиданностью сопоставления далеких понятий.
Стихия сходства в эпоху барокко целиком переносится в пространство метафоры, концепта, т. е. языка. Связь между понятиями господствует над связью между вещами, и расшифровка великой метафоры «Книги Мира», как это было в средние века, сменяется «распутыванием» связей и сходств между словами. Если в эпоху средневековья книгу расшифровывали как «Книгу Мира», когда за словами скрывалась целая система сходств и сближений с вещами, а через них — с некими изначальными смыслами, то в эпоху барокко переиначивается сама метафора «Книга Мира»: она буквализируется, и именно книга становится тем миром, который надо расшифровать.
Установка на расшифровку влечет за собой определенные эстетические требования к барочному тексту. Чем сложнее связи между понятиями, тем совершеннее текст. В испанской поэзии XVII в. этот феномен принято обозначать как темный и трудный стили, что по существу является одним и тем же. Установка на трудность становится эстетической позицией барочного автора. Так, в одном из своих писем Гонгора, один из самых «темных» поэтов барокко, пишет: «...темнота и трудный слог Овидия (...) служат поводом к тому, чтобы неуверенный разум, изощряясь в размышлении, трудясь над каждым словом (ибо с каждым занятием, требующим усилий, разум укрепляется), постигал то, чего не смог бы понять при чтении поверхностном; итак, надо признать, что польза тут в обострении ума и порождается она темнотой поэта».
Таким образом, основной задачей читающего текст является не постижение некоего истинного смысла, скрытого за словами, а упражнение для ума, цель которого — восстановить образ творимого художником мира, как бы совершив работу по «распутыванию» связей между отдельными элементами цельной картины.
Обратимся к одному из самых блестящих и концептистски насыщенных сонетов Франсиско де Кеведо:
En crespa tempestad del oro undoso, nada golfos de luz ardiente y pura mi corazón, sediento de hermosura, si el cabello deslazas generoso.
Leandro, en mar de fuego proceloso, su amor ostenta, su vivir apura;
Icaro, en senda de oro mal segura, arde sus alas por morir glorioso.
Con pretensión de fénix, encendidas sus esperanzas, que difuntas lloro, intenta que su muerte engendre vidas.
Avaro y rico y pobre, en el tesoro, el castigo y la hambre imita a Midas,
Tántalo en fugitiva fuente de oro.
Итак, отправной точкой для развития сонета служит довольно незамысловатая ситуация: поэт смотрит, как возлюбленная распускает волосы. А далее, как может показаться, движение поэтической мысли почти импрессионистично: сердце влюбленного отправляется путешествовать по волнам волос Лиси, а потом, по цепочке ассоциаций, оно как бы «перетекает» из одного образа в другой. На самом же деле развитие этого сонета не имеет ничего общего с непринужденной ассоциативностью импрессионизма — он скорее построен как хорошая проповедь, где каждая риторическая фигура продумана и служит единой цели.
Сонет имеет четко выраженную структуру, определяющуюся двумя метафорическими рядами: парадигма возлюбленной и парадигма влюбленного. Рассмотрим первую парадигму. По точному наблюдению А. Паркера, она реализуется через четыре группы концептов: 1) поскольку волосы распущены, они представляются как водное пространство или море; так как волосы вьющиеся, то это бушующее море, его волны опасны для плывущего сердца; 2) волосы золотого цвета создают образ золота или сокровища; 3) цвет волос ассоциируется с образом солнца, солнечных лучей; 4) образ солнца влечет за собой мотив сжигающего и убивающего огня.
Вторая парадигма (она связана с образом возлюбленного) объединена идеей любви-муки, любви-гибели, которая выступает как инвариант для всех модификаций образа сердца: 1) влюбленный смотрит на распущенные волосы возлюбленной, в результате чего возникает метонимический образ сердца, стремящегося навстречу красоте, которая неизбежно связана с мукой; 2) мотив муки влечет за собой мотив гибели от красоты в пучине огненной стихии, в которую трансформировались волосы Лиси, — так возникает образ Леандра; 3) мотив гибели рождает мотив «славной гибели», а движение сердца начинает восприниматься как дерзостный полет — возникает образ Икара, гибнущего в огне; 4) мотив гибели в огне приводит к появлению образа Феникса, который привносит оттенок надежды на спасение от смерти (возрождение); 5) недоступность возлюбленной вызывает мотив голода или жажды — образ сердца соответственно трансформируется в Мидаса и Тантала.
Таким образом, внутреннее пространство сонета определяется параллелизмом двух метафорических рядов, которые по самому закону жанра (неоплатонический сонет) никогда не могут пересечься, ибо тем самым проявляет себя идея принципиальной недостижимости возлюбленной в рамках неоплатонического универсума. Именно метафора выступает здесь как главное средство конструирования мира сонета: изначальный момент действительности окончательно теряется за цепочками сменяющих друг друга образов, и из распущенных волос Лиси вырастает целый мир.
Мы рассмотрели моделирующие возможности метафоры на уровне отдельно взятого стихотворения. Но моделирующая функция метафоры может осуществляться и на более общем уровне (как это было в случае с любовным универсумом) и, наконец, на самом общем уровне, когда функционирование метафоры анализируется в пространстве всего поэтического языка Кеведо. В данном случае вся совокупность стихотворений трактуется как единый текст, а каждое отдельно взятое стихотворение — как часть этого единого поэтического текста. При таком подходе метафора уже как бы не принадлежит конкретному стихотворению, а включена в систему более широкую, в систему всего поэтического языка Кеведо.
Метафора оказывается важнейшим инструментом организации структуры всего поэтического мира Кеведо. Она участвует в определении основных оппозиций авторской модели мира: низкое — высокое, вертикаль — горизонталь, жизнь — смерть, временное — вечное, должное — недолжное. В качестве иллюстрации обратимся к любовной поэзии Кеведо. Уже упоминавшемуся «высокому» любовному универсуму здесь противостоит мир смеховой, где можно выстроить свой метафорический ряд, находящийся в оппозиции к метафорическому ряду высокой любовной поэзии. Если неоплатонический метафорический ряд характеризовался абстрактностью, нематериальностью, «нетварностью», то противоположный ему смеховой мир обладает набором обратных характеристик: конкретность, материальность, «тварность»:
Un tenedor con medias y zapatos; descalzos y desnudos dos pebetes; por patas, dos esquifes con juanetes; por manos, dos cazones y diez gatos...
Подобным образом метафора организует тотальную дихотомию кеведовской картины мира.
Наконец, обратимся еще к одному, особенному, случаю функционирования метафоры в поэзии Кеведо — преломлению глобальных метафор барокко, являющихся по существу некими константами барочного художественного сознания. Эти метафоры не принадлежат какому-либо одному автору, или тексту, или даже литературе барокко в целом. Сфера их существования — культура барокко вообще, а потому они могут быть условно названы «культурными» метаметафорами.
Таковыми являются, в частности, метаметафоры «жизнь есть сон» и «мир — театр». Последняя проявляет себя не только в искусстве и литературе барокко, но и в барочном этосе вообще. Сам образ жизни барочного человека определялся идеей театральности, а жизнь барочного человека — как бы реализация данной метафоры.
В качестве общекультурных констант такие метаметафоры входят в поэзию Франсиско де Кеведо. Чтобы их выявить, нет необходимости искать конкретные строки, где жизнь названа сном, а мир — театром. Эти метафоры складываются из множества конкретных метафор, в которых присутствует мотив призрачности жизни, фальши или игры. Например, целый метафорический ряд, отождествляющий человека с куклой, приводит к образу мира как вертепа, человека — как марионетки, безвольного актера.
В заключение следует отметить, что метафора — хотя и главное, но не единственное средство реинтеграции барочного мира. Только на уровне тропов в этот ряд можно было бы включить и синекдоху, и метонимию (если рассматривать их как разные фигуры), и сравнение, и аллегорию, и символ. Все они, в конечном счете, служат гармонизации барочной картины мира, той вторичной реальности, которая в эпоху барокко становится реальнее самой действительности.
Л-ра: Вестник МГУ. Сер. 9. – 1990. – № 6. – С. 36-41.
Произведения
- Безмолвная любовь
- Любовь с первого взгляда рождается, живёт, растёт и становится вечной
- Пусть кончится жестокая война, которую ведёт со мной любовь
Критика