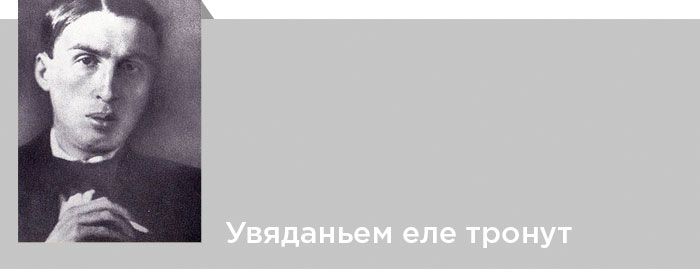Антиномия прекрасного и безобразного в поэтическом тексте: Георгий Иванов и Борис Рыжий

УДК 82-14
ББК 83.3(2 Рос=Рус)6
А. А. Семина
г. Москва, Россия
Аннотация: В статье рассматривается метод сочетания в пределах одного текста категорий прекрасного и безобразного, явленный в лирике Г. Иванова и Б. Рыжего. Соединение данных начал позволяет авторам достигать особой выразительности и остроты лирического переживания. Если для Г. Иванова данный прием становится характерным уже в эмиграции, то Б. Рыжий с самого начала творческого пути сознательно выбирает его в качестве основополагающего принципа собственной поэтики, сочетая просторечия и лексику уголовного жаргона с обращением к вечным темам и непреходящим ценностям.
Ключевые слова: Г. Иванов, Б. Рыжий, антиномия, прекрасное, безобразное, поэтика, соединение.
Информация об авторе: Анна Андреевна Семина — аспирант, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 119991 г. Москва, Россия. E-mail: seminaaa@ yandex.ru
Дата поступления статьи: 12.10.2016
Дата публикации: 15.03.2017
Anna A. Semina Moscow, Russia
THE ANTINOMY OF BEAUTY AND MONSTROSITY IN A POETIC TEXT: GEORGY IVANOV AND BORIS RYZHY
Abstract: The article discusses the method of connection between categories of Beauty and Monstrosity in the same text, which was used in G. Ivanov’s and B. Ryzhy’s lyrics. The combination of such Materials allows these authors to reach specific expression and subtlety of lyric emotion. While G. Ivanov’s appealing to this method took place in his exile, B. Ryzhy chose it from the beginning of his artistic way as a basic principle of his own poetics, combining vernacular language and argot with references to the eternal themes and timeless values.
Keywords: G. Ivanov, B. Ryzhy, antinomy, Beauty, Monstrosity, poetics, combination.
Information about the author: Anna A. Semin, Postgraduate Student, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory St., 1, 119991 Moscow, Russia.
Received: October 12, 2016
Date of publication: March 15, 2017
Влияние поэтики Г. Иванова на Б. Рыжего уже становилось предметом внимания исследователей. Так, например, А. Арьев проводит параллели между отдельными стихотворениями авторов, одновременно рассматривая тексты Б. Рыжего сквозь призму лирики Блока [1]; И. Фаликов [13] и Ю. Казарин [5] документально подтверждают знакомство Рыжего со стихами Г. Иванова. Вместе с тем важно отметить, что Г. Иванов стал одним из самых значимых поэтов, под влиянием которых произошло формирование поэтического голоса Б. Рыжего, во многом благодаря изначальной созвучности их художественных миров.
Аспектов сопоставления лирики Г. Иванова и Б. Рыжего, заслуживающих внимания, немало. В настоящей статье будет предпринята попытка проанализировать те стихотворения, в которых авторы прибегают к поэтике контраста категорий прекрасного и безобразного, где последнее служит условием достижения особой остроты восприятия первого. Для поэзии начала ХХ в. парадоксальное сопряжение прекрасного и безобразного было весьма характерным, в связи с чем говорить об уникальности лирики Г. Иванова в этом отношении было бы не совсем правомерно. Вместе с тем именно в творчестве Г. Иванова данный прием получил биографическое «оправдание», ту смысловую законченность, которую сообщает искусству только размах трагедии. Изгнание, переживаемое поэтом с особым драматизмом, возвело данный метод в иную, метафизическую плоскость, отделив его от чисто технических экспериментов начала века непроходимой пропастью, по другую сторону которой «кончается искусство, и дышат почва и судьба». Б. Рыжий в этом случае выступает «наследником» именно Ивановской линии, поскольку его обращение к подобному приему обладает не экспериментальным, а по-настоящему трагическим пафосом. Интересным данный метод представляется также постольку, поскольку выявляет некие фундаментальные константы существования поэтического текста, которые на первый взгляд кажутся парадоксальными.
Для Г. Иванова подобный прием стал характерен уже в эмиграции, когда под действием отчаяния и предчувствия скорой смерти внимание лирического героя стихотворений Иванова фокусируется не только на поэтических сторонах жизни, но и на низменных реалиях человеческого существования. Для Б. Рыжего прием «снижения» пафоса за счет обращения к «непоэтическим» предметам и персонажам является основополагающим принципом поэтики. Одним из первых на данную специфику творческого метода Рыжего обратил внимание Д. Сухарев, который, комментируя стихотворение «На смерть Р. Т.», заметил: «Снижено все, что только можно снизить. Ангелы — те же менты, только с крыльями. Дрянь повышает уровень драматизма? Существует такая зависимость? Сложный вопрос, пусть разбираются литературоведы» [12].
Итак, попробуем разобраться.
В поэтическом наследии Г. Иванова категория безобразного включает в себя концепты[1] «грязь» и «тлен», тогда как прекрасное выступает ее антитезой. Обращение поэта к указанным концептам «оттеняет» детали, символизирующие прекрасное, и тем самым обостряет восприятие последних в качестве таковых. Одним из показательных в данном ключе является стихотворение, написанное между 1943 и 1958 гг.:
Еще я нахожу очарованье
В случайных мелочах и пустяках —
В романе без конца и без названья,
Вот в этой розе, вянущей в руках.
Мне нравится, что на ее муаре
Колышется дождинок серебро,
Что я нашел ее на тротуаре
И выброшу в помойное ведро [4, с. 383].
«Серебро дождинок», дрожащее на «муаре» розы, противопоставляется помойному ведру, которое впоследствии станет последним пристанищем цветка. Примечательно, что описанная ситуация герою «нравится»: выражая подобное отношение к ней, он будто заявляет о примирении с жизнью и ее законами, в соответствии с которыми все, даже прекрасная роза, оказывается недолговечным и превращается в безобразный «тлен».
Подобное «принятие» неизбежности лирический герой Иванова демонстрирует и по отношению к собственной будущей смерти, воссоздавая ситуацию, когда его уже не будет на свете. Текст стихотворения при этом как будто написан от лица покойника: «Теперь, когда я сгнил и черви обглодали / До блеска остов мой и удалились прочь…» [4, с. 373]. Употребление глагола «сгнил» в прошедшем времени в сочетании с личным местоимением «я» вызывает в сознании читателя противоречие, поскольку, как очевидно, «сгнивший» поэт данный текст написать не мог. Только последние строчки содержат необходимое «объяснение»: «Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья, / Но даже черви им, увы, пренебрегли» [4, с. 373]. Выступая антитезой «безобразию» сгнившего остова, «талант двойного зренья» одновременно объясняет происхождение стихотворения: текст создан непосредственно самим талантом, который пережил своего обладателя, поскольку им «пренебрегли» черви. Акт прочтения читателем данного текста, таким образом, служит подтверждением тезиса героя-поэта о бессмертии его таланта и, следовательно, усиливает выразительность стихотворения, обогащая читателя чувством непосредственного присутствия при осуществлении «пророчества» умершего героя-поэта.
Есть у Г. Иванова тексты, где оба концепта «безобразного» тесно переплетены. В этом случае «грязь» выступает атрибутом смерти, сопровождая ее, как в следующем стихотворении:
Обледенелые миры
Пронизывает боль тупая...
Известны правила игры.
Живи, от них не отступая:
Направо — тьма, налево — свет,
Над ними время и пространство.
Расчисленное постоянство...
А дальше?
Музыка и бред.
Дохнула бездна голубая,
Меж «тем» и «этим» — рвется связь,
И обреченный, погибая,
Летит, орбиту огибая,
В метафизическую грязь [4, с. 521].
Метафора «метафизической грязи», символизирующая небытие, не только выражает отношение лирического героя к смерти, но и служит для создания более ностальгического и светлого образа жизни, которую покидает «обреченный» и которая поэтому остается «за кадром» стихотворения, выступая в сознании героя олицетворением категории прекрасного. В некоторых текстах Г. Иванова отнесенность указанных концептов к «безобразному» достигается за счет сочетания несочетаемых на первый взгляд определений:
Листья падали, падали, падали,
И никто им не мог помешать.
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать.
И неслось светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном успении
Отвратительный вечный покой [4, с. 429].
Определения «отвратительный» и «вечный», характеризующие бытие лирического героя после смерти, в данном случае выступают в качестве контекстных синонимов, тем самым подчеркивая негативное отношение героя к обещанию загробной жизни. Смерть ассоциируется у него с «падалью» и «гниением», являя контраст с представлением о ней как о «блаженном успении». Происходит «депоэтизация» умирания, что вполне соответствует установке «парижской ноты», в соответствии с которой «поэзия призвана “развоплотить” тайну жизни и смерти. Это поэзия “голого” слова, возвращающегося к первоисточнику, к началу, сущности предметов и имен…» [7, с. 10]. И, хотя Георгия Иванова сложно «заподозрить» в сознательном следовании принципам «парижской ноты», не случайно именно его творчество для многих молодых поэтов-участников данного объединения было признано эталоном.
«Безобразное» представление о смерти можно обнаружить и в поэзии Б. Рыжего, в чем он выступает наследником ивановской традиции, противопоставляя ужасу небытия «прекрасную» жизнь: «Пусть юношам будет наука / на долгие, скажем, года: / жизнь часто прелестная штука, / а смерть безобразна всегда» [10]. Новое, привнесенное Б. Рыжим в традицию при обращении к данной проблеме, — это ирония («пусть юношам будет наука / на долгие, скажем, года»), проявляющаяся даже в подобной, не предполагающей юмора ситуации.
«Безобразное — это прекрасное, что не может вместиться в душе» [11, с. 109–110], — предвосхитил Б. Рыжий проблематику будущих исследований, посвященных собственному творчеству. «Безобразное» Рыжего условно можно разделить на три составляющие: язык (употребление сленга, арго, просторечий, нецензурной лексики), обращение к соответствующим реалиям (детали жизни и быта соседей из «криминальной» среды, их облик, манера поведения и т.д.) и собственно образ лирического героя, каким он явлен в значительной части поэтического наследия автора. Впрочем, эти составляющие в текстах Рыжего обычно взаимосвязаны и работают «в комплексе», создавая целостный художественный образ.
В отношении языка Б. Рыжий выступает продолжателем традиции Г. Державина, у которого, по словам Гоголя, «слог <…> так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми…» [2]. Будучи носителем одновременно двух культур — культуры русской поэзии, привитой отцом, и культуры блатных песен и рассказов, воспринятой на свердловских улицах, — Б. Рыжий создает мощный языковой сплав, способный описать абсолютно любое явление жизни, для которого нет табу и тем, недостойных внимания. Философской основой подобной поэтической «всеядности» выступает изначальное авторское принятие жизни во всех ее проявлениях, неравнодушное отношение к каждому существу и любой жизненной коллизии. Для поэта с подобным мироощущением категория безобразного принимается в «арсенал» поэтических средств и работает над созданием образа на равных началах с прекрасным и «поэтичным».
Так, воссоздавая речь любимой по представлениям своего лирического героя, Б. Рыжий прибегает к просторечиям и лексике уголовного жаргона: «А то б взяла стишок и так / сказала мне: дурак, / тут что-то очень Пастернак, / фигня, короче, мрак» [11, с. 193]. Согласно словарю русского арго, междометие «мрак» «выражает отрицательное отношение к чему-либо» [3, с. 256]. Рифмовка междометия уголовного жаргона с Пастернаком рождает конфликт категорий безобразного и прекрасного и таким образом создает необходимое автору поэтическое напряжение. Пастернак, «фигня» и «мрак» выступают контекстными синонимами, что является средством создания образа лирического героя и героини, речь которой он пытается смоделировать. Употребляет герой и междометия-эвфемизмы бранных слов: «…и невзначай отбил / у Гриши Штопорова, у / комсорга школы, блин. / Я, представляющий шпану, / спортсмен-полудебил» [11, с. 193]. Бранное просторечие «полудебил» выступает антитезой «комсоргу школы», подтверждая дистанцию между лирическим героем и его соперником. Эмоциональное междометие «блин», сорвавшееся с уст героя, также выражает его отношение к подобному неравному соперничеству, из которого герой все же выходит победителем. Завершается стихотворение на патетической, высокой ноте, впрочем, не без самоиронии: «Зачем тогда он не припер / меня к стене, мой свет? / Он точно знал, что я боксер. / А я поэт, поэт» [11, с. 193]. Слово «поэт» противопоставляется всей предшествующей сниженной лексике, одним взмахом возводя стихотворение на недостижимую высоту, откуда лирический герой и все фигурирующие в тексте персонажи воспринимаются с вечного, бытийного ракурса. В последней строчке автор, таким образом, как бы снимает маску своего лирического героя, являя читателю истинное лицо. Подобное завершение заставляет читателя воспринимать предшествующий текст как игру, которую автор останавливает в финале стихотворения.
Еще одним показательным текстом с точки зрения языкового портрета лирического героя Б. Рыжего является стихотворение «Ордена и аксельбанты…». Герой стихотворения, вспоминая «местного дауна, дурня Петю», сожалеет, что его похоронили без музыки: «А когда он умер тоже, / не играло ни хрена, / тишина, помилуй, Боже, / плохо, если тишина. / Кабы был постарше я, / забашлял бы девкам в морге, / прикупил бы в Военторге / я военного шмотья. / Заплатил бы, попросил бы, / занял бы, уговорил / бы, с музоном бы решил бы, / Петю, бля, похоронил» [11, с. 274–275]. Глагол «забашлять» на арго означает «заработать, добыть денег (обычно много)» [3, с. 142]. Слово «музон», обозначающее музыку, также относится к уголовному жаргону [3, с. 257]. Анжамбеман «уговорил / бы», нецензурное междометие «бля» и частица «бы», благодаря анжамбеману повторяющаяся в строке трижды, вводят в текст авторскую иронию, которая, проступая в последнем четверостишии, снова указывает на дистанцию между поэтом и создаваемым им образом. Антитезой образу лирического героя выступает прекрасное начало — музыка, называемая им «музоном». Музыка неявно пронизывает все стихотворение, поскольку играет в нем конфликтообразующую роль: любившего музыку немого Петра похоронили без музыкального сопровождения, что вызывает сожаление и раскаяние у лирического героя. Сослагательное наклонение «кабы был постарше я», «забашлял бы», «прикупил бы», «заплатил бы» и т. д. указывает на уже не осуществимые в реальности мечты героя: его альтернативной картине прошлого уже не воплотиться, поскольку дважды похоронить Петра невозможно. Таким образом, прекрасное начало музыки вносит в ироничное стихотворение трагическое звучание.
Как уже было сказано, язык и образ лирического героя Рыжего не являются единственными носителями категории безобразного в его текстах. Зачастую безобразной оказывается та или иная описываемая ситуация, что не мешает ей, благодаря таланту поэта, стать прекрасным материалом для стихотворения. Так, в одном из самых известных стихотворений лирический герой совершает сознательный выбор в пользу безобразного, отказываясь от каких-либо надежд, за счет чего текст достигает трагизма необыкновенной силы:
Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже теплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда. <…>
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь [11, с. 351].
Анжамбеман «счастья / быть любимым» заставляет слушателя (как и читателя) стихотворения после цезуры, сопровождающей конец строки, сделать смысловую паузу, тем самым возводя отказ от счастья в метафизическую плоскость, понимая его как отказ от счастья вообще — какого бы то ни было. Последующий текст стихотворения подтверждает правильность подобного прочтения. Как и у Г. Иванова, безобразное в данном тексте представлено концептом «грязь», распространяющим свой «ореол» и на сопутствующие детали: лицо героя при соприкосновении с грязью автоматически становится «рожей» или «рылом», указывая на то, что после падения герой сам становится частью безобразного начала. Подобное падение также следует понимать метафизически, поскольку оно оказывается синонимично двум другим характеристикам ситуации — «страшно» и «безнадежно». Как и в случае предыдущих стихотворений, выразительность текста строится на игре контрастов прекрасного и безобразного: грязь, выступающая для героя символом последнего предела падения, противопоставляется тому, что в его сознании включает в себя концепт счастья: любовь, участие, поддержка других людей, красота (цветущие яблони).
Как и у Г. Иванова, «ситуативное» безобразное у Б. Рыжего часто воплощается в концепте «смерти», «тления». Так, в стихотворении «Эмалированное судно…» воссоздается мировосприятие лирического героя, который умирает в больнице: «Лежу и думаю: едва ли / вот этой белой простыней / того вчера не укрывали, / кто нынче вышел в мир иной» [11, с. 161]. Больничная обстановка совсем не способствует вере в выздоровление: «Эмалированное судно, / окошко, тумбочка, кровать, — / жить тяжело и неуютно, / зато уютно умирать» [11, с. 161]. Под действием окружающих героя предметов и в предчувствии скорой смерти его восприятие жизни также меняется и обостряется до предела: «И жизнь, растрепана, как блядь, / выходит как бы из тумана / и видит: тумбочка, кровать…» [11, с. 161]. Жить лирическому герою «тяжело» и «неуютно»; притерпевшись к атмосфере умирания, он видит в жизни нечто безобразное и чуждое, воспринимая ее со стороны, как будто уже с того света. Однако последнее усилие — «и я пытаюсь приподняться, хочу в глаза ей поглядеть» — вновь возвращает его в систему координат земного существования, расставив все по местам и вернув жизни и смерти их традиционное — человеческое — понимание: «Взглянуть в глаза и — разрыдаться / и никогда не умереть» [11, с. 161]. Следуя традициям Г. Иванова, Б. Рыжий прибегает к приему «неожиданного финала», «переворачивая» таким образом и заставляя звучать по-новому весь предшествующий текст. «Уровень драматизма» [12], как и в предыдущих случаях, повышается за счет контраста прекрасного — завершения стихотворения — и безобразного (размышления героя перед финалом).
Примечательно, что среди стихотворений Рыжего, сталкивающих прекрасное и безобразное, присутствуют также тексты, в которых геройпоэт обращается к музе. Иногда муза оказывается «позаимствованной» у предшественников — как, например, у Аполлона Григорьева:
…Давным-давно, давным-давно
ты для Григорьева плясала,
покуда тот глядел в окно
с решеткой — гордо и устало.
Нет ни решетки, ни тюрьмы,
ни «Современника», ни «Волги»,
но, гладковыбритые, мы
такие ж, в сущности, подонки.
Итак, покуда ты жива,
с надежной грустью беспредельной
ищи, красавица, слова
для песни страшной, колыбельной [11, с. 108].
Слово «подонок», обозначающее Ап. Григорьева и современное герою-поэту поколение, является разговорным и в словарях русского языка часто содержит помету «пренебр.». Но не только Ап. Григорьев оказывается «спаян» с категорией безобразного — подвергается подобной «операции» и Пастернак, поскольку последнее четверостишие обыгрывает его «Ветер» из цикла «Стихотворения Юрия Живаго»: «Я кончился, а ты жива. / И ветер, жалуясь и плача, / Раскачивает лес и дачу. / Не каждую сосну отдельно, / А полностью все дерева / Со всею далью беспредельной, / Как парусников кузова / На глади бухты корабельной. / И это не из удальства / Или из ярости бесцельной, / А чтоб в тоске найти слова / Тебе для песни колыбельной» [8, с. 1232]. Поскольку герой-поэт Б. Рыжего обращается к музе, слова для песни поручено искать ей самой. В контексте стихотворения Рыжего колыбельная песня оказывается «страшной», так как является отражением мира, окружающего героя, и его внутреннего мира — мира «подонка». Кроме того, выступающие в тексте однородными определения «страшная» и «колыбельная» заставляют воспринимать данную песню как песню погребальную, так как сон, следующий за ней, вызывает у героя ужас. Характерно, что текст написан от лица героя в момент употребления им алкоголя («взор поднимая к облакам, / раздумываю — сто иль двести»), что отчасти объясняет искаженный угол зрения, в соответствии с которым безобразное начало гиперболизируется и возводится в абсолют. Прекрасное же представлено в тексте явным и неявным присутствием Ап. Григорьева и Пастернака, благодаря которым муза героя все-таки остается «красавицей».
Таким образом, в стихотворениях Г. Иванова и Б. Рыжего особое значение приобретает сплав категорий прекрасного и безобразного, явленный в пределах одного текста. У Г. Иванова безобразное представлено концептами «грязи» и «тлена»; у Б. Рыжего в дополнение к этому прибавляются также образ лирического героя большинства стихотворений и его речь, сочетающая слова «высокого штиля» со сниженной — иногда нецензурной — лексикой. Соединение и взаимодействие данных, на первый взгляд антагонистических начал создает необходимый уровень напряжения в поэтическом тексте, за счет чего стихотворение достигает особой силы воздействия на читателя. Их противопоставление, с одной стороны, усиливает выразительность образа, представляющего прекрасное начало, а с другой — как в большинстве стихотворений Б. Рыжего — являет читателю «истинное лицо» автора, проступающее таким образом за намеренно неприглядной маской лирического героя.
Список литературы
- Арьев А. Ю. Блок, Иванов, Рыжий. О стихах Бориса Рыжего // Звезда. 2009. № 9.
- Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями.
- Елистратов В. С. Словарь русского арго. М.: Русские словари, 2000. 694 с.
- Иванов Г. В. Собр. соч.: в 3 т. М.: Согласие, 1993–1994. Т. 1. 656 с.
- Казарин Ю. В. Поэт Борис Рыжий. Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 326 с. с ил.
- Карасик В. И. Концепт как единица лингвокультурного кода // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. Вып. 10. Т. 44. С. 4–11.
- Кочеткова О. С. Идейно-эстетические принципы «парижской ноты» и художественные поиски Бориса Поплавского: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2010. 26 с.
- Пастернак Б. Л. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. М.: Изд-во АЛЬФА-КНИГА, 2008. 1280 с.
- Рыжий Б. Б. В кварталах дальних и печальных… (Избранная лирика. Роттердамский дневник).
- Рыжий Б. Б. «Когда б душа могла простить себя…» // Знамя. 2004. № 1.
- Рыжий Б. Б. Стихи. СПб.: Пушкинский фонд, 2016. 368 с.
- Сухарев Д. Влажным взором // Рыжий Б. Б. В кварталах дальних и печальных… (Избранная лирика. Роттердамский дневник).
- Фаликов И. З. Борис Рыжий. Дивий камень (серия ЖЗЛ). М.: Молодая гвардия, 2015. 384 с.
References
- Ar’ev A. Iu. Blok, Ivanov, Ryzhii. O stikhakh Borisa Ryzhego [Blok, Ivanov, Ryzhy. About Boris Ryzhy’s poems]. Zvezda, 2009, no 9.
- Gogol’ N. V. Vybrannye mesta iz perepiski s druz’iami [The chosen places from correspondence with friends].
- Elistratov V. S. Slovar’ russkogo argo [The Russian slang dictionary]. Moscow, Russian dictionaries Publ., 2000. 694 p. (In Russian)
- Ivanov G. V. Sobranie sochinenii: v 3-kh tomakh [Collected works: in 3 vol.]. Moscow, Soglasiye Publ., 1993–1994. Vol. 1. 656 p. (In Russian)
- Kazarin Iu. V. Poet Boris Ryzhii [Boris Ryzhy, the poet]. Moscow; Ekaterinburg, Armchair-scientist Publ., 2016. 326 p. (In Russian)
- Karasik V. I. Kontsept kak edinitsa lingvokul’turnogo koda [The concept as a unit of linguistic cultural code]. Izvestiia Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2009, vol. 44, no 10, pp. 4–11. (In Russian)
- Kochetkova O. S. Ideino-esteticheskie printsipy «parizhskoi noty» i khudozhestvennye poiski Borisa Poplavskogo [Ideological and aesthetic principles of “Paris note” and artistic research of B. Poplavsky]: abstract of dissertation for PhD degree. Moscow, 2010. 26 p. (In Russian)
- Pasternak B. L. Polnoe sobranie poezii i prozy v odnom tome [Complete collection of poetry and prose in one volume]. Moscow, Izd-vo AL’’FAKNIGA Publ., 2008. 1280 p. (In Russian)
- Ryzhii B. B. V kvartalakh dal’nikh i pechal’nykh… (Izbrannaia lirika. Rotterdamskii dnevnik) [In the distant and sorrowful squares…
- Ryzhii B. B. «Kogda b dusha mogla prostit’ sebia…» [“If only the soul could forgive itself…”]. Znamia, 2004, no 1.
- Ryzhii B. B. Stikhi [Poems]. St. Petersburg, Pushkinfond Publ., 2016. 368 p. (In Russian)
- Sukharev D. Vlazhnym vzorom [By a wet eye]. Ryzhii B. B. V kvartalakh dal’nikh i pechal’nykh… (Izbrannaia lirika. Rotterdamskii dnevnik) [In the distant and sorrowful squares… (Selected lyrics. Rotterdam diary)].
- Falikov I. Z. Boris Ryzhii. Divii kamen’ (seriia ZhZL) [Boris Ryzhy. The wild stone]. Moscow, Young Guards Publ., 2015. 384 p. (In Russian)
[1] Здесь и далее под термином «концепт» понимается «квант переживаемого знания, соединяющий в себе индивидуально-личностные и культурно-групповые смыслы и включающий понятийное, образное и ценностное измерения» [6, с. 4].