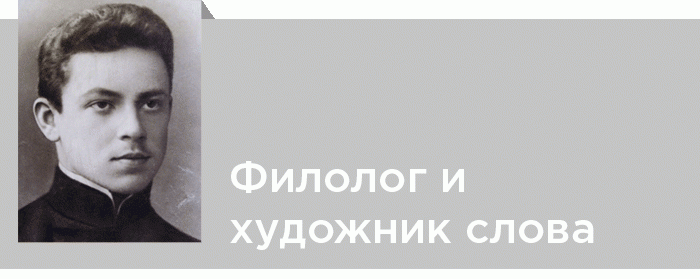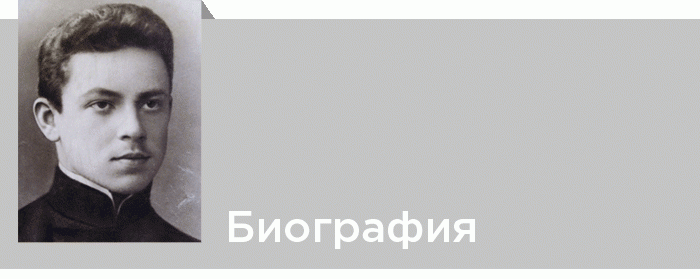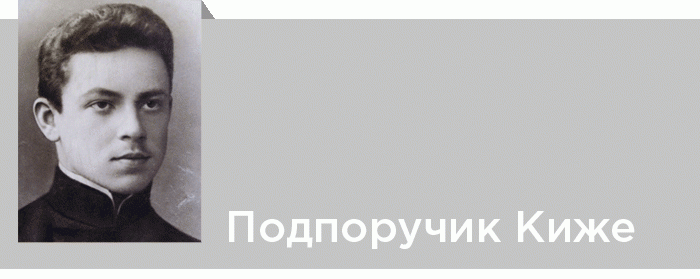Юрий Тынянов. Восковая персона

(Отрывок)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Доктор вернейший, потщись мя лечити,
Болезненну рану от мя отлучити.
Акт о Калеандре
1
Еще в четверг было пито. И как пито было! А теперь он кричал день и ночь и осип, теперь он умирал.
А как было пито в четверг! Но теперь архиятр Блументрост подавал мало надежды. Якова Тургенева гузном тогда сажали в лохань, а в лохани были яйца.
Но веселья тогда не было и было трудно. Тургенев был старый мужик, клекотал курицей и потом плакал – это трудно ему пришлось.
Каналы не были доделаны, бечевник невский разорен, неисполнение приказа. И неужели так, посреди трудов недоконченных, приходилось теперь взаправду умирать?
От сестры был гоним: она была хитра и зла. Монахине несносен: она была глупа. Сын ненавидел: был упрям. Любимец, миньон, Данилович – вор. И открылась цедула от Вилима Ивановича к хозяйке, с составом питья, такого питьеца, не про кого другого, про самого хозяина.
Он забился всем телом на кровати до самого парусинного потолка, кровать заходила, как корабль. Это были судороги от болезни, но он еще бился и сам, нарочно.
Екатерина наклонилась над ним тем, чем брала его за душу, за мясо, -
И он подчинился.
Которые целовал еще два месяца назад господин камергер Монс, Вилим Иванович. Он затих.
В соседней комнате итальянский лекарь Лацаритти, черный и маленький, весь щуплый, грел красные ручки, а тот аглицкий, Горн, точил длинный и острый ножик – резать его.
Монсову голову настояли в спирту, и она в склянке теперь стояла в куншткаморе, для науки.
На кого оставлять ту великую науку, все то устройство, государство и, наконец, немалое искусство художества?
О Катя, Катя, матка! Грубейшая!
2
Данилыч, герцог Ижорский, теперь вовсе не раздевался. Он сидел в своей спальной комнате и подремывал: не идут ли?
Он уж так давно приучился посиживать и сидя дремать: ждал гибели за монастырское пограбление, почепское межевание и великие дачи, которые ему давали: кто по сту тысячей, а кто по пятьдесят ефимков; от городов и от мужиков; от иностранцев разных состояний и от королевского двора; а потом – при подрядах на чужое имя, обшивке войска, изготовлении негодных портищ – и прямо из казны. У него был нос вострый, пламенный, и сухие руки. Он любил, чтоб все огнем горело в руках, чтоб всего было много и все было самое наилучшее, чтобы все было стройно и бережно.
По вечерам он считал свои убытки:
– Васильевский остров был мне подаренный, а потом в одночасье отобран.
В последнем жалованье по войскам обнесен. И только одно для меня великое утешение будет, если город Батурин подарят.
Светлейший князь Данилыч обыкновенно призывал своего министра Волкова и спрашивал у него отчета, сколько маетностей числится у него по сей час.
Потом запирался, вспоминал последнюю цифру, пятьдесят две тысячи подданных душ, или вспоминал об убойном и сальном промысле, что был у него в архангельском Городе, – и чувствовал некоторую потаенную сладость у самых губ, сладость от маетностей, что много всего имеет, больше всех, и что все у него растет. Водил войска, строил быстро и рачительно, был прилежный и охотный господин, но миновались походы и кончались канальные строения, а рука была все сухая, горячая, ей работа была нужна, или нужна была баба, или дача?
Данилыч, князь Римский, полюбил дачу.
Он уже не мог обнять глазом всех своих маетностей, сколько ему принадлежало городов, селений и душ, – и сам себе иногда удивлялся:
– Чем боле володею, тем боле рука горит.
Он иногда просыпался по ночам, в своей глубокой алькове, смотрел на Михайловну, герцогиню ижорскую, и вздыхал:
– Ох, дура, дура!
Потом, оборотясь пламенным глазом к окну, к тем азиятским цветным стеклышкам, или уставясь в кожаные расписные потолки, исчислял, сколько будет у него от казны интересу; чтоб показать в счетах менее, а на самом деле получить более хлеба. И выходило не то тысяч на пятьсот ефимков, не то на все шестьсот пятьдесят. И он чувствовал уязвление. Потом опять долго смотрел на Михайловну:
– Губастая!
И тут вертко и быстро вдевал ступни в татарские туфли и шел на другую половину, к свояченице Варваре. Та его понимала лучше, с той он разговаривал и так и сяк, аж до самого утра. И это его услаждало. Старые дурни говорили: нельзя, грех. А комната рядом, и можно. От этого он чувствовал государственную смелость.
Но полюбил притом мелкую дачу и так иногда говорил свояченице Варваре или той же Михайловне, Почепской графине:
– Что мне за радость от маетностей, когда я их не могу всех зараз видеть или даже взять в понятие? Видал я десять тысяч человек в строях или таборах, и то – тьма, а у меня на сей час по ведомости господина министра Волкова их пятьдесят две тысячи душ, кроме еще нищих и старых гулящих. Это нельзя понять. А дача, она у меня в руке, в пяти пальцах зажата, как живая.
И теперь, по прошествии многих мелких и крупных дач и грабительств и ссылке всех неистовых врагов: барона Шафирки, еврея, и многих других, он сидел и ждал суда и казни, а сам все думал, сжав зубы:
«Отдам половину, отшучусь».
А выпив ренского, представлял уже некоторый сладостный город, свой собственный, и прибавлял:
– Но уж Батурин – мне.
А потом пошло все хуже и хуже; и легко было понять, что может быть выем обеих ноздрей – каторга.
Оставалась одна надежда в этом упадке: было переведено много денег на Лондон и Амстердам, и впоследствии пригодятся.
Но кто родился под планетой Венерой – Брюс говорил про того: исполнение желаний и избавление из тесных мест. Вот сам и заболел.
Теперь Данилыч сидел и ждал: когда позовут? Михайловна все молилась, чтоб уж поскорей.
И две ночи он уже так сидел в параде, во всей форме.
И вот, когда он так сидел и ждал, под вечер вошел к нему слуга и сказал:
– Граф Растреллий, по особому делу.
– Что ж его черти принесли? – удивился герцог. – И графство его негодное.
Но вот уже входил сам граф Растреллий. Его графство было не настоящее, а папежское: папа за что-то дал ему графство, или он это графство купил у папы, а сам он был не кто иной, как художник искусства.
3
Его пропустили с подмастерьем, господином Лежандром. Господин Лежандр шел по улицам с фонарем и освещал дорогу Растреллию, а потом внизу доложил, что просит пропустить к герцогу и его, подмастерья, господина Лежандра, потому что бойчей знает говорить по-немецки.
Их допустили.
По лестнице граф Растреллий всходил бодро и щупал рукой перилы, как будто то был набалдашник его собственной трости. У него были руки круглые, красные, малого размера. Ни на что кругом он не смотрел, потому что дом строил немец Шедель, а что немец мог построить, то было неинтересно Растреллию. А в кабинетной – стоял гордо и скромно. Рост его был мал, живот велик, щеки толстые, ноги малые, как женские, и руки круглые. Он опирался на трость и сильно сопел носом, потому что запыхался. Нос его был бугровый, бугристый, цвета бурдо, как губка или голландский туф, которым обделан фонтан. Нос был как у тритона, потому что от водки и от большого искусства граф Растреллий сильно дышал. Он любил круглоту и если изображал Нептуна, то именно брадатого, и чтоб вокруг плескались морские девки. Так накруглил он по Неве до ста бронзовых штук, и все забавные, на Езоповы басни: против самого Меньшикова дома стоял, например, бронзовый портрет лягушки, которая дулась так, что под конец лопнула. Эта лягушка была как живая, глаза у ней вылезли. Такого человека, если б кто переманил, то мало бы дать миллион: у него в одном пальце было больше радости и художества, чем у всех немцев. Он в один свой проезд от Парижа до Петерсбурка издержал десять тысяч французской монетой. Этого Меньшиков до сих пор не мог позабыть. И даже уважал за это. Сколько искусств он один мог производить? Меньшиков с удивлением смотрел на его толстые икры. Уж больно толстые икры, видно, что крепкий человек. Но, конечно, Данилыч, как герцог, сидел в креслах и слушал, а Растреллий стоял и говорил.
Что он говорил по-итальянски и французски, господин подмастерье Лежандр говорил по-немецки, а министр Волков понимал и уж тогда докладывал герцогу Ижорскому по-русски.
Граф Растреллий поклонился и произнес, что дук д'Ижора – изящный господин и великолепный покровитель искусств, отец их, и что он только для того и пришел.
– Ваша алтесса – отец всех искусств, – так передал это господин подмастерье Лежандр, но сказал вместо «искусств»: «штук», потому что знал польское слово – штука, обозначающее: искусство.
Тут министр господин Волков подумал, что дело идет о грудных и бронзовых штуках, но Данилович, сам герцог, это отверг: ночью в такое время – и о штуках.
Он ждал.
Но тут граф Растреллий принес жалобу на господина де Каравакка.
Каравакк был художник для малых вещей, писал персоны небольшим размером и приехал одновременно с графом. Но дук явил свою патронскую милость и начал употреблять его как исторического мастера и именно ему отдал подряд изобразить Полтавскую битву. А теперь до графа дошел слух, что готовится со стороны господина де Каравакка такое дело, что он пришел просить дука в это дело вмешаться.
Слово «Каравакк» Растреллий картавил, грозно, с презрением, как бы каркал. Слюна брызгала у него изо рта.
Тут Данилыч нацелился глазом: зрелище художника стало ему приятно.
– Пусть говорит о деле, – сказал он, – для чего у них стала ссора с Коровяком. Коровяк вострый маляр и берет дешевле. – Ему была приятна ссора Растреллия с Каравакком, и если б не такое время, он что бы сделал? Он созвал бы гостей, да позвал бы того Растреллия и Коровяка, и стравил бы их, аж до драки. Как петухов, этого толстого с тем, с чернявым.
Тут Растреллий сказал, а господин Лежандр пояснил:
– Дошло до его слуха, что когда император помрет, то господин де Каравакк хочет делать с него маску, и господин де Каравакк не умеет делать масок, а маски с мертвых умеет делать он, Растреллий.
Но тут Меньшиков легонько вытянулся в креслах, воздушно соскочил с них и подбежал к двери. Заглянул за дверь и потом долго глядел в окошко; он смотрел, нет ли где изыскателей и доносителей.
Потом он приступил к Растреллию и сказал так:
– Ты что бредишь непотребные слова, относящиеся к самой персоне? Император жив и нынче получил облегчение.
Но тут граф Растреллий сильно махнул головой с отрицанием.
– Император, конечно, умрет в четыре дня, – сказал он, – так говорил мне господин врач Лацаритти.
И тут же, поясняя речь, ткнул двумя толстыми и малыми пальцами вниз, в пол, – что именно в четыре дня император, конечно, пойдет уже в землю.
И тут Данилыч почувствовал легкий озноб и потрясение, потому что никто еще из посторонних так явно не говорил о царской смерти. Он почувствовал восторг, что как бы восторгают его над полом и он как бы возносится в воздухе над своим состоянием. Все переменилось в нем. И уже за столом и в креслах сидел спокойный человек, отец искусств, который более не интересовался мелкой дачей.
Тут Растреллий сказал, а господин подмастерье Лежандр и министр Волков перевели, каждый по-своему:
– Он, Растреллий, это хочет для того сделать, что той любопытной маской он надеется приобрести большое внимание при иностранных дворах, и у Цесаря, равно как и во Франции. А зато обещается он, Растреллий, сделать маску и с самого герцога, когда тот умрет, и согласен сделать ему портрет, медный, небольшой, с герцогской дочери.
– Ты ему скажи – я сам с него маску спущу, – сказал Данилыч, – а с дочки пусть сделает середней величины. Дурак.
И Растреллий обещался.
Но потом, потоптавшись, побулькав толстыми губами, он вытянул вдруг правую ручку – на правой ручке горели рубины и карбункулы – и стал говорить до того быстро, что Лежандр и Волков, открыв рты, стояли и ничего не переводили. Его речь была как пузырьки, которые всплывают на воде вокруг купающегося человека и так же быстро лопаются. Пузырьки всплывали и лопались– и наконец купающийся человек нырнул: граф Растреллий захлебнулся.
Потом герцогу доложили: есть искусство изящное и самое верное, так что нельзя портрет отличить от того человека, с которого портрет делан. Ни медь, ни бронза, ни самый мягкий свинец, ни левкос не идут против того вещества, из которого делают портреты художники этого искусства. Искусство это самое древнее и дольше всего держится, еще со времен даже римских императоров. И вещество само лезет в руку, так оно лепко, и малейший выем или выпуклость, оно все передает, стоит надавить, или выпятить ладошкой, или влепить пальцем, или вколупнуть стилем, а потом лицевать, гладить, обладить, обровнять, – и получается: великолепие.
Меньшиков с беспокойством следил за пальцами Растреллия. Маленькие пальцы, кривые от холода и водки, красные, морщинистые, мяли воздушную глину. И наконец, оказалось еще следующее: лет двести назад нашли в итальянской земле девушку, девушка была как живая, и все было как живое и сверху и сзади. То была, одни говорили, статуя работы известного мастера Рафаила, а другие говорили, что Андрея Верокия или Орсиния.
И тут Растреллий захохотал, как смеется растущее дитя: его глаза скрылись, нос сморщился, и он крикнул, торопясь:
– Но то была Юлия, дочь известного Цицерона, живая, то есть не живая, но сама природа сделала со временем ее тем веществом. – И Растреллий захлебнулся. – И то вещество – воск.
– Сколько за тую девку просят? – спросил герцог.
– Она непродажна, – сказал Лежандр.
– Она непродажна, – сказал Волков.
– То и говорить не стоит, – сказал герцог.
Но тут Растреллий поднял вверх малую, толстую руку.
– Скажите дуку Ижорскому, – приказал он, – что со всех великих государей, когда умирают, непременно делают по точной мерке такие восковые портреты. И есть портрет покойного короля Луи Четырнадцатого, и его делал славный мастер Антон Бенуа – мой учитель и наставник в этом деле, и теперь во всех европейских землях, больших и малых, остался для этого дела один мастер: и тот мастер – я.
И пальцем ткнул себя в грудь и поклонился широко и пышно дуку Ижорскому, Данилычу.
Спокойно сидел Данилыч и спросил у мастера:
– А ростом портрет велик ли? Растреллий ответил:
– Портрет мелок, как сам покойный французский государь был мал; рот у него женский; нос как у орла клюв; но нижняя губа сильна и знатный подбородок. Одет он в кружева, и есть способ, чтоб он вскакивал и показывал рукой благоволение посетителям, потому что он стоит в музее.
Тут руки у Данилыча задвигались: он был малознающ в устройствах, но роскошен и любил вещи. Он не любил художества, а любил досужество. Но по привычке спросил, как бы из любознания:
– А махина внутри или приделана снаружи, и из стали или железная – или какая?
Но тут же махнул рукой и сказал:
– А обычай тот глуп, чтоб персоне вскакивать и всякому бездельнику оказывать честь, да и не время мне сейчас.
Но после краткого перевода Растреллий поймал воздух в кулак и так поднес герцогу:
– Фортуна, – сказал он, – кто нечаянно ногой наступит – перед тем персона встанет, все то есть испытание фортуны.
И тут наступило полное молчание. Тогда герцог Ижорский вынул из глубокого кармана серебряный футляр, достал из него зубочистку и почистил ею в зубах. – А воск от литья, от фурмов пушечных что остался, – на тот портрет годится? – спросил он потом.
Растреллий дал гордый ответ, что нет, не годится, нужен самый белый воск, но тут вошла Михайловна.
– Зовут, – сказала она.
И Данилыч, светлейший князь, встал, распоряжаться готовый.
4
По Неве дуло два встречных ветра: сиверик – от шведов и мокряк – с мокрого места, и когда они встретились, тогда получился третий ветер: чухонский поперечень.
Сиверик был прямой и курчавый, мокряк – косой, с загибом. Получился чухонский поперечень, поперек всего. Он ходил кругами по Неве, очищая малое место, подымал седую бороду дыбом и потом вставал против мест и покрывал их.
Тогда два молодых волка отстали от большой стаи в лесу за Петровским островом. Два волка бежали по притоку Невы, перебежали его, постояли и посмотрели. Они побежали по Васильевскому острову, по линейной дороге, и опять остановились. Они увидели шалаш и деревянную рогатку. В шалаше спал живой человек, укрывшись. Тут они обошли рогатку; они ровно побежали по узкой тропе, шедшей вдоль дороги. Миновали две мазанки и у самого Меньшикова дома спустились на Неву.
Они осторожно спускались: были навалены камни, запорошены снегом, а кой-где и голые; они, волки, ставили нежно свои лапы. И побежали к жидкому лесу, который видели вдалеке.
В одной избе загорелся свет, или он горел уже раньше, но только стал теперь ярче, потом в сумерках выскочил человек с мордастыми собаками, потом спустил их, и тут же закричал, и вскоре выстрелил из длинного ружья. Ганс Юрген был повар, а теперь береговой начальник, и это он выскочил из своей избы и выстрелил. Мордастые собаки были его доги. У него их было двенадцать собак.
Волки прижались тогда задами ко льду, и вся их сила ушла в передние лапы. Передние лапы делались все круче, все сильней, волки все более забирали пространства. И они ушли от собак.
Потом выбежали на берег и мимо Летнего сада добежали до Ерика, Фонтанной речки. Тут они пересекли большую Невскую перспективную дорогу, которая на Новгород, мощеную, на ней лежали поперек доски. Потом, перепрыгивая по болотным кочкам, они скрылись в роще по Фонтанной речке.
А от выстрела он проснулся.
5
Всю ночь он трудился во сне, ему снились трудные сны.
А для кого трудился? – Для отечества.
Рукам его снилась ноша. Он эту ношу таскал с одного беспокойного места в другое, а ноги уставали, становились все тоньше и стали под конец совсем тонкие.
Ему снилось, что та, которую все звали Катериной Алексеевной, а он Катеринушкой, а прежде звали драгунской женой, Катериной Василевской, и Скавронской, и Мартой, и как еще там, – вот она уехала. Он вошел в палаты, и захотелось бежать– так все пусто было без нее, а по палатам бродила медведица. На цепи, чернявая волосом и большие лапы, тихий зверь. И зверь был к нему ласков. А Катерина уехала и сказалась неизвестной. И тут солдат и солдатское лицо, надутое, как пузырь, и в мелких морщинах, как рябь по воде.
И он составил ношу и поколол солдата шпагой; тут у него заболело внизу живота, потянуло аж в самую землю, но потом отпустило, хоть и не все.
Все-таки он солдата сволок под мышки и слабыми руками стал разыскивать: расклал на полу и прошел горячим веником по спине. А тот лежит смирно, а кругом хозяйство и многие вещи. Как стал водить веником по солдатской спине, так самого пожгло по спине и сам ослабел и изменился. Стало холодно и боязно, и он заходил ногами как бы не по полу. И солдат высоким голосом все кричал, его голосом, Петровым. Тут стали стрелять издалека шведы, и оп проснулся, понял, что это не он пытал, а его пытали, и сказал, как будто все ото писал письмо Катерине:
– Приезжай посмотреть, как я живу раненый, на мое хозяйство.
Проснулся еще раз и очутился в сумерках, как в утробе, было душно, натопили с вечера. И он полежал без мыслей.
Он переменился даже в величине, у него были слабые ноги и живот пустынный, каменный и трудный.
Он решил не вносить ночные сны в кабинетный журнал, как обычно делал: сны были нелюбопытны, и он их побаивался. Он боялся того солдата и морщин, и неизвестно было, что солдат означает. Но нужно было и с ним справиться.
Потом в комнате несколько рассвело, как будто повар помешал ложкой эту кашу.
Начинался день, и хоть он больше не ходил по делам, но как просыпался, дела словно бродили по нем. Пошел словно в токарню – доточить штуку из кости – остался недоточенный досканец.
Потом словно бы пора ехать на смотрение в разные места – сегодня авторник, не церемониальный день, дожидаются коляски, наряд на все дороги.
Калмыцкую овчину на голову – ив Сенат.
Сенату дать такой указ: на виске не тянуть более разу и веником не жечь, потому что если более и жечь веником, то человек меняется в себе и может себя потерять.
Но дела его быстро оставили, не доходя до конца, и даже до начала, как тень.
Он совсем проснулся.
Печь была натоплена с вечера так, что глазурь калилась и как на глазах лопалась, как будто потрескивала. Комната была малая, сухая, самый воздух лопался, как глазурь, от жары.
Ах, если б малую, сухую голову проняла бы фонтанная прохлада!
Чтобы фонтан напружился и переметнул свою струю – вот тогда разорвало бы болезнь.
А когда все тело проснулось, оно поняло: Петру Михайлову приходит конец, самый конечный и скорый. Самое большее оставалась ему неделя. На меньшее он не соглашался, о меньшем он думать боялся. А Петром Михайловым он звал себя, когда любил или жалел.
И тогда глаза стали смотреть на синие голландские кафли, которые он выписал из Голландии, и здесь пробовал такие кафли завести, да не удалось, на эту печь, которая долго после него простоит, добрая печь.
Отчего те кафли не завелись? Он не вспомнил и смотрел на кафли, и смотрение было самое детское, безо всего.
Мельница ветряная, и павильон с мостом, и корабли трехмачтовые.
И море.
Человек в круглой шляпе пумпует из круглой пумпы, и три цветка, столь толстых, как бы человеческие члены. Садовник.
Прохожий человек, кафтан в талью, обнимает толстую женку, которой приятно. Дорожная забава.
Лошадь с головой как у собаки.
Дерево, кудрявое, похожее на китайское, коляска, в ней человек, а с той стороны башня, и флаг, и птицы летят.
Шалаш, и рядом девка большая, и сомнительно, может ли войти в шалаш, потому что не сделана пропорция.
Голландский монах, плешивый, под колючим деревом читает книгу. На нем толстая дерюга и сидит, оборотясь задом.
И море.
Голубятня, простая, с колонками, а колонки толстые, как колена. И статуи и горшки. Собака позади, с женским лицом, лает. Птица сбоку делает на краул крылом.
Китайская пагода прохладная.
Два толстых человека на мосту, а мост на сваях, как на книжных переплетах. Голландское обыкновение.
Еще мост, подъемный, на цепях, а выем круглый.
Башня, сверху опущен крюк, на крюке веревка, а на веревке мотается кладь. Тащат. А внизу, в канале, лодка и три гребца, на них круглые шляпы, и они везут в лодке корову. И корова с большой головой и ряба, крапленая.
Пастух гонит рогатое стадо, а на горе деревья, колючие, шершавые, как собаки. Летний жар.
Замок, квадратный, старого образца, утки перед замком в заливе, и дерево накренилось. Норд-ост.
И море.
Разоренное строение или руины, и конное войско едет по песку, а стволы голые, и шатры рогатые.
И корабль трехмачтовый и море.
И прощай, море, и прощай, печь.
Прощайте, прекрасные палаты, более не ходить по вас!
Прощай, верея, верейка! На тебе не отправляться к Сенату!
Не дожидайся! Команду распустить, жалованье выдать!
Прощайте, кортик с портупеей! Кафтан! Туфли!
Прощай, море! Сердитое!
Паруса тоже, прощайте!
Канаты просмоленные!
Морской ветер, устерсы!
Парусное дело, фабрические дворы, прощайте!
Дело навигацкое и ружейное!
И ты тоже прощай, шерстобитное дело и валяное дело!
И дело мундира!
Еще прощай, рудный розыск, горы, глубокие, с духотой!
В мыльню сходить, испариться!
Малвазии выпить доктора запрещают!
Еще прощай, адмиральский час, австерия, и вольный дом, и неистовые дома, и охотные бабы, и белые ноги, и домашняя забава! Та приятная работа!
Петергофский огород, прощай! Великолуцкие грабины, липы амстердамские!
Прощайте, господа иностранные государства! Лев Свейский, Змей Китайский!
И ты тоже прощай, немалый корабль!
И неизвестно, на кого тебя оставлять!
Сыны и малые дочки, потроха, потрошонки, все перемерли, а старшего злодея сам прибрал! В пустоту приведут!
Прощай, Питер-Бас, господин капитан бомбардирской роты Петр Михайлов!
От злой и внутренней секретной болезни умираю!
И неизвестно, на кого отечество, и хозяйство, и художества оставляю!
Он плакал без голоса в одеяло, а одеяло было лоскутное, из многих лоскутьев, бархатных, шелковых и бумазейных, как у деревенских детей, теплое. И оно промокло с нижнего краю. Колпак сполз с его широкой головы; голова была стриженая, солдатская, бритый лоб.
Камзол висел на вешалке, давно строен, сроки прошли, и обветшал. К службе более не годится.
А через час придет Катерина, и он знал, что умирает из-за того, что ее не казнил и даже допускает в комнату. А нужно было ее казнить, и тогда бы кровь получила облегчение, он бы выздоровел. А теперь кровь пошла на низ, и задержало, и держит, и не отпускает.
А запечного друга, Данилыча, тоже не казнил и тоже не получил облегчения.
А человек рядом, в каморке, замолчал, не скрыпит пером, на счетах не брякает. И не успеть ему на тот гнилой корень топор наложить. Прогнали уже, видно, того человечка из каморы, некому боле его докладов слушать.
Миновал ему срок, продали его, умирает солдатский сын Петр Михайлов!
Губы у него задрожали, и голова стала на подушке запрометываться. Она лежала, смуглая и не горазд большая, с косыми бровями, как лежала семь лет назад голова того, широкоплечего, тоже солдатского сына, голова Алексея, сына Петрова.
А гнева настоящего не было, гнев не приходил, только дрожь. Вот если б рассердиться; он бы рассердился, пощекотала б тогда ему темя хозяйка – он бы поспал и тогда бы выздоровел.
И тут на башню того замка, на которой моталась кладь на веревке, на ту синюю кафлю – вылез запечный таракан. Вылез, остановился и посмотрел.
В жизни было три боязни и все три большие: первая боязнь – вода, вторая – кровь.
Он в детстве боялся воды, у него от этой мути, от надутия больших вод подступало к горлу. И он за то полюбил ботик, что ботик – были стены, была защита от полой воды. И потом привык и полюбил.
Крови он боялся, но малое время. Он видел, ребенком, дядю, которого убили, и дядя был до того красный и освежеванный, как туша в мясном ряду, но дядино лицо бледное, и на лице, как будто налепил маляр, была кровь вместо глаза. И он тогда имел страх и тряску, но было и некоторое любопытство. И любопытство превозмогло, и он стал любопытен к крови.
И третья боязнь была – тот гад, хрущатый таракан. Эта боязнь осталась.
А что в нем было такого, в таракане, чтоб его бояться? – Ничего.
Он появился лет с пятьдесят назад, пришел из Турции в большом числе, в турецкую несчастную кампанию. Он водился в австериях, и в мокрой месте, и в сухом: любил печь. Может, он его боялся оттого, что гад с Туречины? Или что он защельный, тайно прятался в щели, что все время присутствовал, жил, скрывался – и нечаянно выползал? Или его китайских усов?
Он похож был на Федор Юрьича, кесарь-папу, на князь Ромодановского, своими китайскими усами.
Или что он пустой, и, когда его раздавишь, звук от него – хруп, как от пустого места или же от рыбьего пузыря? Или даже что он, мертвая тварь, весь плоский, как плюсна?
И когда нужно было ехать куда – то ехали вперед рассыльщики и курьеры, и они осматривали домы: где пристать, есть ли гад? А без того не приставал.
Против гада не было изводчика, ни защиты.
А теперь он, Петр, плакал, в его глазах стояли слезы, и он не видел таракана. А когда одеялом утер глаза – тогда увидел.
Таракан стоял, шевелил усами, посматривал, и на нем был черный туск, как на маслине. Куда пойдут те ноги, сорок сороков? Куда они зашуршат? И соскочит на постель и пойдет писать по одеялу. Тогда стало томно его ножным пальцам, он задрожал, натянул одеяло на нос, а потом опростал руку из-под одеяла, чтобы дотянуться рукой до сапога и бросить сапогом в гада, пока тот стоит и не прячется. Но сапог не было, туфля была легкая и не убьет. Он потянулся и за нею, да не мог достать и, повывая, пополз на руках. Какие слабые! Не держат! А грудь – как тюфяк, набитый трухой. Он так полежал, отдохнул. Потом руками дополз до кресел. Кресла были дубовые, точеные, и вместо ручек – женские руки. Он последний раз подержался за дубовые тонкие пальцы, и рука, как в воду, – съехала в воздух – все за туфлей. А туфли нет, и дна нет, и рука поплыла. Тут зубы забили дробь, потому что таракан стоял без его надзора и ждал его или, может, уже двинулся или сорвался куда.
И вдруг таракан в самом деле упал, как неживой, стукнул и был таков. И оба были таковы: Петр Алексеевич лежал без памяти и безо всего, как пьяный.
Его сила вышла. Но он был терпелив и все старался очнуться и скоро очнулся.
Он обернулся, выкатив глаза, на все стороны – куда ушел гад? – посмотрел плохим взглядом поверх лаковых тынков и увидел незнакомое лицо.
Человек сидел налево от кровати, у двери, на скамеечке. Он был молодой, и глаза его были выкачены на него, на Петра, а зубы ляскали и голова тряслась.
Он был как сумасбродный или же как дурак, или ему было холодно. Рядом сидел еще один, старик, и спал. Лицом он был похож как бы на Мусина-Пушкина, из Сената. Молодой же по лицу был немец, из голштейнских.
Тогда Петр посмотрел еще и увидел, что у молодого ляскают зубы, а губы видимо трясутся, но что он не дурак, и сказал слабо:
– Ei, dat is nit permittert[1].
Ему было стыдно, что его таким видит голштейнский, что он забрался в спальную комнату. Но вместе поменьшел и страх.
А когда взглянул на печь, таракана не было, и он обманул себя, что почудилось, не могло того статься, откуда здесь быть таракану? Стал слаб на некоторое время и забылся, а когда раскрыл глаза, увидел троих людей – все трое не спали, а молодой, которого он посчитал за голштейнского, был тоже сенатор, Долгорукий.
Он сказал:
– Кто?
Тогда старик и все встали, и старик сказал, вытянувши руки по швам:
– Наряжены беречь здравие вашего величества. Он закрыл глаза и подремал.
Он не знал, что с этой ночи назначены по трое сенаторов стеречь в спальной. Потом, не смотря, махнул рукой:
– После.
И все трое вышли.
Произведения
Критика