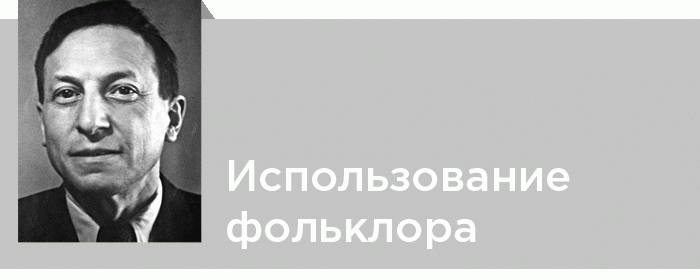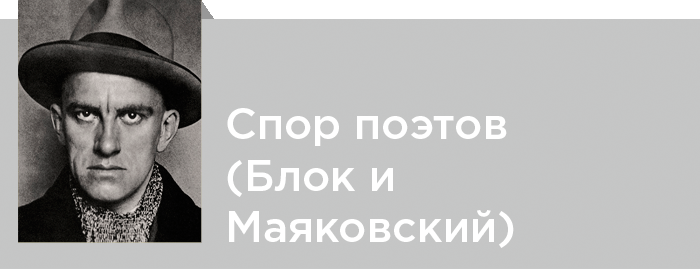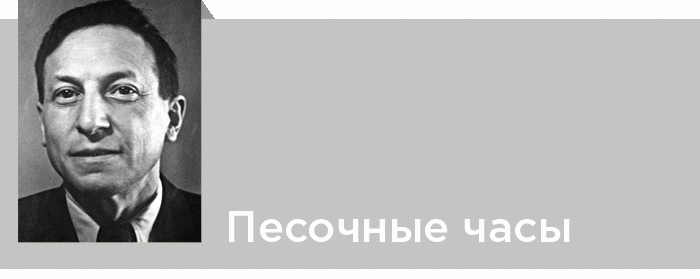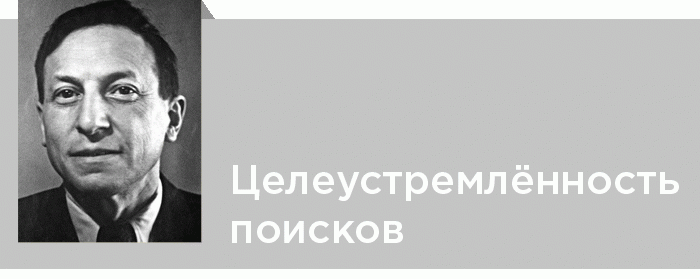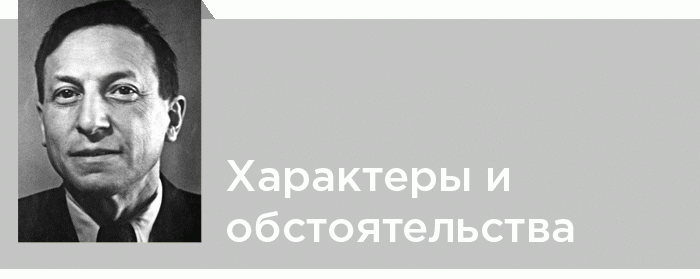Вениамин Каверин. Перед зеркалом

(Отрывок)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
29.I.10. Пермь.
Костя! Прежде всего прошу Вас не называть меня по имени и отчеству. Начальница может распечатать, и это покажется ей странным и даже неприличным. Впрочем, у нее неприлично уже то, что я переписываюсь с мальчиком (хотите — юношей). Вы пишете, что я просила Вас быть искренним? Вы меня неверно поняли, Костя. Именно этого-то мне и не хотелось. В обязанность дружбе полную искренность я не ставлю и сама всегда и во всем откровенной быть не хочу, так как у каждого есть своя «святая святых». Я и так слишком себя показываю, хотя следовало бы лишь до известной степени быть откровенной со всеми. Интересно, почему Вы считаете меня другом? Сейчас я как раз не в расположении говорить о себе, а то, пожалуй, Вы пожалели бы о своей, слишком лестной для меня, торопливости.
Теперь мне хочется сказать Вам, что я солгала, сказав, что уже была однажды на балу в мужской гимназии. До прошлого года нас туда не пускали. После бала про меня распустили сплетню, и мне пришлось выслушать от начальницы приятные комплименты. Меня это страшно возмутило, не начальница, конечно, а мальчики, с которыми я была давно знакома. Правда, потом они извинились, но хотя я и добрая, как говорят, но не прощаю людям. И вот я не простила одному гимназисту: я бросила ему в лицо оскорбление, что он впоследствии объяснил моими взглядами, слишком, по его мнению, идеальными.
Я читаю сейчас Вербицкой «Ключи счастья» и «Путешествие на корабле «Бигль» Дарвина. Подумать только — юношей отправиться на пять лет в кругосветное путешествие. Какое счастье! Извините за почерк и ужасный слог с ошибками.
Лиза.
Пермь. 1910
Военный оркестр гремел на хорах, тоненький молодой человек из Дамского попечительства о бедных носился по залу, дирижируя танцами на плохом французском языке, мамы в креслах сидели вдоль стен, а подле них стояли, ожидая приглашения, раскрасневшиеся нарядные дочки.
Пансионерки были с классной дамой Анной Петровной, толстой, молодой и доброй, огорчавшейся, что кавалеры обходят ее девочек, и Лиза вдруг смело пошла через круг танцующих по навощенному, усеянному конфетти полу. Незнакомый гимназист в длинном парадном мундире, которые уже давно никто не носил, подлетел к ней, пригласил на падекатр; они сделали тур и остановились подле комнаты, где мужчины разговаривали и курили, а женщины хлопотали, устраивая лотерею. Другой знакомый гимназист попросил венгерку, но Лиза сказала, что венгерку нельзя, она обещала. Можно кадриль. Потом, танцуя с Карновским кадриль, она с ужасом вспомнила об этом. Но ужас был какой-то веселый, счастливый, кружившийся вместе с ней в разгоряченном, гремящем и тоже счастливом воздухе бала. Все было весело — танцевать, разрывая длинные разноцветные ленты серпантина, поскользнуться и чуть не упасть, когда Карновский, стоя на одном колене, повел ее вокруг себя в мазурке, стоять с ним в тамбуре подъезда, где было прохладно и тихо, только доносились из зала лихие, отчаянные возгласы дирижера.
Весь вечер Карновский не отходил от нее, принес ей лимонаду и пирожные из буфета, подарил розовый, отделанный шелком ящичек для писем, который он выиграл в лотерею.
— А ведь это значит, что судьба в самом деле велит нам переписываться, Лиза.
Он предложил проводить ее, и она согласилась, хотя и знала, что в пансион надо вернуться с Анной Петровной и что, если она придет одна, ей непременно сбавят за поведение.
Снег искрился и сверкал от луны — и было так холодно, что у Лизы даже замерзли губы. Конечно, она запомнила, о чем они говорили, это был серьезный интересный разговор, но в тысячу раз серьезнее и важнее было то, что Карновский так почтительно предложил ей руку и теперь вел ее, как королеву, держась вполоборота к ней, нарочно, чтобы показать, что он только для нее существует на свете.
Через рукав она чувствовала его твердую мужскую руку...
12.VIII.10.
Пишите мне, Костя, на конверте «Пермь», а не «здесь» или «местное», так как дома должно произойти объяснение по поводу нашей переписки, а мне хочется его отдалить. Это переписка есть проступок перед папой, который не переносит, когда я бываю с мальчиками, потому что не верит в их хорошие намерения, а заодно не доверяет и мне. Но из этого не следует, что она (переписка) должна прекратиться. Последнее может случиться лишь в том случае, если я не смогу отвоевать себе независимое положение. Переписываться же тайно я не желаю.
Костя, Вы не поняли меня: у нас семь классов, и последний, то есть первый, равняется седьмому классу гимназии. Я собралась после пансиона ехать за границу, у меня есть небольшие средства, положенные на мое имя дедом. Но куда? И потом, эти деньги можно взять только после того, как мне исполнится двадцать один год. Вообще, я решила остаться в России. Ужасно хочется поскорее кончить пансион. Но знаете, что меня больше всего смущает: цель жизни. Скажите мне откровенно, с какой целью Вы учитесь и живете? Правда, ужасно трудно разрешить этот вопрос. Ну, пока до свиданья, еще бы написала, да жарко. Читали вы дневник Марии Башкирцевой? Я не могу от него оторваться. Меня поражает уже то, что она способна думать о себе с утра до ночи и даже во сне. Я попробовала — и представьте, это оказалось очень трудно. Уже через четверть часа я стала думать о своей подруге, а потом об одной классной даме, которой мы решили насолить. Башкирцева пишет, что жизнь — это Париж, а Париж — это жизнь. Может быть, поехать учиться в Париж?
15.XI.10. Пермь.
Если вы считаете меня другом (в письмах это видно только из обращения), то будем переписываться. Если нет — то лучше бросить. Да, мне хочется быть Вашим другом, хотя, без сомнения, я смешна в Ваших глазах, если только Вы не тот, каким я Вас себе представляю. Я доверчива и непостоянна в своих суждениях, что, кстати, видно из предыдущих строк.
Напишите мне об университете, о Ваших впечатлениях, о трудности предмета — ведь я тоже хочу идти на математический. Обо мне говорят: лед и огонь. Но это сравнение нейдет здесь: при чем тут характер, были бы лишь способности и желание!
С Вашим письмом произошло несчастье: начальница его распечатала и запретила переписываться. По поведению мне хотели поставить одиннадцать, но поставили все же двенадцать, жалея мои успехи. Теперь Вы мне пишите на адрес подруги, и это даже лучше, потому что можно не бояться быть прочитанным: Никольская улица, дом 14, Марии Андреевне Милютиной, для меня.
Костя, неужели это правда, что какой-то корреспондент сообщил о смерти Толстого, когда он был еще жив, то есть за несколько минут до его кончины? Эта бесстыдность и публичность так поразили меня, что от возмущения я даже перестала плакать.
Если можете, пришлите карточку в форме студента, у меня глупая пансионская любовь к форме. Как я говорила, что забуду Ваше лицо, так и случилось. Только помню, что Вы в светло-синем пенсне.
Напишите, Костя, о своих товарищах, об их идеях и волнениях.
Читая мне нотацию, начальница вообще советовала не переписываться со студентами. Я лгала, смеялась и снова лгала. Вы даже не можете вообразить, как часто приходится лгать в пансионе, особенно начальству, — на каждом шагу. Иногда даже хочется сказать правду, я попробовала, но перестала, заметив, что ее-то и принимают за ложь.
17.XII.10.
Извините, Костя, что долго не писала. У меня гостила подруга, а после ее отъезда я не могла до сих пор собраться. Мне очень хочется с Вами увидеться и поговорить, и я даже ходила по улицам и смотрела — не встречу ли господина в светло-синем пенсне, хотя прекрасно знаю, что Вы — в Казани. Наверно, не следует писать Вам об этом, но мне давно хотелось иметь друга, с которым я была бы вполне откровенна. А то я откровенна со всеми, и это мне очень вредит. Когда я поступила в пансион, я сразу полюбила одного учителя и очень любила до нынешнего года за то, что он хороший семьянин и входил в наши интересы. Но потом он, по-видимому, стал просто-напросто думать, что я бегаю за ним — ведь это принято в пансионах, — и любовь стала охлаждаться. Потом я была дружна с одной классной дамой, что причинило мне немало неприятностей, потому что она меня совсем не поняла. Наверное, Вам уже надоело читать такое неразборчивое письмо. Я очень рассеянна и не люблю перечитывать.
Напишите мне ваше отчество.
Лиза.
10.I.11. Пермь.
Костя, какие разные Ваши два письма. Первое — восторженное, а второе — такое унылое, как будто Вы что-то дорогое потеряли. По первому письму я решила, что Вы влюблены, — правда или нет, мне очень интересно. Вы знаете, а я даже никогда не увлекалась, и это почему-то считают странным. Сама же я объясняю это просто. У меня уже создался известный идеал, а его нет среди окружающей молодежи. А если я влюблюсь в человеке, не отвечающего моему идеалу, это будет индукция — и только.
На праздниках я, как и в прошлом году, была на балу в мужской гимназии. Так странно, что прошел уже год, а тот вечер вспоминается мне, будто я прочитала о нем в какой-то книге. У меня тогда были плохие отношения с регентом, который у нас имеет большую власть, и я узнала, что меня не пустят на бал за то, что ушла из певчих. Но мне все-таки разрешили, и первую половину вечера, пока шел концерт, я была не в духе, как всегда, когда задевают мое самолюбие. Вы пригласили меня, и мне все думалось: почему Вы именно меня пригласили? Когда мы танцевали венгерку, мне было страшно, что Вы потеряете свое пенсне. Кстати, я так и не знаю, какие у Вас глаза, мне кажется — серые или голубые. У меня почти все танцы были розданы мальчикам, и они обиделись, в особенности один, который думал, что я в него влюблена.
Ужасно надоело в пансионе. Скоро экзамены, хочу сдать хорошо, надо заниматься, тем более что я думаю о курсах, к которым совершенно не подготовлена. Но времени совершенно нет! Надеялась почитать на страстной и на пасхе — каждый день служба, да еще два раза, очень утомляюсь.
Еще я должна сказать Вам, Костя, что Вы совершенно не понимаете моих писем. Вы считаете меня наивной пансионеркой, которая навязывается со своей дружбой, увидевшись с мальчиком (хотите — юношей) единственный раз. В этом я почти уверена, потому что иначе Вы не отвечали бы в такой общей форме на мои вопросы.
Е. Тураева.
23.III.11 Пермь.
Костя, что с Вами, Вы так долго не пишете! Я уже все передумала: не больны ли Вы? Может, не находите интересным со мной переписываться?
Этот год у меня удивительно гладкое настроение: ничего не читаю, не учусь. Начальница опять начала придираться, да и классная дама, которую я так любила и которая ко мне относилась очень хорошо. Лишили медали, сбавив из-за поведения. В отпуск не хожу — все наказана. Голова тоже совершенно пустая. Жду не дождусь, когда кончу.
26.VI.11.
Благодарю Вас, Костя, за письмо. Теперь я живу на Воткинском заводе. Сюда перевели полк, в котором служит отец. Мой адрес: командиру второй роты Тураеву для Елизаветы Николаевны. Я кончила с золотой медалью, и начальница при прощании сказала, что простила меня ради моей доброй души, — не знаю уж, чем я эту доброту показала. О будущем пока ничего сказать не могу, так как папа не может меня содержать в Симбирске. Таким образом, я прежде должна найти уроки и тогда, может быть, смогу учиться в восьмом классе гимназии в Симбирске, а там уж мне легче будет ехать в Петербург. Воткинский завод — захолустье, каких мало, даже библиотеки нет, а об интеллигентных людях и говорить нечего. Я здесь очень скучаю. Мы живем довольно далеко от центра, где находится красивый пруд, и его плотина служит местом для гуляний, а по жаре, которая спадает только к десяти часам, нет никакой охоты ходить. Вы ведь тоже думаете о Петербурге. Поедете ли туда и когда? Вы еще не ответили на мои вопросы, хотя знаете, что я буду откровенно отвечать на Ваши. Я вообще откровенна и люблю такое же отношение к себе. Предугадать Ваши мысли: «Боже, какая наивность, сентиментальность». Верно ведь? Но только это совсем не так. Я просто руковожусь одним: «мне хочется», и почему же этому не быть, ведь я, конечно, уважаю и чужую волю.
Сейчас читаю «Цепи» Ожешко. И думаю, что замужество действительно не что иное, как цепи, особенно для женщины. Я ужасно жалею замужних женщин, конечно молодых. Вся их личная жизнь потеряна, и это — общая судьба почти, за редким исключением. Я стою против брака, интересно, как Вы?
Посылаю Вам свою фотографию. Правильно ли я угадала, что у Вас глаза серые? У меня — неопределенного цвета: иногда зеленые, а иногда серые, за что в пансионате меня звали «русалкой» и «Ундиной».
Не знаю, как Вы разбираете мой отвратительный почерк. Если судить по Вашему, мы — полная противоположность.
Костя, будьте со мной откровенны, забудьте, что я — барышня. Ваша сдержанность, скрытность не позволяют и мне вполне довериться Вам.
Лиза.
К этому письму была приложена фотография институтки в белом переднике, с белой пелеринкой на плечах. Черный бант поддерживал пышно уложенную груду волос. Лицо было доверчивое, с большим красивым ртом и широко открытыми улыбающимися глазами. «Косте Карновскому, — было написано на обороте фотографии, — на память о нашей оригинальной дружбе».
На почтовой бумаге были оттиснуты цветные заставки: на одних письмах — Петрушка, погоняющий черта, на других — мышки, оседлавшие рыжего зеленоглазого кота. Адрес выглядел старомодно-забавно: «Казань. Продолженье второй горы, дом Аверьянова. Его высокородию г. Карновскому». Здесь и там попадались засушенные цветы в самодельных конвертах из прозрачной бумаги.
12.IX.11. Сарапул.
Большое спасибо, друг, за Ваше письмо. Действительно, немало воды утекло с тех пор, как мы стали переписываться. Смешно вспомнить, как наивна я была в пансионе! Только теперь я начинаю знакомиться с жизнью, и нельзя сказать, что она встречает меня с цветами. Я хотела кончить восьмой класс в Симбирске, собралась туда, оставалось в буквальном смысле надеть пальто и шляпу, как получаю вдруг телеграмму, что нет ни одной свободной вакансии. Пришлось остаться и кончить восьмой класс в Сарапуле. А как здесь я скучаю! Все одна! Совершенно не с кем поговорить по душам! Сколько сомнений! Невозможно было больше жить надеждами, мечтой о будущем. И вот я поступила в рисовальную школу. Плата недорогая, но все же пришлось взять еще один урок. Я стараюсь скопить хоть немного денег, потому что очень мучаюсь своей зависимостью от родителей и знаю, что она будет особенно тяжела в Петербурге. Вы, Костя, жалуетесь на разобщенность студентов. А по-моему, и не может быть единения, когда нет большого общего дела. Впрочем, дело-то есть, да все понимают его по-разному. По-моему, идеальное общение может быть только в критические моменты. А в спокойное время студенты должны жить кружками, которые имеют свои цели. Организация этих кружков, по-моему, зависит всецело от нас самих. Вот и я, например. С каким удовольствием устроила бы здесь своей кружок! Но, к несчастью, это невозможно. Ведь я — гимназистка. А гимназия ставит узкие рамки для самостоятельной мысли. Меня ужасно тяготит гимназия. В пансионате ждала, ждала конца! А тут опять целый год мучиться.
Боже, как хочется жить широко, со смыслом, по своей воле! Читаю Ибсена, перечитываю Белинского, в восторге от того и другого. Спокойной ночи!
23.III.12. Дер. Крюки.
Как давно мы не писали друг другу, Костя! Может быть, у Вас пропало желание переписываться со мной, хотя бы и редко? У меня, как видите, оно еще сохранилось. Мне очень интересны Ваши письма, особенно — когда у Вас появился кружок и журнал. Вы как-то писали, что цель журнала — объединить молодежь. Но это лишь разожгло мое любопытство.
Знаете ли Вы, что я служу в деревне? Мне нужны средства, чтобы учиться. Хотя бы с грошами, но дала себе слово в будущем году поехать в Питер. Может быть, поступлю на Бестужевские. Мне всегда хотелось изучать искусство — у меня порядочные способности к рисованию, но это трудно для меня в материальном отношении. По-прежнему намерена поступить на математический факультет, потому что убеждена, что математика — самый короткий путь к самостоятельному мышлению. На помощь отца я не рассчитываю, мы с ним говорим на разных языках. Словом, силы и желания у меня много, а знаний никаких. И все же я не унываю, все же надеюсь, сама не знаю — на что.
О жизни в деревне я ничуть не жалею. Раньше я не имела о ней никакого понятия, а теперь приобрела опыт, хотя и небольшой. Мир моих понятий расширился в том отношении, что я поняла, до какой степени несчастен и невежествен народ! Пройдут тысячелетия, прежде чем наши усилия (интеллигенции) принесут плоды, а до той поры равенство, по меньшей мере духовное, — невозможно. Интересно, как решаются эти вопросы в Вашем кружке. У меня много знакомых из разных университетов, и живут они, по моим наблюдениям, удивительно безотчетно. Может быть, я неправа?
Где Вы проводите лето? В начале июля я собираюсь в Симбирск. Вероятно, заеду в Казань, хотелось бы повидаться. Желаю всех благ, жму руку.
Лиза.
9.V.13. Сарапул.
Очень жаль, что Вы не получили моего письма осенью, Костя: мы могли бы тогда переписываться, а то я так скучала в деревне без писем. Теперь вернулась в Сарапул, экзамены кончились рано, и вот уже неделя, как я брожу без дела, если не считать рисования, которым я занималась, кстати сказать, и в деревне.
Осенью еду на курсы в Питер. Пока решила поступить на Бестужевские, на математическое отделение. А потом, может быть, перейду в архитектурные, то есть на последние мне как раз и хочется. Но я боюсь потерять время попусту, так как совершенно ничего не знаю об архитектурных курсах. Многое я загадываю на будущее, суждено ли выполнить?
Цель Вашего кружка мне очень симпатична. Как бы я хотела быть его членом! Я Вам писала, что хотела основать кружок здесь, но мне не удалось. Главным препятствием были домашние обстоятельства. У нас с папой совершенно различные взгляды. Да и в гимназии ко мне относились очень недоверчиво. (Здесь гимнизистки в высшей степени неразвиты.) А когда я приобрела их доверие, было уже поздно. Тогда я решила посвятить этот год рисованию. Очень жаль, что приходится учиться ему урывками. Кажется, у меня есть способности и вообще любовь к искусству. Какое искусство Вы предпочитаете?
Времени, прожитого в деревне, я не жалею: я приобрела опыт и знание деревни, хотя и небольшое. Раньше я не имела о ней ни малейшего понятия.
Читала я порядочно, хотя подбор книг был скверный, вернее — его не было, так как город — далеко и книги доставались с трудом. Все же удалось добыть «Записки революционера» Кропоткина, «Портрет Дориана Грея» Уайльда и Амфитеатрова, который, по-моему, интересно разобрал положение античного раба. Читали ли Вы? Если — да, напишите мне Ваш вывод.
25.VIII.1913. Казанская железная дорога.
Ну, Костя, должна признаться, что Вы не просто удивили, Вы поразили меня. Ведь читая Ваши редкие, сдержанные, чтобы не сказать — холодные, письма, я все думала — куда же девался тот любезный, разговорчивый студент, который весь вечер танцевал со мной и старался угадать каждое мое желание? Когда Вы показывали мне галеру, на которой Екатерина Вторая путешествовала по Волге, я подумала, что она позавидовала бы приему, который Вы устроили мне в Казани. Это шутка, Костя, но откровенно скажу, я была глубоко тронута, когда оказалось, что Вы отменили все уроки и университет и подарили мне чудесный день с самого утра до ночи.
Мне вспоминается Зилантов монастырь, когда мы карабкались по горке. Вы рассказали, что в одной из пещер, по преданию, жил когда-то крылатый змей Зилант, и так смешно вдруг изобразили его, что я чуть не упала на землю от смеха. А этот в соборе серебряный ковш с надписью, которую Вы объявили своей жизненной программой: «Пивше возвеселимся и любовью усладимся и вовеки тоя не лишимся», — видите, я запомнила наизусть!
Ваш друг Лавров очень понравился мне, я даже представляла себе, что в такого человека можно влюбиться. Неужели он действительно так строго судит о Вас? В его шутках мне показался оттенок серьезности.
Словом, спасибо, спасибо Вам, милый Костик! Сразу же по приезде в Петербург я напишу Вам о своих впечатлениях, как устроилась, что на курсах и вообще обо всем и буду с нетерпением ждать ответа. Мне и прежде была дорога Ваша дружба, а теперь стала еще дороже. Право, мне кажется, что в моей жизни не было более прекрасного дня.
Лиза.
Казань. 1913
День, который Лиза провела в Казани, был проникнут ощущением конца одной жизни, пансионской, гимназической, и начала другой, самостоятельной, которая вся еще была впереди.
У Лизы и прежде были свидания. Она тайком убегала из пансионата на набережную Камы, где ее по вечерам ждал один гимназист, в которого, ей казалось, она была влюблена. В Сарапуле за ней ухаживал подпоручик, привозивший ей письма и деньги от отца, служившего в пехотном полку, который стоял в Воткинском заводе. Но приезд в Казань был не просто свиданием, а событием, которое она давно и с нетерпением ждала. Событием была и тайна свидания: никто из родных не знал, что по дороге в Петербург она собирается остановиться в Казани.
На пристани Лиза не сразу узнала Карновского: после бала у нее осталось другое впечатление о нем, а на фотографии, которую он прислал зимой, — еще какое-то третье. Теперь все определилось.
Он был белокурый, выше среднего роста, пожалуй что и красивый в своей новенькой тужурке и оглаженной сатиновой косоворотке. Светло-синее пенсне он носил, как подумала Лиза, потому, что носить пенсне было модно. Он изменился за два года, в Перми он был какой-то белорумяный — «точно ангел на рождественской елке», вспоминая о нем, думала Лиза. Но в развороте широких плеч, в красивых белых зубах, в твердой мужской уверенности, с которой он поклонился и заговорил улыбаясь, не было ничего ангельского, а было то, что заставляло постоянно думать о нем и с нетерпением ждать его писем.
Это совсем не значило (как полагала Лиза), что она была влюблена. У них была интересная серьезная переписка, они были друзьями, и чувство, что у нее есть друг, студент-математик, умный, начитанный и, по-видимому, дороживший их отношениями, поднимало ее в собственных глазах.
Она волновалась, подъезжая к Казани, придумывала, как ей держать себя, и решила, что сдержанно, в духе его коротких, сдержанных писем. Но уже в первые минуты встречи эта придуманная манера как-то забылась, может быть, потому, что Костя оказался обыкновеннее, чем она ожидала. И ей сейчас же стала нравиться эта обыкновенность. Было решено, что Карновский проводит ее в гостиницу, а потом, после урока, вернется и покажет Казань.
— Смотреть-то в общем нечего, — сказал он. — Но у меня есть старинный путеводитель, забавный. Мы будем читать его и смотреть.
Он оставил ее в номерах Бонарцева на Черном Озере, и Лиза немного огорчилась, когда часа через два он вернулся не один: за ним лениво плелся студентик в бесформенных штанах и потертой тужурке.
— Лиза, познакомьтесь. Великий математик и мой друг Коля Лавров.
У Лаврова был остренький нос и прищуренные умные глазки. Он снял фуражку с выцветшим синим околышем и подал Лизе маленькую руку.
— Мадмуазель, я не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с вами. Дело в том, что только два человека в мире могли заставить нашего пунктуалиста не пойти на лекцию профессора Маврина и отменить уроки.
— В самом деле? Кто же это?
— Вы и лейтенант Глан.
— Кто такой лейтенант Глан?
— Стыдитесь! Вы не читали гамсуновского «Пана»? Глан — человек со звериным взглядом, который один живет в лесу и не знает, что он сделает в следующую минуту. Костя, сними пенсне.
Карновский улыбнулся и, сняв пенсне, протер его носовым платком. Глаза были серые, большие, блестящие и немного растерянные, как у всех близоруких.
— Опасный человек, — серьезно сказал Лавров. — Вы его интересуете, а человечество — нет. В пьяном виде он гладит морды извозчичьим лошадям и пристает к прохожим. Засим — прощайте. Надеюсь, что столичный город Санкт-Петербург не обманет ваших надежд.
И он ушел.
— Умнейшая голова, надежда факультета, — сказал Карновский. — Вы понравились ему.
— Правда? Я рада.
Не было снега, поблескивающего под луной, город был другой, незнакомый. Не было морозной ночной тишины, неожиданной после бала с его надушенным жарким воздухом, с лентами серпантина, которыми швыряли в нее раздосадованные гимназисты. Не было чувства риска, веселой уверенности, что завтра ей непременно влетит.
Но все это было, было! При свете дня в осенней, шумной, оживленной Казани!
На Сенном рынке Константин Павлович купил ей вышитую бисером тюбетейку с кисточкой, она сразу же надела ее, и он притворно испугался, что сейчас она исчезнет, как пушкинская Людмила.
— Что вы стали бы делать?
— Пошел бы в ближайшую полицейскую часть и сообщил, что пропала Елизавета Тураева, абитуриентка, восемнадцати лет.
Уходя с базара, он купил ей еще и хорошенькие татарские туфли, бархатные, украшенные золотой канителью, и в Державинском саду, испугавшись, что они ей не впору, предложил примерить. Туфли оказались впору, он объявил, что в тюбетейке и туфлях Лиза похожа на царицу Сююмбике, и тут же разыграл старого, сгорбленного визиря с трясущейся головой, который показывает Казань капризной царице.
— А вот и путеводитель времен казанского ханства.
И Карновский стал вслух читать советы «всем путешествующим от Твери до Астрахани на пароходе общества «Самолет»: «В Казани есть множество гостиниц и номеров для проезжающих, но мы не беремся хвалить первые: лучшая из них, «Одесса», все же уступает номерам купчихи Христофоровой».
Кремль был белый, раскинувшийся, но стройный. На толстых стенах были построены другие, тонкие, с бойницами, круто срезанными книзу, с башнями, точно прикрытыми громадными круглыми монашескими шапками.
Крепость стояла на горе, с которой была видна узенькая Казанка. По речке плыли грязные доски. У стен кое-где лежали ядра, и Карновский сказал, что гимназистки перед экзаменами приходят в Кремль, чтобы целовать эти ядра, — хорошая примета!
— Ядра целуют? А у нас в Перми ходили за благословеньем к одной тетке, торговавшей бубликами.
Остановились у башни царицы Сююмбике, и Лиза удивилась — башня была громадная, семиярусная, с высокой сквозной аркой, прорезавшей первый этаж. Издали она казалась стройной красной иглой. В овале арки сохранилась изящная железная инкрустация, и, когда Лиза залюбовалась ею, Карновский сказал, что и теперь под Казанью есть деревни, где выделываются металлические украшения, нисколько не уступающие этой решетке.
— Подумайте, как интересно! — И он прочитал: — «Казанские татары утверждали, что в яблоке на башенном шпиле хранятся какие-то таинственные, важные для них бумаги, но это мнение оказалось ложным. В 1830 году этот шар по приказанию министра внутренних дел был снят, осмотрен, и мечта татарская разрушилась: он оказался пустой и сделан из латуни».
Они пошли в ресторан Панаевского сада, выбрали удобный столик. Карновский протянул Лизе карточку и, когда она стала выбирать что-нибудь подешевле, заказал мазар-жульен-ромэн. Они остались голодными после этого загадочного блюда, и Карновский велел подать подовые пироги.
— Жаль, что Коля ушел. Вопреки своей тощей комплекции, он эти пироги гутирует с азартом, — сказал он смеясь, и Лиза вдруг поняла, зачем Костя привел к ней Лаврова: «Боже мой, да как же я не догадалась! Он хотел показать мне своего друга. И эту новую тужурку, которую он, наверное, носит редко, он надел для меня! И то, что он так старается быть занимательным, веселым. Да и не старается вовсе, а просто ему весело, что мы встретились, и хочется, чтобы я узнала его».
— А ведь подруги недаром прозвали вас Ундиной, — откровенно любуясь ею, сказал Карновский. — У вас действительно глаза то серые, то зеленые. Ну, рассказывайте, милая Ундина.
— О чем?
— О себе разумеется. Ведь несмотря на нашу переписку, я почти ничего о вас не знаю.
— Что же рассказывать? Полковая семья, и почему-то другие полки годами стоят в одном городе, а отцовский переводят и переводят, так что я жила и в Саратове, и в Перми, и в Симбирске. Поэтому меня и отдали в пансион. Мама умерла, когда я родилась, отец женился снова, и мачеха... — Она замялась. — Он — добрый, мягкий человек, все его любят, а она властная, подозрительная, ее боятся и обманывают. Я-то не боюсь, а у сестры — забитый вид, и я очень рада, что ее тоже скоро отдадут в пансион. Есть у меня еще брат, и мы с ним дружны, меня только огорчает, что он тоже хочет стать офицером. Ну, что еще? Все. Теперь вы.
— Я? Загадочная личность. Последователь Смайлса.
— А кто такой Смайлс?
— Был такой философ, который трогательно заботился о человечестве. Книги его называются: «Бережливость», «Самостоятельность», «Характер», «Долг». В конечном счете все сводится к тому, что в каждом человеке сидит английский клерк в котелке, с зонтиком, и если вытащить его оттуда на свет божий, все пойдет как по маслу.
— Вы смеетесь?
— Не совсем.
— Надо будет прочитать. Родные всегда упрекают меня за небережливость.
— Уснете на первой же странице. Я ведь его читал, потому что стремился существовать не как-нибудь, а сознательно, согласно теории. Причем теорий было много. Одна из них, например, заключается в том, что можно прожить, питаясь по-китайски — только рисом. Потом я прибавил к рису хлеб и все равно за год почти потерял зрение, так и остался на всю жизнь близоруким. Мне было тогда шестнадцать лет. Была и другая теория. Но рассказывать вам о ней мне не хочется. Вы еще маленькая и не поймете.
— Расскажите.
— Любовь, согласно этой теории, есть нечто прямо противоположное так называемому «семейному очагу». Я понял это, насмотревшись на семейную жизнь старшего брата.
Какой-то господин в чесучовом костюме, в канотье, поигрывая тростью, прошел мимо них, скользнув наглым взглядом, — и Карновский сказал, что этот филер, которого недавно студенты избили в трактире.
— А кто такой филер?
— Это сыщик, Лизочка, сыщик, — поучительно сказал Карновский.
— Я тоже против брака, — сказала Лиза. — Но я люблю детей. А детей, согласно вашей теории, должен приносить аист.
— Ого! — смеясь, сказал Карновский. — Ого! Иметь детей, Лизочка, — это в наше время преступление.
— Почему?
— Потому что они еще до своего рождения обречены на ложь, произвол и бесправие.
— Вы неправы, — подумав, сказала Лиза. — То есть, может быть, и обречены, но все равно эта теория — эгоистическая, и, если бы мне пришла в голову такая теория, я бы, не теряя ни одной минуты, повесила себе камень на шею и бросилась в Волгу. Вы любите Волгу?
— Очень.
— Значит, вы все-таки способны любить?
— Не знаю. Кажется, да.
— Не помню, где я читала статью о Сапунове, знаете, был такой известный художник. Он утонул. Это была удивительная статья. Автор доказывал, что Сапунов утонул потому, что его душа была родственна стихии воды. Он упоминал еще кого-то. Кто еще утонул? Кажется, Писарев?
— Да.
— Ну вот, иногда мне кажется, что у меня тоже такая душа. Только я родственна не всякой воде, а именно Волге. Если я когда-нибудь утоплюсь, так непременно в Волге.
13.IX.13. С.-Петербург.
Наконец-то я Вам пишу, Костя. Не знаю, с чего начать, — так много впечатлений! Телеграмму Шуре (не знаю, писала ли я Вам о ней, это моя лучшая подруга) я не дала, потому что нового ее адреса не знала. Номеров свободных поблизости от вокзала не оказалось, я осталась между небом и землей, и мою участь разделила еще одна симпатичная курсистка. Через некоторое время к этой курсистке подходит, вижу, какая-то энергичная барышня и предлагает такую комбинацию: без мужчин нас нигде не пустят, поэтому она сейчас обратится к своим знакомым на вокзале, и все устроится наилучшим образом — для нас и для них. Мы ее любезно поблагодарили, но отказались. В конце концов жандармский начальник принял в нас участие, отправив в Общество защиты женщин. Переночевали там, заплатив пять копеек. Наконец на другой день разыскала Шуру.
На курсах мои занятия начались только девятого. Я выбрала отделение физики и астрономии и, чтобы не терять времени, хожу на лекции профессоров других факультетов. Слушала Платона — очень нравится. Знаете, Костя, что меня поражает? Мое равнодушие. Не отсутствие интереса, а странное впечатление, что все это уже было когда-то: я шла вдоль этих огромных зданий, высокие черные кареты обгоняли меня, и даже этот стук копыт о деревянную мостовую смутно помнится мне — точно я слышала его во сне или в своей предшествующей жизни. Как тут не поверить в переселение душ? Это чувство у меня с первых минут в Петербурге.
Костя, приезжайте на рождество. Я буду очень, очень рада. Конечно, Вы не вспоминаете обо мне? Это нехорошо. Шлю Вам мой искренний, сердечный привет.
2.Х.13.
Милый Костя, спасибо за дружеское письмо. Я тотчас же принялась за ответ, написала его и изорвала. Вспомнила полученный недавно от нового знакомого (очень умного человека) урок: не нужно навязываться другим со своими настроениями. Напишу Вам поэтому о своей студенческой жизни. Хожу на курсы, слушаю лекции, усердно занимаюсь тригонометрией и алгеброй; после праздников думаю сдавать. Английский продвигается туго. Встретила компанию студентов и, конечно, курсисток, но мне они не очень нравятся. Хорошие, честные и симпатичные, но очень уж узки их интересы. И в этом отношении Вы не выходите у меня из ума.
Помимо курсовых слушаю лекции на насущные темы. Например, Сперанского «Победители жизни». Говорит он красиво, но как-то пусто. Я попыталась пересказать его лекцию Шуре — а кончилось тем, что мы обе стали хохотать до упаду.
Кстати сказать, с нами случилась неприятная история: мы не могли своевременно заплатить за комнату, хозяйка отказала, и пришлось бегать по всему городу. Найти комнату в Питере — каторга. Бегали дня четыре, наконец устроились. Мой адрес: В. О., 15-я линия, д. 70, кв. 19.
Для отдыха я ходила по театрам с одним сарапульским знакомым. Видела в Александринке «Доходное место» с Варламовым и Стрельской, а в Мариинке — «Евгения Онегина» со Смирновым, Касторским и Славиной, оркестром дирижировал сам Направник! Я была в восторге — в особенности от Смирнова и оркестра.
Заинтересована и возмущена делом Бейлиса. Курсы на завтра объявили забастовку. Послали защитнику приветственную телеграмму. В университете тоже волнуются и в других учебных заведениях, вообще все принимают горячее участие в этом деле. С нетерпением ждем решения. Поистине ужасное обвинение бросается целому народу в лицо. Отвратительный процесс, с бесстыдным цинизмом ведется дело!
Милый Костя, не забывайте меня и, очень, очень прошу, чаще пишите. Шура шлет Вам привет.
14.ХI.13.
Милый, хороший Костя, спасибо за Ваше прелестное письмо. Скорее, скорее бы святки! Как бы мне хотелось, чтобы Вы сейчас были со мною. Я не умею выразить на бумаге то, что могла бы сказать, если бы Вы были сейчас со мною.
Хожу на лекции и огорчаюсь: сколько пробелов в моем подготовительном образовании! Слушаю анализ и почти ничего не понимаю. Оказывается, я еще так мало знаю из алгебры. Теперь я вижу, что интерес к искусству помешал мне серьезно подготовиться к математическому факультету. И продолжает мешать. Вот сейчас, например, я запоем читаю «Эллинскую культуру» Баумгартена. Да и не следовало бы слушательнице математического факультета бродить часами по Эрмитажу в почти идиотическом наслаждении.
С.-Петербург.
Костя, я была в Москве. Моя тетя (сестра отца), не видевшая меня с детских лет, вдруг пожелала встретиться. Она работает в Лиге борьбы с туберкулезом, но интересуется, как и я, искусством. В годах, но еще живая, энергичная, и не я, а она затаскала меня по Москве. С нами был ее друг Иван Иванович Реутов, преподаватель Строгановского училища, знаток искусства. Мы были в храме Христа Спасителя, в Кремле, в церкви Василия Блаженного и в первом этаже Третьяковской галереи (второй, к сожалению, ремонтируется). Видела Верещагина, который мне не очень понравился, может быть, потому, что он больше говорит уму, чем сердцу. Зато от Левитана и Борисова-Мусатова положительно не могла оторваться. «Призраки» последнего напоминали мне мои сны — не помню, писала ли я Вам, что вижу сны так часто, что даже удивляюсь иногда, если ночь проходит без снов? Перед картиной, которая мне нравится, я как бы раздваиваюсь — знакомо ли Вам это чувство? Чтобы глубоко почувствовать настроение картины, мне надо взглянуть на нее глазами моего двойника. И когда это удается, я испытываю даже перед грустными произведениями чувство непонятного счастья. К этому чувству присоединяется удивление: почему в двух шагах от Левитановского «Вечернего звона» видишь только грубые мазки, а в десяти или пятнадцати картина складывается так гармонично? Ведь мне казалось даже, что я слышу звон колоколов, доносящийся откуда-то издалека. Я не смотрела других художников, берегла впечатление, а вечером пошла на диспут о живописи, который в Политехническом институте устроила группа «Бубновый валет». Боже мой! Никогда в жизни еще не приходилось мне в один и тот же день испытывать такие противоположные впечатления. Попасть было почти невозможно, но тете удалось достать билеты с помощью Реутова, и, пробравшись через огромную толпу студентов, громко споривших с городовым, мы заняли свои места на хорах.
Вечер открылся докладом Кульбина, о котором тетя сказала, что ему, как врачу и статскому советнику, стыдно в сорок четыре года гоняться за модой. Кульбин сравнивал Скрябина с Пикассо(!) — и доказывал, что искусство должно развиваться «спиралеобразно». Потом художник Бурлюк — неуклюжий, в длинном пиджаке — объявил, что Рафаэль и Веласкес — мещане духа и что им удавалось притворяться художниками только потому, что в те времена еще не была изобретена фотография. В это месте тетя от негодования потеряла пенсне, и, пока мы его искали, Бурлюк успел разделаться с Элладой IV века и эпохой Возрождения. Иронические возгласы слышались время от времени, но в общем публика не очень сердилась. Но когда Бурлюк стал показывать на экране репродукции с «левых» картин, в зале началось бог знает что — шум, свист, мяуканье, топот. Тетя тоже разве что не мяукала. И действительно, картины — если можно так назвать бесформенные груды черно-белых кубиков или лошадиные морды, едва угадывающиеся среди каких-то крыш, — производят отталкивающее впечатление. Шум еще продолжался, когда на кафедре появилась стройная женщина лет двадцати семи в черном, строгом платье, с гладко причесанными волосами, — и наступила тишина, потому что сразу стало видно, что она дождется тишины, как бы долго ни пришлось дожидаться. «Среди картин, которые показал здесь Давид Бурлюк, две принадлежат мне. Но это грубая подтасовка, против которой я, Наталия Гончарова, решительно протестую. Группа, к которой я принадлежу, называется «Ослиный хвост». — Она терпеливо переждала общий смех и повторила ясным голосом: — «Ослиный хвост». И наша группа не имеет ничего общего с «Бубновым валетом». К сожалению, тетя, которая так волновалась, что чуть не упала с хоров в амфитеатр, помешала мне внимательно выслушать Гончарову. Между тем в том, что она говорила, попадались здравые мысли: «Художник должен твердо знать, что он изображает, а уже потом искать для своего замысла определенную форму». Тут же она сравнила произведения кубистов с каменными бабами, что по-моему, вздор, хотя бы потому, что нельзя безоговорочно сравнивать живопись и скульптуру. Но сама она мне очень понравилась. Более того, мне вдруг смертельно захотелось быть такой, как она, — серьезной, строгой и мужественно-убежденной. Я позавидовала и ее внешности, впервые в жизни рассердившись на свои длинные ноги.
(Письмо не датировано)
22.XI.13. С.-Петербург.
Милый Костик, зачем Вы не здесь? У меня очень тяжело на душе. Зачем я живу? Из любопытства? Я слишком ясно вижу безотчетность в собственных действиях, чтобы уйти от этого вопроса. Вот почему моя мысль все чаще останавливается на Вас. Я верю, что Вы живете сознательно, осмысленно, презирая мелкие цели, не ища, как я, оправдания. Значит ли это, что Вы нашли себя? Или — и не искали? Но можно ли найти себя без поисков и, следовательно, без участия сердца? Мое письмо, должно быть, покажется Вам смешным. Я так боюсь этого, что уже готова была разорвать его, но вот видите — снова слабость. Не разорвала.
Очень внимательно слежу за делом Бейлиса. У нас на курсах — общее возмущение. У меня много знакомых среди студентов юридического факультета, и там по поводу этого процесса бесконечные противоречивые разговоры.
Если бы Вы знали, Костик, как я вас жду.
Вокруг меня нет никого, кто помог бы мне рассеять мои сомнения. Единственный человек, перед которым, как это ни трудно, я готова сознаться в своей несамостоятельности, — это Вы. Право, мне кажется, что я отдала бы несколько лет своей жизни, только чтобы поговорить с Вами. Год за час! Скорее бы рождество!
Только жаль, что Вы так мало пробудете в Петербурге. Зачем так много времени для Москвы? Ведь Вы там уже были. Где Вы намерены остановиться? Если в номерах, то я советую лучше снять комнату на неделю. Это дешевле.
15.XII.13. С.-Петербург.
Костя, я Вам устроила комнату в том же доме, где и я. За неделю с Вас возьмут 3 рубля (с самоварами). Я не знаю, может быть, это дорого для Вас, и тогда я буду искать другую, но мне кажется, что это недорого, и хозяйка прекрасная. Так вот, скорее отвечайте. А главное, напишите, какой суммой Вы располагаете для театров? Я думаю, что Вы ничего не будете иметь против самых дешевых мест? Репертуар я еще не знаю, но напишите, куда Вам больше хочется: в оперу, в драматические? Скорей бы рождество!
2.I.1914. С.-Петербург.
Мой дорогой, Вам это покажется странным, но я ищу в себе душевные перемены после того, что произошло между нами, — и не нахожу, не сердитесь на меня за откровенность. Я даже смотрелась на себя в зеркало, прямо в глаза долго-долго, до дурноты. Нет, такая же!
Конечно, после Вашего отъезда я то и дело перебираю в памяти наши встречи, — может быть, это одно доказывает, что во мне что-то переменилось. Но ведь я и раньше скучала без Вас, например в деревне, когда я так долго ждала ответа на свое письмо, а гордость не позволяла написать снова. Но тогда я просто скучала, а теперь еще и сержусь на себя, ругаю себя, даже плачу от злости. Конечно, Вам и в голову не придет — почему. Потому что я ничего не успела сказать Вам, а хотелось сказать так много! Мне необходимо было поделиться с Вами своими сомнениями, надеждами и желаниями, а Вам, кажется, только желаниями — или я ошибаюсь? Я знаю, что Вы живете сознательно, не мечетесь (внутренне) из стороны в сторону, как я. В каждом Вашем поступке чувствуется какой-то отсчет — недаром же Вы математик, — и, хотя я сержусь на это «тик-так», мне давно стало ясно, что Вы решились не шутить с жизнью, а победить ее, раз уж судьба Вам ее подарила. А я живу, как большинство, преследуя мелкие цели, изо дня в день, безотчетно. Ведь это, в сущности, нечестно — если не перед другими, так перед собой. «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», — говорит Бальмонт. Но красота жизни — в ее осмысленности, и не солнце у меня перед глазами, а мрак и горе.
Я не умею логично выражать свои мысли, и это письмо может показаться Вам наивным. Но ведь ближе Вас у меня теперь нет человека.
Ну, полно! Всего не выскажешь, да, может быть, и не надо.
Посылаю Вам свою физиономию. Должно быть, на ней отразились мои роковые вопросы, иначе почему бы у меня был такой страдающий вид? Пишите мне, дорогой. Скорее и больше, больше.
Шура торопилась, ехала курьерским и все-таки не застала Вас — очень обижена, находит Вас неделикатным, но по доброте сердца все-таки шлет привет.
Как-то случилось, что я еще ничего Вам о ней не рассказала. Она — крепенькая, хорошенькая и отнюдь не забывающая об этом, особенно в обществе мужчин. В ее внешности есть что-то наивно-ангельское и совершенно не соответствующее действительности, потому что она — барышня вполне земная, деятельная и, в противоположность некой Лизе Тураевой, менее всего склонна к рефлексии (в смысле самонаблюдения). Я ее люблю, во-первых, за то, что она меня любит. А во-вторых, за то, что могу, не опасаясь сплетен, рассказать ей о Вас.
21.I.14. С.-Петербург.
Милый Костя, два дня я лежала в постели, простудилась на дежурстве за билетами в Народный дом — я снова была там на «Ромео и Джульетте». Боюсь, что мне придется уехать из Петербурга. Папа вышел в отставку по болезни, домашние дела — плохи. Я должна помогать, значит — служить. Будьте добры справиться в земской управе, не найдется ли свободного места для учительницы? Нет ли у Вас на примете какого-нибудь урока? Пусть это будет между нами, так как я надеюсь, что все еще устроится.
Костик, пишите мне чаще, я так жду Ваших писем. О себе, о Ваших делах, о новом кружке. Мне интересно все, что касается Вас.
Произведения
Критика