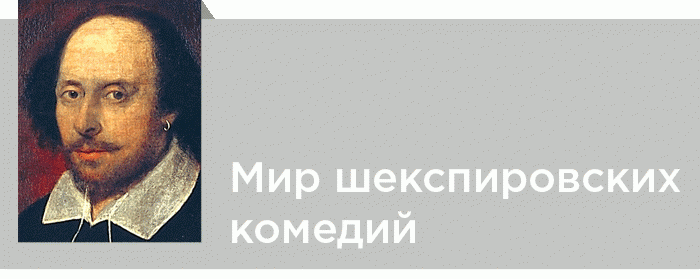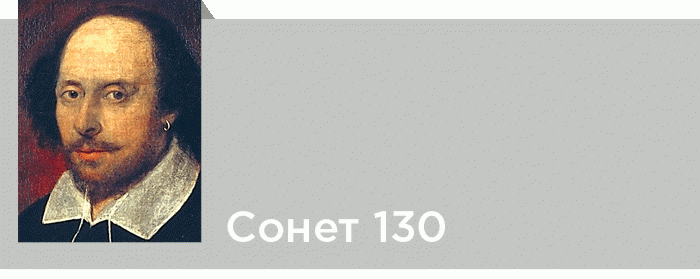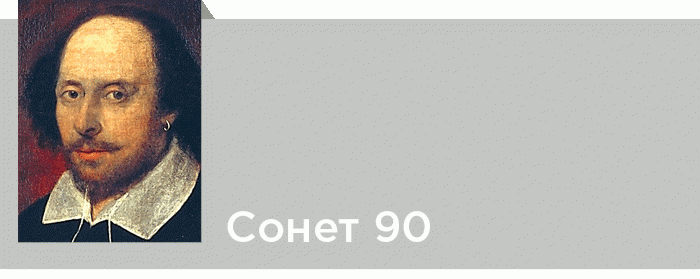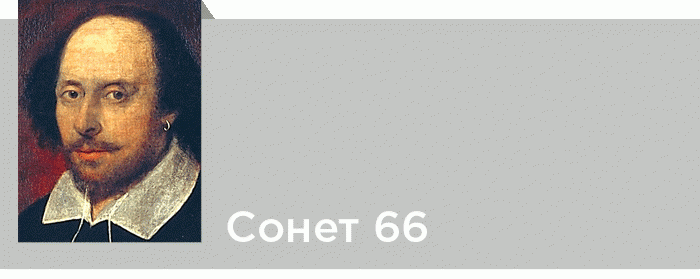«Сон в летнюю ночь» и проблема прекрасного человеческого образа в ранних комедиях Шекспира

Л.В. Каган
«Что за искусное создание человек! Как благороден разумом! Как бесконечен способностью! В обличии и в движении — как выразителен и чудесен! В действии — как сходен с ангелом! В постижении — как сходен с божеством! Краса вселенной! Венец всего живущего!» — и за этим проникновенным гимном, вложенным в уста Гамлета, следует уничтожающее заключение. Монолог кончается словами: «Из людей меня не радует ни один...»
Во всей мировой литературе трудно найти отрывок, в котором так четко обозначалась бы грань, разделяющая два разных представления о жизни человека, обо всех его возможностях и судьбах. Она разделяет тем самым и два разных периода в развитии искусства. Ирония Гамлета, завершающая хвалу человеку, не просто уничтожает значение предыдущих слов. Она выражает горечь разочарования в идеале, еще недавно не подлежавшем сомнению. Этим идеалом всесторонне прекрасного, гармоничного человека, завоевывающего свое счастье и в то же время благородного, личные интересы которого никогда не противоречат нормам человечности, вдохновлялось искусство высокого Возрождения, идеал этот служил знаменем в борьбе против феодального гнета. Но в условиях классового общества мечта о таком человеке оставалась утопией. Столкновение гуманизма эпохи Возрождения с законами развивавшегося буржуазного мира и одновременно с контрнаступлением феодальной реакции вызвало кризис оптимистического ренессансного мировоззрения. Конфликт этот в разных странах принял различные формы и оттенки, но повсеместно совершался один и тот же процесс. Художники позднего Ренессанса утратили радость оптимистической веры в доброту человеческой природы, зато перед ними раскрылись новые противоречия социальной жизни, и они запечатлели их в образах мирового значения. Граница, отделяющая высокое Возрождение от позднего, расцвет Возрождения от его кризиса, проходит через творческий путь Шекспира.
То, что Гамлет говорит во славу человека, до конца остается для Шекспира исходной мерой и критерием при характеристике персонажей. Тот же Гамлет находит для себя, если не в настоящем, то в прошлом, конкретный образец всестороннего совершенства. Таким представляется ему умерший отец. В словах, которые он произносит, глядя на его портрет, сформулирована ренессансная норма, очерчен эталон человека, незыблемый для художников Возрождения.
Свои оценки он выражает с помощью недвусмысленных и многократно им применяемых, хотя и не всегда одинаковых, художественных средств. Как же изображает Шекспир на разных этапах своего творчества героев, воплощающих светлое и темное начала? Каковы характеры, судьбы тех и других, соотношение сил между ними, методы их обрисовки? Это — важные проблемы шекспировского творчества, их решение связано с раскрытием больших закономерностей художественного развития в разные периоды Возрождения.
Под углом зрения этих проблем рассматривается в предлагаемой статье одно из произведений Шекспира, характерных для первого этапа его творческого пути.
* * *
«Сон в летнюю ночь» — очень яркий образец ранней ренессансной комедии Шекспира. Проблематика этого произведения не перерастает рамок праздничного жанра, порожденного гуманизмом в период расцвета. Жизнерадостное восприятие мира здесь еще позволяет Шекспиру с легкостью подчиняться комедийным нормам — он не ввел в эту пьесу тех коллизий, которые уже к тому времени увидал и контуры которых четко вырисовывались в его хрониках. В этой комедии речь идет о человеческом счастье, о счастье, на которое человек имеет право и которого достигает, а специфическое комедийное содержание составляют те причудливые узоры, которые сплетает жизнь на пути человека к счастью в процессе борьбы за него. Такова схема почти всех ранних шекспировских комедий, хотя в некоторых других случаях она оказывается сильно осложненной. Неповторимая особенность данной пьесы — ее сказочная фантастика, веселые духи — персонажи из фольклорного, а отчасти и книжного мира, которым Шекспир придал новую жизнь и характер: их силами и творятся здесь все счастливые повороты и все хитросплетения человеческой судьбы. И именно из этого не совсем обычного замысла родилась своеобразная, ярко выразительная форма для воплощения ренессансной комедийной концепции Шекспира. Поэтому очень интересно рассмотреть образы этого произведения и конфликты, из которых складывается ее сюжет.
Все герои комедии — участники феерии-маски, пьесы, сугубо праздничной по заданию; своим сочетанием они создают ее колорит, как увидим, отнюдь не однотонный. Общеизвестно, что драматические произведения Шекспира отличаются многоплановостью сюжетов и соответственно неоднородным составом персонажей. Действие и действующие лица «Сна в летнюю ночь» образуют по меньшей мере четыре «этажа»: над всеми возвышается «герцог» Тезей со своей возлюбленной Ипполитой. К его свадебному торжеству приурочен весь счастливый финал, его решающее слово окончательно дарует счастье остальным героям. По имени и замыслу — это античный мифологический герой, по характеристике и роли он очень похож на добрых и справедливых герцогов в других комедиях Шекспира. Его любовь и брачное торжество образуют нечто вроде рамки для центральных линий сюжета. Это — особенность данной комедии. Предполагают, что «Сон в летнюю ночь» был написан для постановки на придворном свадебном празднестве.
Основная любовная тема — неизбежный стержень комедийного сюжета — связана с другой группой действующих лиц — четверкой влюбленных, чьи чувства и интересы конфликтно скрещиваются, а к концу, как в большинстве ранних комедий Шекспира, приходят в полную гармонию. Двое юношей и две девушки сочетаются в счастливые пары, и тройная свадьба составляет очень характерную для шекспировских комедий развязку.
Третий — необычайный план этой пьесы — духи и эльфы; их проделки запутывают, а потом распутывают нити человеческих взаимоотношений. Делом их рук оказываются перипетии и развязка любовного сюжета, а также подлинно комедийное, бесконечно смешное действие, разворачивающееся по ходу этих перипетий.
Наконец, четвертым планом в пьесу вошли ремесленники, комические герои — клоуны, с их пародийно-нелепым спектаклем в качестве дивертисмента герцогской свадьбы. Сцена, когда силой колдовства их «протагонист». Основа оказывается превращенным в осла и в этом виде влюбляет в себя царицу эльфов, образует высшую точку той «комедии в комедии», которая разыгрывается благодаря затеям духов. Это, пожалуй, самое яркое место во всем произведении, самый неповторимый его эффект.
Примечательно, что во всем этом пестром кругу персонажей нет настоящего отрицательного героя. Один Эгей, отец героини, пользуясь своей патриархальной властью, стоит на пути дочери и даже угрожает ей смертью в случае неповиновения его выбору; и хотя любовь должна восторжествовать над его предрассудками, образ Эгея обрисован отнюдь не в тонах резкого осуждения. На злодеев шекспировских трагедий и даже некоторых позднейших комедий он похож немногим более, чем старик Капулетти. Корыстолюбие и коварство — лейтмотивы шекспировских злодеев — в этой пьесе не нашли воплощения. И коллизии, составляющие ее сюжет, не носят характера борьбы между силами добра и зла. Всего ярче свидетельствует об этом фантастика пьесы. Ее волшебный мир населен доброжелательными, веселыми, остроумными и изящными духами. В противоположность фантастическим образам трагедии «Макбет» ни один из волшебных персонажей «Сна в летнюю ночь» не олицетворяет злых сил социального мира, то есть сил, враждебных жизни и человеческой радости.
По самому заданию все персонажи этой комедии должны радовать, развлекать, смешить зрителя.
Гуманистическая проблематика борьбы за любовь и счастье сосредоточена в образах и судьбе влюбленной четверки, поэтому характеристика этих героев представляет особый интерес. Как главных героев зритель сразу воспринимает Гермию и Лизандра, которым приходится отстаивать свою любовь от родительского произвола; при этом патриархальную традицию поддерживает суровый закон, и преступить его не вправе сам герцог. Есть героика в поведении Гермии, готовой предпочесть смерть или затворничество монахини «постылому ярму» замужества по воле отца. Лаконично обрисовывая многосторонне прекрасный образ в соответствии с нормами ренессансной эстетики, Шекспир подчеркнул также девичью скромность Гермии, ее целомудрие при всей силе и нежности ее любви, например, в той сцене, когда она защищает свой выбор перед герцогом. Бегство Гермии с Лизандром и замысел тайного брака, стойкость ее сопротивления отцовской воле, наконец, высота и поэтичность чувства как бы повторяют в сокращенном и более бледном варианте основные мотивы «Ромео и Джульетты». У всех четверых влюбленных, и в особенности у отвергнутой Елены, чувство достигает наивысшей силы и выражается в предельно приподнятых тонах:
Пока я здесь жила, любви не зная,
Афины мне казались лучше рая...
И вот любовь! Чем хороша она,
Когда из рая сделать ад вольна!
Елена заверяет свою невольную соперницу:
Будь мой весь мир, Деметрия скорей Взяла б себе я — всем другим владей!
Это — обычный для Шекспира масштаб и тональность в изображении любви, которую ждет счастье. Чувства шекспировских персонажей отвечают традиционным масштабам героических образов.
В то же время четыре героя, на которых в комедии сосредоточен интерес, ясно индивидуализированы, и в поведении их раскрываются разнообразные психологические детали. Неудачница Елена, назойливо преследующая Деметрия, бессмысленно предающая подругу, жалкая в своей женской слабости, вызывает сострадание и вместе с тем ощущение комизма. Нежная Гермия оказывается способной на безудержную ярость, когда подозревает Деметрия в убийстве любимого и когда в результате путаницы, произведенной Пэком, внезапно отвергнута и оскорблена ее любовь. Великолепна по своей живости и психологической правде сцена бурной стычки между обеими девушками, где каждая подозревает другую в издевательстве, и Гермия свирепеет, когда в словах Елены ей чудится намек на ее маленький рост.
Деметрий явно менее благороден, чем Лизандр, так как готов жениться на Гермии против ее воли, воспользовавшись властной поддержкой отца.
Так, заставляя зрителя праздновать победу индивидуальной любви над гнетом старых традиций, драматург, как и всегда, облек гуманистическую идею в плоть конкретных образов и расцветил эти образы живыми красками.
И однако же в этой пьесе мы не найдем ни большой глубины характеров, ни особой остроты их разграничения. В этом смысле комедия-маска не идет в сравнение с трагедиями Шекспира и даже с некоторыми его комедиями того же периода. Характерно, например, что рыцарство джентльмена, отличающее Лизандра от Деметрия, сразу исчезает под действием колдовских чар: когда сок волшебного цветка заставляет Лизандра изменить своей любви, он обращается с Гермией так же грубо, как прежде Деметрий с Еленой. О достоинствах Деметрия и Лизандра говорится бегло, как будто Шекспиру нужно только указать на всестороннюю полноценность этих людей, на их соответствие высшим гуманистическим нормам. Этого достаточно, чтобы подтвердить право каждого из них, при равных достоинствах, на любовь по личному выбору, и приковать интерес зрителя к перипетиям борьбы за эту любовь. Не особенно сложны и богаты в этой комедии и художественные средства, с помощью которых выражена сила самого чувства. Стоит только сравнить «Сон в летнюю ночь» с «Ромео и Джульеттой» — трагедией на ту же гуманистическую тему, чтобы увидеть, насколько меньше внимания уделено в феерической комедии изображению характеров и лирике.
Нет в комедии и четкой конкретизации социального облика героев. В качестве поэтического фона Шекспир выбрал здесь античную древность, но, как и всегда, не внес в пьесу ни грана археологической точности. «Античный» колорит не идет дальше нескольких мифологических реминисценций, преимущественно связанных с образами герцогской четы. Так, в очень поэтической первой сцене IV акта Ипполита в ожидании предстоящей охоты вспоминает, как она охотилась с Геркулесом и Кадмом. Монашество, которое угрожает Гермии, для проформы обозначено как служение девственной богине луны. Четверо влюбленных и Эгей оказываются афинянами уже только по названию. Вскользь упоминается принадлежность их к высшим слоям общества. Лизандр заявляет о том, что он равен Деметрию «рожденьем и богатством»; герцог, убеждая Гермию не противиться воле отца, говорит о Деметрии как о достойном джентльмене (дворянине?). Из этого явствует, с одной стороны, что социальные черты здесь только мельком дополняют представление о полноценности героев. С другой стороны, они слегка приоткрывают реальный общественный фон, который автор явно мыслит себе по образу своей страны и эпохи. И тогда из-под пестрого покрова античных аксессуаров и фантастики вырисовывается та же картина, что и в других произведениях Шекспира: «Мир идей и чувств Ренессанса выступает... представленный ограниченным кругом усвоивших концепцию гуманизма культурных аристократов». Но социальные мотивы занимают ничтожное место в содержании этой комедии. Судьба героев, превратности, в лабиринте которых они кружатся и из которых в конце концов выбираются на дорогу счастья, составляют один важнейший аспект этого содержания; и такого рода гуманистическая тематика в ту эпоху актуальна отнюдь не только для людей данного круга.
Вторая, может быть, даже главная, сторона связана с другой группой действующих лиц. Речь идет о волшебном мире эльфов и о той подлинной комедии, которая разыгрывается их силами.
Известно, что фантастика «Сна в летнюю ночь» неоднородна по своему происхождению. «Поверья о шаловливом духе Робине-Пэке Шекспир нашел в английском фольклоре, — пишет А.А. Смирнов. — С образом Пэка он связал образ царя духов Оберона, взятого из средневекового романа». Разумеется, в куртуазный реквизит Оберон также попал из отдаленных (кельтских) фольклорных источников, но для английского читателя это был уже чисто книжный мир. Соответственно источникам пестра и окраска шекспировской феерии. Нарядные образы фей и эльфов с их изящными играми олицетворяют природу, обращенную к зрителю сугубо праздничной стороной — они принадлежат маске как декоративно развлекательному жанру. Бок о бок с ними подвизаются герои английского фольклора, окрашенные густым колоритом народного юмора и быта. Фея из свиты Титании — подлинный персонаж маски — хлопотливо спешит собирать росинки, чтобы каждой буковице «вдеть в ушки серьги из жемчужин». Шут Оберона Пэк, Робин Добрый Малый, лесной озорник, самое имя которого вызывает ассоциации с Робином Гудом, оказывается в то же время домовым и славится именно своими проделками в народном быту.
Эти разнообразные оттенки фантастики сливаются в единую гамму, неповторимую по своей живости, изобретательности вымысла и остроумию. И через нее красной нитью проходят некоторые общие черты. Таков, прежде всего, беззлобный характер всех колдовских проделок. Соком чудесного цветка духи пользуются для того, чтобы устранить коллизии в любовных отношениях людей, убрать преграды к их счастью. Увидав оплошность Пэка, Оберон упрекает его:
Что сделал ты? Кого в беду вовлек?
Ты не тому впустил волшебный сок.
И верность чьей-нибудь любви сердечной
Нарушил ты небрежностью беспечной.
И даже шутка Оберона и Пэка над Титанией — самая злая из всех — являет достаточно невинную проделку, вызванную супружеской ссорой царя и царицы эльфов. Она нужна Оберону для того, чтобы выманить у Титании ее любимца — индийского мальчика, а комический эффект, к которому она приводит, затмевает даже и эту цель.
Конечно, добрые духи, благословляющие свадьбу герцога, — ярко выраженный аксессуар дворцовой маски. Но этим никак не исчерпывается их значение в шекспировской комедии. Веселая шутливая выдумка, чуждая корыстолюбивых целей, повторяется как яркий и важный мотив в комедийной тематике раннего Шекспира. Из колдовства эльфов, к которому примешивается мотив недоразумения, вырастает великолепная игра-спектакль внутри комедии. Уморительная путаница во взаимоотношениях влюбленной четверки, блуждающей в волшебном лесу, царица эльфов в любовном экстазе перед ослом — все это сцены неотразимого, как бы нарочно сплетенного случаем комического действия. Сами герои-духи забавляются им, как зрелищем. Объясняя Оберону свою ошибку — колдовство «не по адресу», — Пэк признается: «и отчасти я доволен, что так вышло, потому что в этой их перепалке я вижу забаву».
Любопытно, что у изобретательного Пэка, когда он говорит о своих проделках, мелькает театральная терминология (в переводах она обычно пропадает). Например, о Елене и Лизандре, внезапно в нее влюбившемся - буквально: посмотрим мы спектакль их любви? В восхищенном рассказе о превращении Основы. Правильнее всего будет передать эту фразу словами: «но дальше идет мое представление». Она особенно колоритна, потому что слово, обозначающее здесь «игру», «представление», восходит к очень старому корню, по смыслу крепко связанному с понятиями художественного перевоплощения, и главным образом театрального. Пэк чувствует себя чем-то вроде режиссера, под руководством которого сыграна эффектная комедия. Это сближает его с определенной группой героев-людей из других шекспировских комедий раннего периода. Как правило, каждая из них содержит некое забавное действие, составляющее одну из сюжетных линий и собственно комедийный ее план. Это — изобретательные, но беззлобные затеи тех или иных остроумных героев, которые нередко содействуют счастливой развязке и всегда придают пьесе специфически шекспировский тон ренессансного веселья. Они носят характер некой комедийной режиссуры. Шутники, обычно наделенные зоркой наблюдательностью, подстраивают такую ситуацию, при которой выступают во всей красе комические стороны каких-либо других героев, чаще всего претенциозного дурака, лгуна или труса. Здесь можно вспомнить маскарад в комедии «Бесплодные усилия любви», где принцессе и ее спутницам удается посрамить короля Наваррского, Бирона и других, давших нелепый обет три года не общаться с женщинами. Или шутливые проделки веселых виндзорских кумушек, пожелавших разыграть Фальстафа и выставить на позор его блудливость и трусость. Или высший образец этого жанра — проделки веселых домочадцев Оливии в «Двенадцатой ночи» над ханжой Мальволио: в его мечтах о женитьбе на графине, вспыхнувших под влиянием подметного письма, во всем блеске выступают наружу его тупость и спесь. Впрочем, для этих остряков Мальволио служит не единственным комическим объектом; они с таким же наслаждением устраивают себе зрелище, провоцируя слабосильного дурака сэра Эндрью на издевательскую «дуэль» с переодетой Виолой. Как спектакль, предвкушают они «редкостную» тупость письма с вызовом, которое он ей напишет. Это комическое действие иной раз появляется у Шекспира не только в комедиях, но и в хрониках, прежде всего в фальстафовском «секторе» «Генриха IV». Здесь тонкий умница принц Гарри и его приятель Пойнс с особым вкусом обыгрывают комизм Фальстафа: подстраивают налет в Гэдсхиле, чтобы насладиться зрелищем его испуга и бегства при первом же нападении, а назавтра услышать, как он будет врать и хвастать, рассказывая об этом приключении.
Подобные лукавые затеи у Шекспира всегда лишены корыстной цели и представляют интеллектуальную игру в чисто ренессансном вкусе.
Этот дух игры и определяет коренное отличие комического действия Шекспира от плутовских интриг в испанской комедии, во всей многовековой комедийной традиции, основанной на теме веселого плутовства, и в определенных жанрах повествовательной литературы, которые также захватила эта стихия.
Различие это раскрыл в свое время Гегель. Комизм, основанный на хитрости, он определил как «прозаически смешное» и противопоставлял ему комизм Аристофана и Шекспира. «Уже в новой греческой комедии, — писал Гегель, — а затем у Плавта и Теренция вырабатывается новое направление, которое затем в комедии нового времени достигает такого исключительного господства, что масса комедийных произведений вследствие этого более или менее поворачивает в сторону чисто прозаически смешного и даже в сторону грубого и противного».
Интересно, что к прозаическому направлению Гегель относит и Мольера, в особенности серьезные сатирические его произведения, утверждая, что, например, в Тартюфе «срывание маски с действительного негодяя не представляет собой ничего забавного, а есть нечто серьезное...». Гегель считал, что в комедиях подобного типа «интрига большею частью получается благодаря тому, что один индивидуум старается достигнуть своих целей путем обманывания других... Те, против которых направлена эта хитрость, употребляют затем обычное противоядие — они, со своей стороны, также прибегают к притворству — меры и контрмеры, которые можно в получающихся бесконечно многих ситуациях остроумнейшим образом как угодно поворачивать и комбинировать...». В результате такого комедийного действия герои «представляют собой обманутых, служащих предметом чужого, часто смешанного с злорадством смеха».
Как обратное явление Гегель характеризует Аристофана и с ним сближает определенное направление в литературе нового времени. Здесь он видит «такой подход к комедии, который является подлинно комическим и поэтическим. Здесь основным тоном снова оказывается благодушие, беспечная, уверенная в себе шаловливость, несмотря на все неудачи и ошибки, задор и резвость...».
Как пример такого поэтического комизма Гегель выдвигает Шекспира. Он не вдается при этом в конкретный анализ, но с первого взгляда очевидно, что под его определение в первую очередь подходит творческая игра шекспировских остроумцев, в том числе, конечно, проделки духов в комедии «Сон в летнюю ночь». Именно к этой группе действующих лиц должна быть отнесена в данной пьесе и гегелевская характеристика образов Шекспира — слова о том, что «...Шекспир наделяет их (своих героев — Л.К.) умом и фантазией, превращает их в творящих самих себя свободных художников», которые «рассматривают себя объективно как художественное произведение».
Надо только прибавить, что в данном случае, как и в большинстве других подобных, «художественным произведением» для весельчаков Шекспира оказываются не столько сами они, сколько другие, чисто комические персонажи, объекты их режиссерского остроумия. Вообще критерий Гегеля, согласно которому решающим признаком комизма служит смех героя над самим собой, следует толковать достаточно широко. Сюда должны быть отнесены все те формы творимой героями комедийной интриги, за которыми нет поставленной всерьез корыстной, практической цели. Насмешка над собою в прямом и более узком смысле характерна главным образом для Фальстафа. В широком смысле смех над собой (Гегель применяет к нему и термин «юмор») означает также то шутливое отношение к собственным делам и затеям, которое превращает их в игру, свободную от прозаического эгоистичного интереса.
И, наконец, важнейшая оговорка: весь этот гегелевский анализ приобретает положительную значимость, разумеется, лишь при критическом истолковании, при снятии того принципа примирения, которым у Гегеля увенчивается теория как комического, так и трагического.
Итак, в образе Пэка-шутника выразилась существенная специфика шекспировского комедийного стиля. При первом появлении на сцене этот герой в ответ на приветствие феи сам рассказывает о себе, как мастере «разыгрывания», а также всяческого подражания, перевоплощения.
Но в смешном действии у Шекспира всегда участвует двоякий типаж: остроумцы и комические герои. «Боже, что за шуты эти смертные!» — так Пэк, восхищаясь спектаклем, определяет амплуа его участников — объектов своей комедийной игры. Этими объектами для духов «Сна в летнюю ночь» служат, с одной стороны, герои любовного «сектора», с другой — незадачливые актеры-ремесленники, исполнители «прежалостной комедии» о Пираме и Тисбе. Естественно возникает вопрос, с какой стороны те и другие выставляются на смех. Если присмотреться к тому, что составляет комический лейтмотив в образах заколдованных любовников, то его скорее всего можно определить как ослепление влюбленных. Восторженные любовные хвалы, которые, проснувшись, расточает Деметрий Елене, особенно смешны в силу контраста с прежними чувствами героя, так как колдовство совершилось на глазах у зрителей. Из уст Деметрия льются высокопарные сравнения, подобные тем, которые Шекспир осмеял в своем 130-м сонете. Здесь мы встречаемся с редким мотивом комической иронии — любопытная трансформация иронии трагической, — например, когда Лизандр засыпает с торжественной клятвой верности Гермии, чтобы под чарами цветка проснуться влюбленным в Елену. И приподнятое звучание всей любовной лирики в первых картинах оборачивается иронией в сценах ночной путаницы.
Кульминация этого комического мотива — восторженная нежность Титании к ослу, когда она гладит его по «милым щекам», украшает розами его «мягкую гладкую голову». И, заключая в объятия сонного Основу, она завершает сцену поэтическими сравнениями, доводящими комический контраст до высшего предела:
Так жимолость цветущая ствол дуба
Любовно обнимает...
Гораздо сложнее вопрос о смысле шекспировской насмешки над спектаклем ремесленников. Комизм этих последних в гораздо меньшей степени создается колдовством Пэка, чем комедийными акцентами самого автора. Присматриваясь к тем чертам, которые Шекспир в этих сценах довольно резко шаржирует, нельзя не увидеть здесь насмешки над примитивом площадного театра. Великий драматург впитал его лучшие традиции, но художественно его перерос: в его время жанр этот уже вымирал. Пережитки его слабых сторон, вроде бедной сценической техники и некоторых связанных с ней особенностей драматургии, наследовал театр эпохи Шекспира. Основной мотив шекспировской карикатуры при изображении спектакля ремесленников — беспомощность художественных средств, и в частности — сценических. Горе-актеры пытаются возместить художественную неубедительность декларацией и декларативно возвещенной условностью, а тем самым окончательно разбивают иллюзию. В этом смысле высший перл — это актер-стена с растопыренными пальцами, намазанными известкой, и его выходной монолог, тонкие оттенки которого теряются в переводах:
Дословно: «В этой интерлюдии получается так, что я, некто по имени Рыло, представляю стену. И такую стену, как я желал бы, чтобы Вы думали, в которой имелась дыра — трещина или щель. Эта глина, эта известка и камень показывают, что я и есть та самая стена; это воистину так...»
Иными словами, недоверие к аксессуарам и методам воплощения доведено до крайности; остается единственное средство — продиктовать зрителям то, что надлежит за всем этим увидеть.
Но предельная острота шаржа далеко не всегда облегчает однозначное раскрытие его смысла. Требует ли здесь Шекспир для театра более совершенных постановочных средств или отказа от них на данном техническом уровне? А.А. Аникст выбирает последнее предположение: «Естественно, — пишет он по поводу «Стены» и ее пояснений, — что Шекспир отвергал такую грубую и наивную предметность, разрушавшую поэтическую атмосферу спектакля, предпочитая апеллировать к воображению зрителя».
Широкий расчет Шекспира на силу фантазии и связанное с этим пренебрежение к точности деталей, характерное для стиля его драматургии, — бесспорные факты. Тем не менее приведенная точка зрения представляется спорной. И потому, что Шекспир вряд ли мог призывать к полному отказу от той скромной техники, которой сам пользовался, и потому, что в своем спектакле на сцене он осмеивает отнюдь не только то, что связано с материальными аксессуарами: гротескный характер носит и самый текст «интерлюдии», и искаженное его чтение — без знаков препинания — актером пролога; наконец, как особый остро пародийный мотив выступает боязнь сценической иллюзии, стремление застраховать от нее зрителей. Это бесподобно выражает лев, предупреждающий дам, чтобы они не вздумали испугаться, потому что он на самом деле совсем не лев.
В статье, написанной в начале 30-х годов, А.Ф. Иващенко предложил своеобразное толкование этого мотива: он усматривал здесь сатиру на пуританизм с его осуждением лицедейства, как обмана. Но и с этим взглядом трудно согласиться. По социальному колориту шекспировские ремесленники совершенно не похожи на пуритан. В рассматриваемой детали скорее всего можно видеть острейшее выражение все той же неуклюжей декларативности.
Комизм всех сцен, образующих данную сюжетную линию, то есть сцены спектакля ремесленников и его репетиций, выдержан в стиле характерной шекспировской клоунады. Она неизменно строится на мотивах неуклюжей глупости, а последняя предстает в данном случае как беспредельная наивность устарелого примитивного жанра.
Героям этого плана дана четкая социальная характеристика. «Кучка простолюдинов, грубых ремесленников», — рассказывает о них Пэк Оберону. И трактует Шекспир эти образы простых людей в характерном добродушно-патриархальном тоне: герцог заявляет о «благородном уважении» к «скромному усердию». Клоунада как бы вставлена в рамку, которой придан мягкий оттенок.
Но для проблемы, здесь поставленной, чисто комические персонажи, бессознательно играющие комедийную роль, имеют второстепенное значение. Каковы бы ни были объекты их остроумия, образы духов как веселых шутников составляют в этой пьесе существенное реалистическое зерно фантастики. И еще один реальный смысл таится под ее сказочным и в то же время гротескным покровом: поэтическое преломление беспокойной, богатой приключениями эпохи, когда человек в любую минуту мог почувствовать себя игрушкой неожиданных, непонятных случайностей и склонен был верить, что они принесут ему счастье.
Сказанное позволяет подвести некоторые итоги. Комедия пронизана радостью за человека, и этим определяются светлые краски ее образов. Но образы комедии выражают эту радость по-разному. Главные герои — те, что борются за счастье и завоевывают его; при этом скупыми штрихами намечены их индивидуальные характеры и бегло обозначены те всесторонние человеческие достоинства, та высшая сила чувств, которые позволяют воспринимать их счастье как большую гуманистическую ценность. В других персонажах — остроумцах фантастического мира, полностью очеловеченных, — воплощена иная сторона положительного образа: радостная творческая игра, остроумная изобретательность, чуждая своекорыстных целей, заразительное и творческое веселье. Все это было выражением жизненной полноценности, духовного богатства такого человека, каким представлял его ренессансный гуманизм на высшей точке своего подъема.
Как ни показательна комедия «Сон в летнюю ночь» для раннего Шекспира, выводы относительно ее образов нельзя механически распространить не только на весь данный период его творчества, но даже в пределах раннего этапа — на весь жанр, к которому она относится. У Шекспира в те же 90-е годы есть комедии, в которых гораздо ярче очерчены и выдвинуты на передний план характеры. Достаточно назвать «Укрощение, строптивой», «Два веронца», не говоря уже о более поздней «Двенадцатой ночи». Одновременно и даже раньше создает он также пьесы (преимущественно хроники), где благородным героям противопоставлены образы враждебных, антигуманистических сил. Есть у него, наконец, в ранний период и комедии, где намечаются подобные контрасты и конфликты морального плана. Можно снова вспомнить «Два веронца», а также «Много шума из ничего» и «Как вам это понравится». Особый случай представляет «Венецианский купец», потому что здесь коллизия, как и образы, достигают такой глубины, когда уже нельзя говорить о собственно комедийном жанре в нашем смысле слова.
Однако различие всех этих вариантов не снимает некоторых существенных обобщений. Картина соотношения между силами добра и зла, между гуманизмом и враждебной ему стихией у Шекспира на первом этапе неизменно оптимистична. И этого нельзя не поставить в связь с тем фактом, что в ранних его пьесах как главное препятствие человеческому счастью обычно изображаются феодальные устои. Единственная его трагедия 90-х годов «Ромео и Джульетта» — недвусмысленна по своей антифеодальной заостренности. Борьба с таким уже обреченным врагом, как феодальный мир, при самых бурных эксцессах не могла привести к кризису гуманистического идеала. Правда, в облике шекспировских злодеев уже с первого их появления проступают черты, отражающие закономерности буржуазного общества; но конфликты, в которых действуют эти силы, то есть противоречия буржуазной эпохи, еще не встали во весь рост.
С этим связана и та особенность ранних шекспировских комедий, что в характеристиках их главных героев сравнительно не сильны этические акценты. Здесь еще на первом плане борьба за права свободной личности. Правда, личность эта с самого начала мыслится Шекспиром как всесторонне гармоническая — не только по красоте и способностям, но и по человечности своих отношений к окружающим. В облике персонажей, отмеченных положительной авторской оценкой, Шекспир не допускает того аморализма, до которого доходят герои Марло в своих титанических дерзаниях. Атмосфера комедии «Сон в летнюю ночь» в этом смысле вполне закономерна. Но развернутое, конкретное, красочное изображение человеческого благородства появляется у драматурга вместе с обличением аморальной стихни, причем благородные герои выступают в конфликте с ее носителями. Это особенно ярко выражено в хрониках и в тех немногих комедиях, где такие конфликты возникают, но еще раз решаются с совершенной легкостью.
И все же предпосылки будущих драматических и трагических конфликтов, шекспировских картин борьбы добра со злом заключены уже в самой «безмятежной» ранней комедии драматурга, как некий «скрытый потенциал» непримиримой борьбы. Он проявился в факте выпадения традиционной комедийной темы (впрочем, Гегель, как мы видели, не считает ее подлинно комической) — темы плутовства и обмана как средства борьбы героя за свои интересы. Комедийному веселью по поводу удачливой своекорыстной лжи нет места в эстетике Шекспира, и это определяло трагическую трактовку темы коварства с первых шагов его творчества, и в особенности во второй его период.
Когда в трагедиях второго периода Шекспир стал изображать перевес коварного человека в жизненной борьбе, характеры его благородных героев утратили свое всестороннее совершенство и гармонию. Это было гениальным постижением законов развития человеческой личности в мире.
Л-ра: Филологические науки. – 1964. – № 1. – С. 83-94.
Произведения
Критика