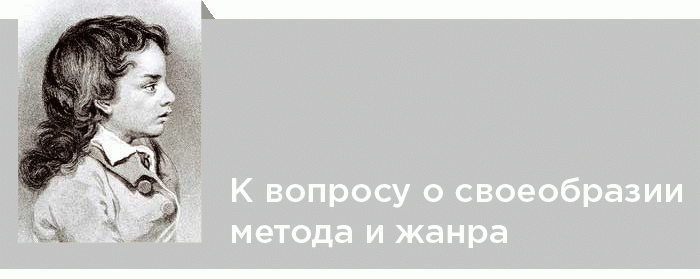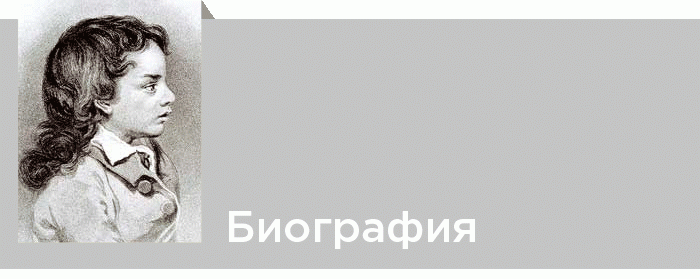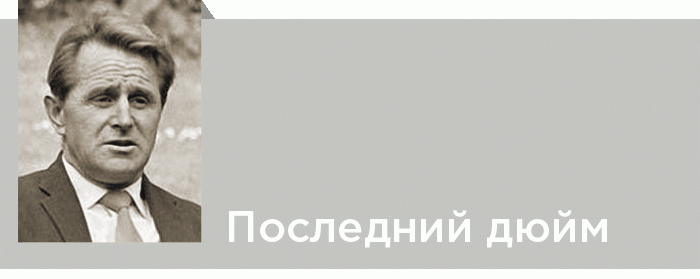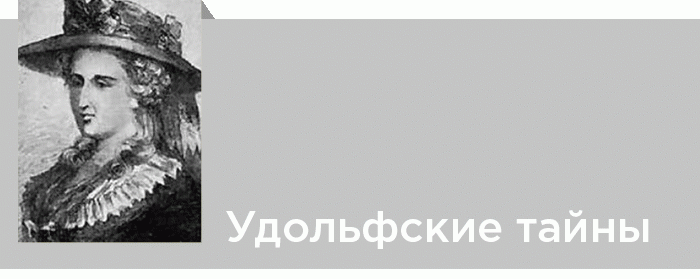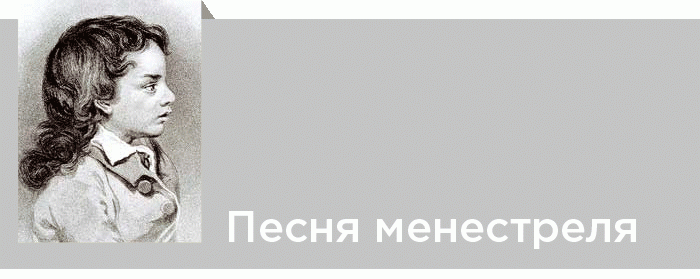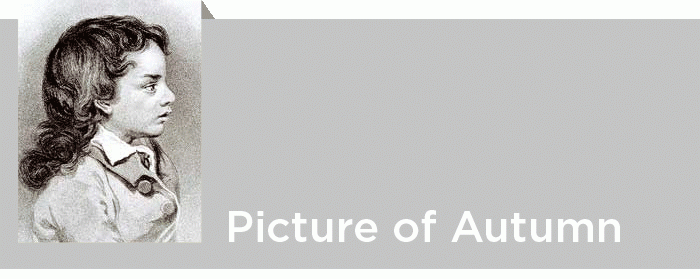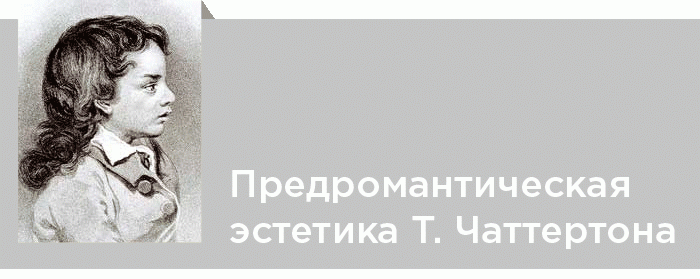К вопросу о жанровом своеобразии «Бристольской трагедии» Томаса Чаттертона
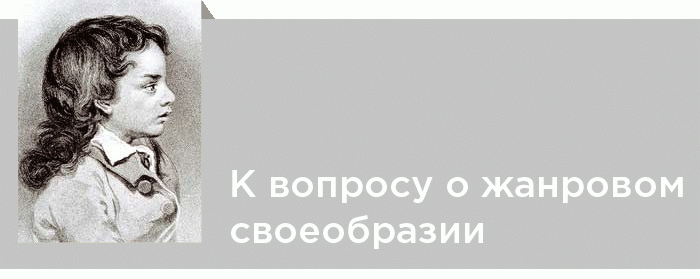
И.В. Вершинин
Творческое наследие крупнейшего поэта английского предромантизма Томаса Чаттертона сравнительно невелико и вместе с тем оно огромно, если помнить, что автор умер, не достигнув и восемнадцати лет. Но более всего поражает жанровое многообразие его произведений как прозаических, так и поэтических.
Основные положения эстетики предромантизма были сформулированы к шестидесятым годам XVIII столетия в работах братьев Уортонов, Ричарда Хёрда, Хорейса Уолпола. Их теории направлены прежде всего против универсальности просветительского «разума» и незыблемости норм классицизма. Литература предромантизма «выдвигает новые эстетические понятия: вместо идеала «прекрасного» — «живописное» или «оригинальное», «характерное», вместо античного как универсальной нормы искусства — «готическое», «средневековое»; вместо «классического» — «романтическое» в первоначальном значении, близком понятию «романического» (от англ. romance — «средневековый рыцарский роман»): «романтические» приключения, «романтические» чувства, «романтические» картины природы и т. п.». И поскольку новое содержание не может быть уложено в прежние традиционные формы, художники ищут и открывают новые, возрождают забытые, которые более адекватны этой новой эстетике. Так, в прозе появляется новый жанр «готического романа», а в поэзии — целый ряд жанровых вариаций, отталкивающихся от поэтической культуры средневековья.
Анализ отдельных произведений Чаттертона, выявление их жанрового своеобразия, их стилистики и поэтики может помочь исследователю не только определить специфику того или иного произведения, его тематику, проблематику, не только глубже понять творческий метод художника, но и во многом уточнить особенности развития английской поэзии второй половины XVIII века.
«Бристольская трагедия или смерть Сэра Чарльза Бовдина» (1768) входит в цикл сочинений Чаттертона, который традиционно называется историками литературы и издателями «Поэмы Роули». Роули, alter ego английского поэта, — монах ордена кармелитов, человек простого происхождения, но весьма образованный и наделенный от природы большим умом и поэтическим дарованием. Роули, плод богатого воображения Чаттертона, живет в XV веке в Бристоле, и будучи другом и наставником мэра города Кенинджа, сочиняет для него свои произведения на староанглийском языке и делает переводы с саксонского. Чаттертон отводит себе скромную роль переписчика и комментатора этих сочинений. Подобное обращение к средневековью, его истории и культуре вполне соответствует духу предромантизма, его теории и эстетике.
«Сочинения Роули» представляют собой своего рода «историческую хронику» или даже «исторический роман». Отдельные произведения, которые являются своеобразными «главами» этого романа, объединяются не только тем, что у них один автор — Роули, а, в первую очередь, тем, что они связаны как временными, так и географическими (пространственными) отношениями. Действительно, Чаттертон-Роули описывает события, происходящие, как правило, в XV веке в родном городе поэта Бристоле. И вместе с тем каждая из этих «глав» — вполне самостоятельное и законченное произведение, написанное в определенном жанре, в определенной форме, с определенным сюжетом и т. д.
Сюжетным стержнем «Бристольской трагедии» стали подлинные события кровавой феодальной междоусобицы, тридцатилетней войны (1455-1485), вошедшей в историю под названией войны Алой и Белой розы. В своем произведении Чаттертон рассказывает, как пришедший к власти глава Йоркской династии Эдуард IV казнит рыцаря Чарльза Бовдина, сподвижника Генриха VI, предводителя Ланкастеров.
Доподлинно не установлено, где Чаттертон прочел об этом факте, однако вполне правдоподобной представляется точка зрения американского ученого Дональда Тейлора, составителя наиболее полного и научного издания произведений Чаттертона. Таким источником, по мнению Тейлора, скорее всего стали «Бристольские календари XVI-XVIII вв.», которые были очень популярны во времена Чаттертона, и которые в значительном количестве сохранились до более позднего времени. В частности, многие из них использовал вышеупомянутый Сейер для составления «Истории Бристоля». В них же содержатся упоминания о казни Чарльза Бовдина.
В заглавии Чаттертон определяет свое произведение как трагедию, но слово «трагедия» он употребляет не в том значении, каким пользовались его современники для определения особого «высокого жанра», восходящего к традиции античной литературы. Чаттертон имеет в виду прежде всего особую жизненную ситуацию, исполненную глубокого трагизма. Можно сказать, что он употребляет термин «трагедия» в том значении, в каком говорил о ней Чосер устами своего Монаха:
Трагедию бы я определил Как житие людей, кто в славе, в силе Все дни свои счастливо проводили И вдруг, низвергнуты в кромешный мрак Нужды и бедствий, завершили так Свой век бесславною кончиной (Перевод И. Кашкина и О. Румера).
«Бристольская трагедия» скорее драматическая баллада. Это вполне соответствует творческим установкам Чаттертона: с одной стороны, баллада — один из самых популярных поэтических жанров средневековья, а с другой — «трагическое раскрывается наиболее глубоко в балладе».
Чаттертон открывает свое произведение своеобразным «зачином», который укладывается в одну строфу. «Пернатый певец петух протрубил в свой рожок и возвестил поселянам приход утра». Эта строфа обособлена от остальных иной системой рифмовки. Если в целом строфы произведения рифмуются по схеме аbсb, то первая строфа имеет схему аbаb. Подобное «отторжение» строфы очевидно не случайно. По своему смысловому наполнению и поэтической тональности она резко отличается от следующей строфы. Начало дня не предвещает ничего необычного, но уже во втором катрене становится понятно, что мирные жители Бристоля станут свидетелями драматических событий. Король Эдуард смотрит на небо: восход солнца окрашивается багрянцем; он слышит карканье воронов. Во всем этом король видит волю Всевышнего, иными словами оправдание своего кровавого намерения расправится с Чарльзом Бовдином и его двумя товарищами.
Интересно отметить, что если в «зачине» начало нового дня дается объективно (авторское повествование), то уже в последующей строфе оно дано субъективно (чувственное восприятие персонажа), т. е. читатель не может точно знать, действительно ли восход солнца окрашен в кровавый цвет, или же Эдуарду так «видится», действительно ли каркают вороны, или ему только «слышится». Этот, на первый взгляд, незначительный момент имеет большое значение, ибо он прямо связан с темой «предопределенности судьбы», с темой «рока». А эта тема в свою очередь связана с более общей философской и морально-этической проблемой, которую условно можно обозначить альтернативой «жизнь-смерть». Теме рока отводится, как известно, большая роль в литературе предромантизма, особенно в «готическом романе», герои которого смело вступают в борьбу с фатальными силами, но движет их поступками зачастую именно страх перед смертью. Иначе эта проблема решается у Чаттертона.
Король Эдуард посылает рыцаря Кантерлопа объявить Бовдину смертный приговор. Чарльз Бовдин мужественно и с достоинством выслушивает решение короля. «Все мы должны умереть, — отвечает храбрый Сэр Чарльз; — я этого не боюсь. Какая польза в том, что можно прожить чуть дольше? Хвала Всевышнему, к смерти я готов. Но скажи королю, что мне он не король. Пусть я лучше умру сегодня, чем быть его рабом, как все его придворные. Итак, я буду вечно жить». Бовдину смерть не страшна не потому, что она так или иначе неизбежна; она не страшна ему потому, что он уверен в том, что умирает за правое дело. Именно это придает ему силы и рождает веру в бессмертие:
Ты мнишь: сегодня я умру,
Но я, досель мертвец,
Пав мертвым, буду жив.
Меня ждет вечность и венец. (Перевод М.В. Талова)
В балладе большое значение имеет эпизод, где идущий на смерть Бовдин обращается с речью к королю Эдуарду. Это единственное место в произведении, где прямо сталкиваются два противоборствующих начала. Оно, бесспорно, является кульминацией всего действия. Художественно и композиционно этот эпизод решен автором с поразительным мастерством. Каждая строфа, каждый стих проникнуты большим поэтическим вдохновением, исполнены подлинного пафоса. И вместе с тем продуманы Чаттертоном до мельчайших деталей. Эпизод построен па своеобразной антитезе, в основе которой лежит парадокс. «Что ж смотри на меня, Эдуард, подлый предатель, — обращается к королю Бовдин, — я выставлен на позор, но будь уверен, вероломный человек, что я более велик, чем ты». Вся стилистика эпизода подчинена этой главной мысли. Идущий на смерть Чарльз Бовдин — «храбр как лев», а король Эдуард, слушая его обвинительную речь, не выдерживает открытого взгляда осужденного, «отворачивается и чувствует, как кровь приливает к его лицу». Чаттертон подробно описывает отряд воинов, который сопровождает рыцаря к эшафоту. На всех парадные одежды, солнце играет на щитах, их оружие наготове, чтобы в любой момент отразить нападение сторонников Чарльза Бовдина. Все жители города смотрят па «отважного и доброго» Бовдина. И охрана уже представляется читателю почетной свитой гордого рыцаря. Король же выглядывает из окна собора, спрятавшись за его толстые стены. Рядом с ним только его брат Глостер. Пророчески звучат слова Бовдина о том, что добытая путем бесчисленных убийств, облитая кровью корона не долго удержится на голове короля. «Стоит у смерти он, но она не повергает его в ужас, — говорит напуганный Эдуард своему брату, — каков человек! Он сказал истину: он более велик, чем король!».
Крупнейший французский ученый-историк и литературный критик Огюстен Тьерри писал о «множестве анахронизмов как в мыслях, в изложении событий, так и в стиле и метрике» произведений Чаттертона. Такая точка зрения представляется не совсем точной. На примере «Бристольской трагедии» можно увидеть, что герои Чаттертона при всей их удивительной исторической достоверности, зачастую мыслят и поступают не как люди средневековой эпохи, а как современники автора. В этом плане особо, интересна сцена беседы мэра Бристоля Кевинджа с королем Эдуардом.
Добрый Кениндж пришел к королю с просьбой пощадить Чарльза Бовдина. Для Кенинджа возможны два пути: взывать к рыцарскому долгу, точнее, этикету, или к такому обычному человеческому чувству как жалость. Легко предположить, что «средневековый» Кениндж должен начать с первого, но герой Чаттертона поступает иначе, именно так, как поступил бы человек восемнадцатого столетия. Он пытается разжалобить жестокого короля, говоря ему, что у Чарльза Бовдина есть жена и двое детей, которых ждет горькая участь сирот. Король остается непреклонен. И только тогда Кениндж напоминает Эдуарду одну из основных заповедей «рыцарского устава»: «истинно храбрый рыцарь должен ценить мужество и благородство даже у врага». Но король неумолим.
И в этом эпизоде Чаттертон прибегает к контрасту, но уже к контрасту «речевой характеристики». Высокий слог, четкость построения, благородство отмечают речь Кенинджа. В то время как речь короля заметно «заземлена». За гневным раздражением прячется страх:
Прочь, Кеннидж! Прочь! Клянусь творцом,
Нам давшим жизнь: и в рот
Мне не полезет хлеба кус,
Покуда Чарльз живет! (Перевод М.В. Талова)
Одним из основных художественных достоинств «Бристольской трагедии» является то, что при известной «заданности» характеров, вытекающей из определенной схемы сюжетных коллизий (что обусловлено спецификой жанра баллады) Чаттертон сумел нарисовать вполне достоверные и жизненные образы людей, а не «масок».
Поставленные в исключительные обстоятельства, герои Чаттертона решают высокие нравственные проблемы верности долгу, идеалу, но это «высокое», «идеальное» в их поступках опирается на частное, реальное, исходит из самых обычных земных, присущих человеку мыслей и чувств. В этом плане показательна сцепа прощания Чарльза Бовдина со своей женой Флоренсой. Суровый и гордый рыцарь, много раз смотревший смерти в глаза на поле брани, презирающий смерть, Бовдин пытается утешить жену, говоря ей, что Всевышний не оставит его семью, но слезы и стенания Флоренсы «разрывают ему сердце» и «рождают желание жить». Бовдин, «презревший власть короля», оказывается во власти обычного человеческого чувства, «на его глаза наворачиваются слезы». Он «собрал всю свою волю», чтобы «переступить порог и выйти из дома».
Правдиво и с большим эмоциональным напряжением написан образ верной Флоренсы. С удивительной достоверностью, даже с некоторым «натурализмом» поэт рисует ее горе и страданье. Ее образ далек от привычной балладной «дамы сердца». В своем огромном человеческом горе она просто женщина, любящая жена и мать двоих детей. Флоренса не рассуждает, как Бовдин, о судьбе короны, она проклинает короля за то, что он отнял у нее мужа, отца ее детей. «Она рвет на себе волосы и бьется об пол как сумасшедшая». И с какой особой нежностью звучат в устах сурового рыцаря слова, обращенные к любимой жене.
Эпизод расставания Чарльза Бовдина с Флорепсой проникнут лиризмом, драматизмом и вместе с тем лишен всякой аффектации и мелодраматизма. Едва ли будет преувеличением сказать, что это одно из лучших мест не только в поэзии Чаттертона, но и во всей английской поэзии восемнадцатого века.
Еще одна очень важная тема звучит в «Бристольской трагедии» — тема народа. Эта тема связана с общей демократической тенденцией творчества английского поэта.
Стеклися граждане толпой,
Ропща, как грозный вал,
А в окнах тысяча голов,
Когда он проезжал, —
так Чаттертоном вводится в произведение образ парода. Взойдя на эшафот, Чарльз Бовдин обращается к горожанам с речью и призывает их «бороться за правое дело и умереть за правое дело». «Пока Эдуард правит страной, — говорит Бовдин, — вам не знать мира; ваши мужья и сыновья будут гибнуть, и кровь польется рекой». Обращение рыцаря к народу не просто дань традиции. Его слова свидетельствуют о желании помочь людям обрести мир и покой. Бовдин не зовет людей отомстить за свою смерть.
Вспоминая перед смертью покойного отца и то, чему он его учил, Бовдин с гордостью говорит, что выполнял все родительские заветы. Это, своего рода, «позитивная программа воспитания». Причем на первом месте стоит тезис об умении «сочетать справедливость и закон с великодушием, различать добро и зло» равно как «помогать голодным беднякам и не позволять слугам гнать голодного от дверей дома» .
Народ искренне скорбит о смерти доброго Чарльза Бовдина. Когда его кровь «пролилась на эшафот, у всех людей из глаз текли слезы». Вот почему горькой иронией наполняется последняя строфа баллады, где традиционно прославляется король, «наперсник Бога на земле»:
Вот Чарльза Бодвина конец:
Пусть наш король живет,
И славу с Чарльзовой душой
Пусть небу воздает.
В «Бристольской трагедии» Чаттертон максимально использует художественные возможности жанра баллады. Важнейшими особенностями балладного стиля являются монолог и диалог. Внутренний мир героев, глубина их чувств и переживаний раскрывается не столько в их поступках (действия в прямом смысле слова в балладе почти нет), сколько в монологе как средстве изображения отношения героя к происходящим событиям и в целом к действительности. Диалог позволяет автору «устраниться» из повествования, освободить себя от рассуждений: оценка героев дана в их собственных словах. Диалог «создает движение, быстрое, полное неожиданностей, захватывающее с первых же строк». Другой немаловажный момент: «он (диалог — И. В.) придает балладе драматический характер». Этой цели подчинены и другие стилистические средства, которые Чаттертон мастерски применяет в «Бристольской трагедии»: строфическая анафора, лексические повторы (репризы), употребление поэтизмов и т. д.
Однако основная особенность «Бристольской трагедии», ее своеобразие — в том, что здесь преломляются два временных пласта, и это позволяет говорить о бинарной структуре произведения. Налицо необычное «раздвоение» авторского Я. С одной стороны, Чаттертон — человек восемнадцатого века с присущей для своей эпохи складом ума, опытом, мироощущением и т. д., а с другой — монах Роули, свидетель кровавых событий пятнадцатого века. Эту особенность «Поэм Роули» почувствовал еще Вальтер Скотт, писавший в
Американский исследователь Фрай видит в «Поэмах Роули» некий литературных: «апокриф», что связано, по его мнению, с «пророческим методом сочинения», которым пользовался английский поэт.
Основной ошибкой исследователей является то, что они подходят к «Поэмам Роули» как к «литературной мистификации» и рассматривают художественные особенности произведений этого цикла на фоне средневековой культуры, пытаясь «идентифицировать» их с тем или иным литературным памятником эпохи.
«Бристольская трагедия», как и все другие произведения Чаттертона, — продукт литературной мысли второй половины восемнадцатого века и должна быть рассмотрена в литературно-историческом контексте именно этой эпохи. Бинарная структура «Бристольской трагедии» выражает две тенденции в творческой манере Чаттертона, субъективную и объективную. Первая заключается в том, что Чаттертон стремится дать «подлинный образец» средневековой английской поэзии, для чего ему необходим Роули, «очевидец событий». Вторая же тенденция заключается в том, что «реальный» автор Чаттертон независимо от своей воли (объективно) не может не выразить в той или иной форме своего отношения к описываемому, иными словами он преломляет изображаемые исторические события через призму общественных отношений, психологии, этики и эстетики того времени, той эпохи, в которой живет и которая определяет его сознание.
Если вспомнить политическую жизнь Англии 60-70-ых г. восемнадцатого века, можно увидеть связь «Бристольской трагедии» с политическим кризисом, который потряс страну в это время. Взошедший на престол Георг III (1760-1820) стремился всячески расширить королевскую власть, нарушая конституцию и права парламента. Раздавая титулы, пенсии, доходные места, оп «без особых трудов переманил в торийскую партию часть продажных парламентариев». С гневным осуждением политики короля и продажности членов парламента выступили в печати прогрессивные журналисты Уилкс и Юниус, которые подверглись жестоким репрессиям со стороны правительства.
Коррупции и продажности английских парламентариев противостоит образ гордого бескомпромиссного Чарльза Бовдина. В «Бристольской трагедии» нашел воплощение принцип «исторической инверсии». «Сущность такой инверсии, — отмечает М. Бахтин, — сводится к тому, что мифологическое и художественное мышление локализует в прошлом такие категории, как цель, идеал, справедливость, совершенство, гармоническое состояние человека и общества и т. п.».
Драматическая баллада Чаттертона, отлитая в строгую форму, присущую этому жанру, противостоит вялой, дидактической описательной поэзии эпигонов классицизма, перегруженной аллегориями и «стершимися» образами. Тем самым она выражает общие тенденции развития английской поэзии второй половины восемнадцатого столетия.
Л-ра: Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. – М., 1979. – Вып. 3. – С. 46-55.
Произведения
Критика