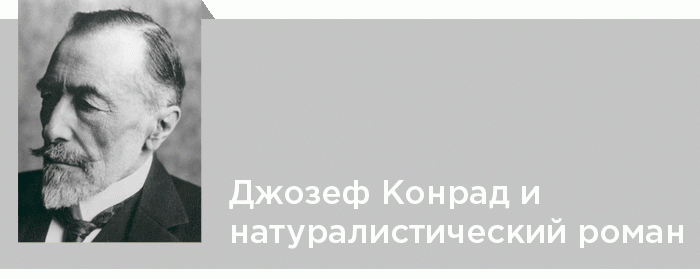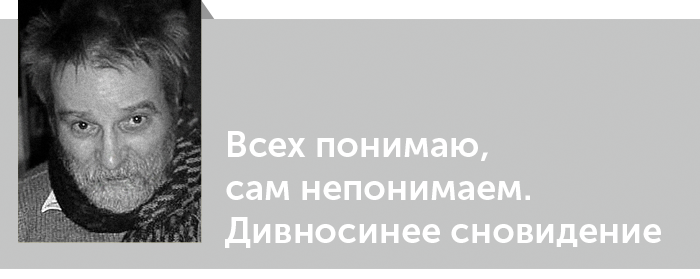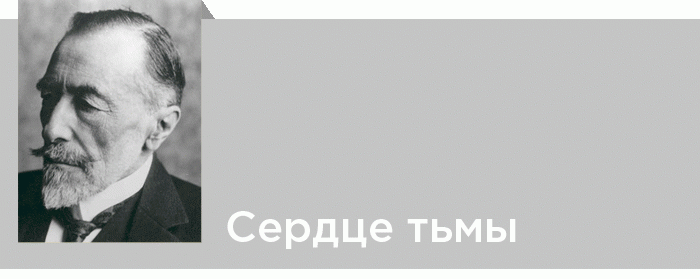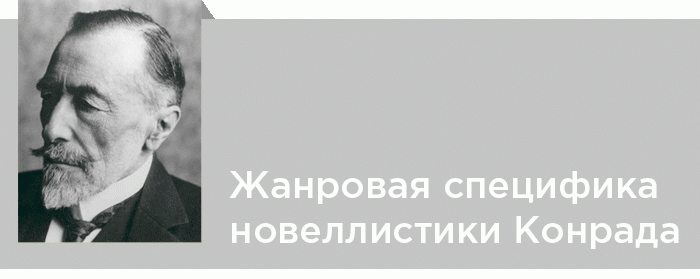Энергия «тёмного сердца»

В. Толмачев
За последнее время отношение отечественного литературоведения к Конраду решительно переменилось. Отошло в прошлое представление о нем как приключенческом авторе для юношества, несколько одностороннем прозаике-маринисте. Теперь перед нами с полным на то основанием вырос действительный Конрад: художник философический, в известной степени нетрадиционный для словесности второй половины XIX века.
Вместе с тем истолкование Конрада как значительной фигуры рубежа веков далеко от однозначности, невольно лишено четкости (проза Конрада, по удачному выражению одного из критиков, по-современному многослойна и потому снятие одного из ее пластов вовсе не обеспечивает понимания всего остального), поскольку даже от небольшой смены исследовательской точки зрения меняется и понимание, оценка нетрадиционного в художественном методе литературы XX века. Действие большинства конрадовских произведений развертывается посреди разгула стихии. Как правило, это море — привычный образ вечного в западноевропейской культуре. Однако природа, стихийное у Конрада в незначительной степени служит экзотическим фоном для неоромантическо-импрессионистических путешествий. Море, глубины Африки («Сердце тьмы»), рудники Латинской Америки, по Конраду, — это своеобразный космический театр, испытательная площадка, на которой человек, желает он того или нет, неумолимо проходит проверку на прочность, «безжалостное разоблачение». С одной стороны, глубинно стихийное — а Конрад постоянно подчеркивает своеобразное обнажение грозной сущности природы перед индивидуалистом («затем сгустилась трепещущая тьма, и наконец-то пришло настоящее») — вызывает у его персонажей сильнейшее чувство одиночества и покинутости, страха перед неведомым. И в этом смысле, как говорит один из героев романа «Лорд Джим», природа — «разрушительное начало», своего рода вселенский демонизм. Но с другой стороны, это и вполне реальная сила, побуждающая неординарную личность обратиться к собственным глубинам, «тьме» (на сей раз уже не мировой, постоянно «бодрствующей», а индивидуальной, внезапно «разбуженной») — провести путешествие самопознания не поверхностно, а пережить фундаментальный суд над собой, чтобы, «очистившись», вынырнуть в «новое».
И вот здесь-то оказывается, что традиционные романтические герои, надо сказать, нередко встречающиеся у Конрада, — неспособны на путешествие «до конца». Они слишком рефлективны, слишком скользят по поверхности явлений, манимые некими фантомами природы, которые несут их к бесславной гибели. Так, к примеру, «самосуд» Джима завершается фактическим самоубийством, ибо он «чересчур романтик» в привычном для прошлого столетия смысле слова. Он пытается перенести «вину», интуитивно открытую им как постоянный, не дающий личности забыться груз, изнутри (своего трагически расщепленного сознания, неспособного примириться с обществом посредством гражданского суда) вовне: в несправедливое устройство общества. В результате Джим становится добрым монархом на одном из островков Полинезии. Но голос «проснувшегося» сердца (образ очень распространенный у Конрада), разбуженной «тьмы» звучит и там...
Сам Конрад расценивал «старый» романтизм именно как взгляд на жизнь вслепую, как идеалистическую боязнь выяснить свои отношения со взрывчатой, но вместе с тем непостижимой энергетической сущностью мира: «...Некоторые люди скользят по поверхности жизни, чтобы затем осторожно спуститься в мирную могилу; жизнь до конца остается для них неведомой, им ни разу не открылись ее вероломство, жестокость к ужас... счастливые... или забытые судьбой и морем» («Тайфун»). Ему противостоит романтика активная, отталкивающаяся от экзистенциального страха перед небытием, в соответствии с которой и выстраивается новое поведенческое кредо.
Конрад считает подобную мировоззренческую концепцию, в противовес романтически-рефлектирующему трагизму, — в этом качестве он отрицает и Гарди, и Достоевского, — истинно моралистической, способной реально помочь людям. Поэтому центральные персонажи повестей Конрада — это личности, которые даже под страхом смерти стоически, не рассуждая выполняют свой профессиональный долг, пусть и без надежды на успех, хотя в силу случайности он может к ним и прийти. Это сильные личности, постоянно ощущающие бремя своей заряженности на схватку и как магнит притягивающие к своей силе других. Нетрудно заметить, что перед нами так или иначе героизм отчаяния — единственный в конечном счете вид героизма, доступный этим скептическим, безусловно мужественным, лаконичным на слово и не верящим ни во что, кроме реальности мачт, тросов или пароходных котлов, людям. Такой героизм позволяет, если воспользоваться словами Гамлета, «быть готовым, вот и все». Готовность же эта — вызов Поражению, стремление волевым усилием, напряжением плоти и крови оспорить непонятную текучесть некоего метафизическо-космического процесса, не дать ему еще при жизни подвергнуть свою личностную целостность распаду.
По логике Конрада, отчаянный героизм не столь уж мрачен, ибо в той или иной степени связан с особого рода безмятежностью — стоическим веселием. Безобразная безжалостность трагедии условно преодолевается красотой упрямого отрицания, — неосознанным умением перевоплощаться, играть.
Любопытно, что свой писательский труд Конрад сравнивал с трудом Сизифа, имея в виду отвоевание у неподдающегося слова «строгого» смысла. Вечную, классическую красоту «ускользающей» трагедии можно передать только через гамму осязаемого.
Наиболее полно конрадовская концепция стиля изложена в предисловии к роману «Негр с „Нарцисса"». В первую очередь стиль должен отличаться живописностью. Живописность в свете сказанного — «плоскостное», принципиально неполное (контурное) очерчивание ситуаций, своеобразное кружение вокруг явления с конечным «вживанием» в его сущность. Живописность, таким образом, это особая поэтика «вещных» (не абстрактных) намеков, позволяющая, «размыв контуры», приблизиться к «чистой» натуре, «оголенному» предмету: «Литература, должна передавать эмоциональную атмосферу места к времени, выхватить из безжалостного бега времени отрезок жизни... и через его движение, очертания и цвет обнажить его истинную суть... — напряжение и страсть, лежащие в основе каждого впечатляющего мгновения».
Именно с идеей классики в различных ее формах связано утверждение нетрадиционного (назовем здесь, к примеру, экспрессионизм, кубизм, супрематизм) в новейшем искусстве, о чем, впрочем, нам уже приходилось говорить на страницах журнала в связи с эволюцией эстетизма от XIX к XX веку. Отметим и другое: неоклассика у Конрада несвободна от различных наслоений (в том числе и романтических) претерпела сложное развитие. В целом же мировоззренческие и художественные взгляды Конрада сложились как представляется, не только в соприкосновении с европейскими писательскими, философскими, художественными веяниями конца — начала веков (Г. Спенсер, Ницше, А. Жид, Гоген), но и при прямом влиянии его личного опыта: плаваний и путешествий в Юго-Восточной Азии интенсивного знакомства с восточным стилем жизни и мышления.
Повесть «Сердце тьмы» (1902), одна из наиболее известных у Конрада, по-своему суммирует все его раннее творчество и дает хорошее представление о тех ориентирах, в направлении которых развивается конрадовская неоклассика.
В центре повести фигура Куртца — проводника идеи цивилизации в Африке. Он начальник колониальной станции, безжалостно обирающий аборигенов. Интересно сопоставить Куртца а этом и других смыслах с фигурой Коменданта в новелле Кафки «В исправительной колонии». Повесть описывает путешествие к этой станции назначенного туда молодого чиновника Марлоу, который, плывя вверх по реке, в глубь страны, видит «следы» Куртца кости, цепи, смерть, орудия пыток.
Природа реки — сумрачные испарения, растения-хищники, зловещие ночные крики животных, вторящие всем» этому, — неумолимо свидетельствует о зле, разлитом в мире. Путешествие к Куртцу является и дорогой к сердцу зла. Приближение к пока неведомому начальнику станции становится все более и более напряженным для человека, прибывшего из цивилизованного мира. Для него зловещие звуки, сумрачные краски разложения воспринимаются как двойники Куртца. Об эпизоде своей юности Марлоу рассказывает много лет спустя: Куртц до сих пор остается для него во многом загадкой, о чем Марлоу с некоторым сожалением и признается своим слушателям («В эти тайны не могло быть посвящения. Он обречен жить в окружении, не доступном пониманию...»), которые в конце концов утомляются от ассоциативного, растекающегося, как им кажется, по поверхности рассказа и засыпают. Однако такое импрессионистическое кружение повествования в какой-то момент по-экспрессионистски взрывается.
Куртц наконец найден, но вскоре умирает на руках у Марлоу со словом «ужас». Это кульминация повести, подводящая итог жизни конкистадора, вобравшего в себя «глубинный» зов Африки и отбросившего все внешние и очень непрочные в испытании «природой» приметы агента цивилизации. Куртц, таким образом, олицетворяет собой как бы динамическую квинтэссенцию Зла, Тьмы, Хаоса — начала, по мысли автора, неотторжимого от всего живого. Оно влечет к себе. Аборигенов притягивает дионисийская жестокость Куртца. Они воспринимают его кончину как смерть божества...
В позднейшем творчестве нацеленность Конрада на преодоление «человеческого, слишком человеческого» становится еще более очевидной. Показательны в этом отношении «Фальк», «фрейя семи островов». Их герои наделены, по выражению автора, некоей «первобытной прочностью». Их буквально сжигает голод жизни, неосознанное желание соотнести свое поведение с элементарными силами природы, которая «безжалостно откровенна». И вот перед нами уже не Фальк, капитан буксира, а определенное воплощение, как утверждает Конрад, «примитивного устремления»: человек-кентавр, человек, сросшийся с носом судна, — «первобытно прочный» человек. За упомянутым голодом, который на рубеже веков мог трактоваться и в романтическом плане («голод» гамсуновских персонажей), стоит признание моральной слепоты, неразборчивости индивидуальной воли. Фальк, чтобы выжить (ведь кто-то из двух самых сильных все равно должен погибнуть!), убивает и съедает своего товарища, а затем, в меру своей сильной личности, испытав муки другого голода, по его признанию еще более страшного, — любви, в конце концов женится на девушке-«нимфе». Жизненный порыв Фалька, таким образом, не признает нравственных обязательств.
В более ранних произведениях Конрада моральная оценка происходящего все же в какой-то мере присутствовала и так или иначе была связана с импрессионистическими догадками рассказчика относительно секрета сильной личности, показанной не только в минуты решимости, но и сомневающейся, колеблющейся. Однако подобного рода морализм стиля не более чем повествовательная условность: импрессионистическое кружение вокруг предмета, как уже упоминалось, готовит резкий экспрессионистский порыв к его сущности — «сердцу», видение которого вновь потом затушевывается. Отсюда и некий иронический пессимизм, исходящий в основном от рассказчика, пытающегося сложить свои разнообразные наблюдения в единый образ, и влекущий его и вместе с тем отталкивающий. Можно было бы сказать, что основной вектор многих конрадовских произведений проходит «по ускользающей». Повествователь интуитивно ощущает важность способного открыться ему «на глубине», и мы вслед за ним ждем, как выразился младший современник Конрада, Э.-М. Форстер, какого-то глобального метафизического откровения: одна, другая точка зрения взвешивается, оспаривается, выбрасывается за борт. Но нет, круг так и не замыкается... Течение все сносит и сносит суденышко. Наблюдение Форстера весьма проницательно, ибо подметило важную подоплеку конрадовских призведений: романтический стиль чувствования вряд ли способен воспринять «голые факты».
Начиная с повестей «Тайфун», «Фальк», угол зрения на изображаемое меняется. Конрад почти отказывается от иронических концовок, его несколько тягучая манера письма становится конкретнее — растет роль дробного декоративного диалога, повествователь приобретает определенную ясность зрения. Его, как и прежде, влекут все эти мужественные честолюбцы, живущие только сегодняшним днем, почти мистическим единением с вещным и природным миром, но теперь он уже не пытается их истолковать, а принимает такими, «как есть».
Решительный отказ Конрада от «старого» романтизма особо рельефно заявлен в повести «Дуэль», где «убийственная нелепость» и более того — абсурдность возникшего из ничего и множество раз возобновляющегося поединка соотносится им с эпохой наполеоновского индивидуализма, с ее ложным культом гения и красотой отвлеченного, то есть неистинного — питающегося иллюзией, не соотнесенного с «природой» героизма, непреложно ведущего к раздвоению личности, к гибели.
В исторической перспективе противоречивость конрадовского творчества очевидна. С одной стороны, многих читателей не может не привлекать определенная цельность натуры, героика существования сравнительно простых людей у английского писателя, желавшего по-демократически противопоставить ущербности декаданса новые идеалы. В то же время, вчитываясь в него, все же понимаешь, что художественное и эстетическое обоснование этого во многом фаталистического героизма оставляет человеку не столь уж много — рвущуюся наружу энергию «темного сердца», бытийно лукавых в своей основе величин, а не сокровенные тайны «чистого сердца», борения которого столь влекли к себе русских писателей, современников Конрада.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1988. – № 9. – С. 67-69.
Произведения
Критика