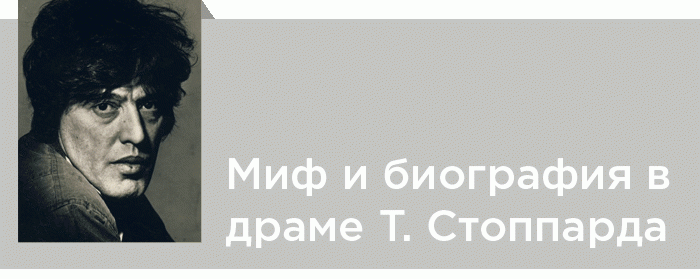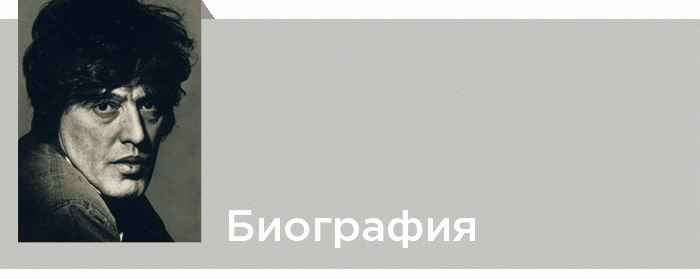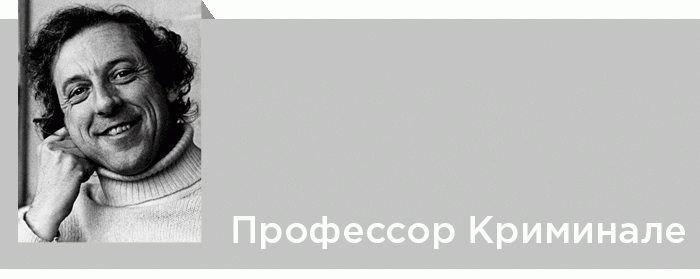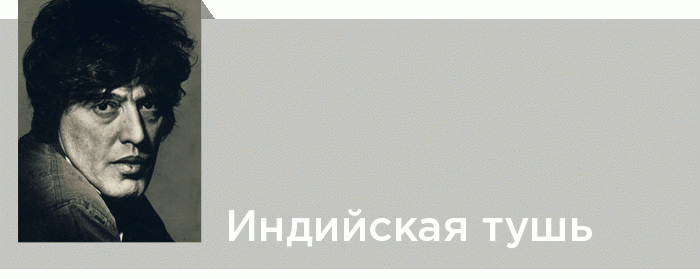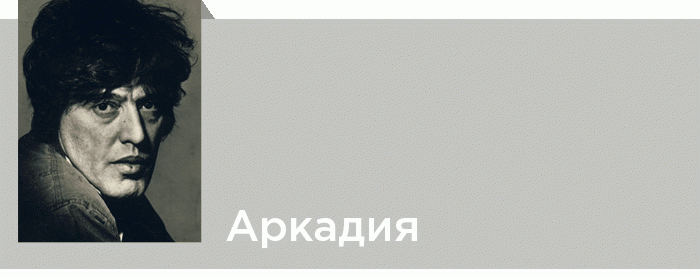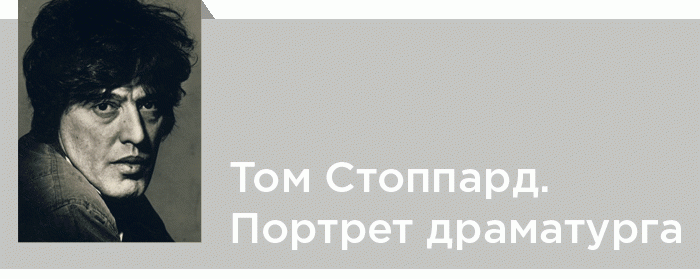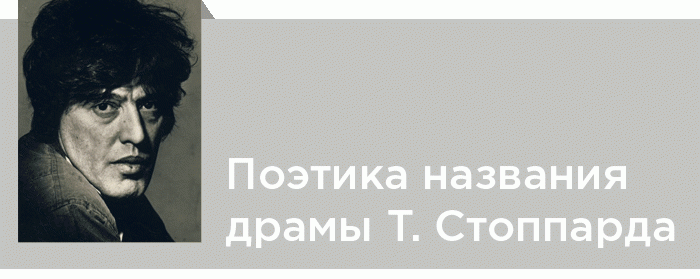Том Стоппард. Изобретение любви
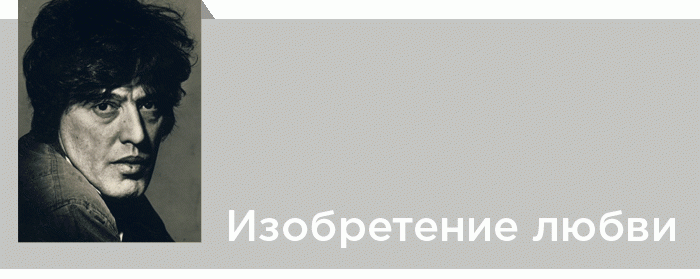
(Отрывок)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
АЭХ, А.Э. Хаусмен, 77 лет.
Хаусмен, А.Э. Хаусмен, от 18 до 26 лет.
Альфред Уильям Поллард, от 18 до 26 лет.
Мозес Джон Джексон, от 19 до 27 лет.
Харон, перевозчик в Аиде.
В действии первом:
Марк Паттисон, ректор Линкольн-колледжа, 64 года, ученый-классик.
Уолтер Пейтер, критик, эссеист, ученый, сотрудник Брейсноуза, 38 лет.
Джон Рёскин, выдающийся искусствовед и критик, 58 лет.
Бенджамин Джоуитт, Мастер Баллиоля, 60 лет.
Робинсон Эллис, латинист, 45 лет.
А также: Вице-канцлер Оксфордского университета и Баллиольский Студент.
В действии втором:
Кэтрин Хаусмен, сестра АЭХ, 19 и 35 лет.
Генри Лябушер, член парламента от либералов и журналист, 54 и 64 лет.
Фрэнк Гарри с, писатель и журналист, 29 и около 40 лет.
У. Т. Стэд, редактор и журналист, 36 и 46 лет.
Чемберлен, клерк, около 20 и 30 лет.
Джон Персиваль Постгейт, латинист, около 40 лет.
Джером К.Джером, писатель-юморист и редактор, 38 лет.
Оскар Уайльд, 41 год.
А также: Банторн, персонаж из оперетты Гилберта и Салливана «Пэйшенс», Председатель и члены отборочной комиссии.
Роли персонажей, занятых лишь в первом или, соответственно, лишь во втором действии, может исполнять одна группа актеров.
Сценические указания относительно реки, лодок, сада и пр. не следует принимать буквально.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Семидесятисемилетний и более не стареющий АЭХ стоит в застегнутом на все пуговицы темном костюме и аккуратных черных ботинках на берегу Стикса, наблюдая за приближением перевозчика, Харона.
АЭХ. Стало быть, я умер. Хорошо. А это пресловутый стигийский мрак.
Харон. Эй, на берегу! Принять конец!
АЭХ. «Принять конец!» Вот он – язык людей и ангелов!
Харон. Осторожнее с креплением. Я надеюсь, сэр, скорбящие друзья и домочадцы устроили вам достойные похороны.
АЭХ. Кремацию – впрочем, весьма достойную. Отслужили в Тринити-колледже и упокоили прах, как и ожидалось, в графстве Шропшир, где мне не случалось ни останавливаться, ни тем более проживать.
Харон. Мир праху, покуда волки с медведями вас не откопали.
АЭХ. Этих бояться нечего. Шакалы – другое дело. Люди любят поговорить о том, что будет после их кончины. Утешение в смерти не такое окончательное, как ожидаешь. Ну вот, конец принят. В первом семестре в Оксфорде я слушал лекции Рёскина. Он принял конец безумным, как вы могли заметить.
Мы кого-то дожидаемся?
Xарон. Он опаздывает. Надеюсь, с ним ничего не стряслось. Как вас зовут, сэр?
АЭХ. Мое имя – Альфред Хаусмен. Друзья зовут меня Хаусмен. Враги зовут меня профессор Хаусмен. Теперь вы, вероятно, спросите с меня монету. К сожалению, обычай помещать монету в рот усопшего чужд Эвелинской лечебнице и даже, пожалуй, запрещен их правилами. (Смотрит вдаль.) Непростительно задерживается. Вы уверены, что…
Харон. Поэт и ученый, так мне передали.
АЭХ. Это, я думаю, про меня.
Харон. Вы за обоих?
АЭХ. Боюсь, что так.
Харон. Описание как будто на двоих.
АЭХ. Я знаю.
Харон. Дадим ему еще минуту.
АЭХ. Чтобы прийти в себя? Смотрите-ка, я нашел шестипенсовик. Чеканки тысяча девятьсот тридцать шестого года Anno Domini.
Харон. Вы знаете латынь?
АЭХ. Да, пожалуй что знаю. Последние двадцать пять лет я преподаю… преподавал латынь в Кембридже, возглавил кафедру вслед за Бенджамином Холлом Кеннеди. Кеннеди здесь? Я был бы рад с ним увидеться.
Харон. Все здесь, а прочие – будут. Садитесь посредине.
АЭX. Да-да. Не думаю, впрочем, что у меля найдется время увидеться со всеми.
Харон. Найдется, хотя начинают обыкновенно не с Бенджамина Холла Кеннеди.
АЭХ. Я и не думал с него начинать. При нем практика стихотворного перевода на латынь и греческий приобрела вес, которого не заслуживала – по крайней мере, в качестве инструмента для изучения античной метрики. Логично предположить, что метрические законы невозможно обнаружить в собственных стихах, где ты эти, еще не открытые, законы то и дело нарушаешь. Кеннеди был школьным учителем, пусть гением, но все же школьным учителем. В приступе сентиментальности Кембридж дал кафедре его имя. По мне, с него хватило бы памятной чернильницы. Однако именно Кеннеди или, точнее, третье издание его SabrinaeCorolla мне, семнадцатилетнему, вручили в школе, и ему-то я обязан любовью к греческому и латыни. В греческом я дилетант, не лучше прочих профессоров. Ну, конечно, гораздо лучше Пирсона, который знал больше Джоуитта и Джебба, вместе взятых. В бытность мою в Оксфорде профессор греческого Джоуитт горел неуместным пылом по части классического образования. В его редакции оно сводилось к тому, чтобы поставлять в правящие классы Англии людей, читавших Платона, – выпускников Баллиоля или, на худой конец, рядовых оксфордцев, когда в баллиольцах случалась нехватка. В первую неделю учебы, в октябре тысяча восемьсот семьдесят седьмого, я услышал, как Джоуитт произносит akribos с ударением на первом слоге, и подумал: «Ну и ну! Вот тебе и Джоуитт!» С Джеббом проходили Софокла. В его Софокле есть такие места, будто размеры подсчитывала Лондонская газовая компания.
Xарон. Вы не могли бы немного помолчать?
АЭХ. Да, полагаю, что могу. Моя жизнь отмечена долгими молчаниями.
Харон отвязывает снасть и отталкивается шестом.
С кого обычно начинают?
Харон. С Елены Прекрасной. Когда мы переплывем, вы увидите трехглавого пса. Не обращайте на него внимания, и он вас не заметит.
Голоса за сценой, тявканье собаки, плеск весел.
Хаусмен…Истинно, мы были оставлены в пустыне собирать с терновника виноград и с репейника смоквы!
Поллард. Держи правее, Джексон.
Джексон. Хочешь взять весла?
Поллард. Нет, у тебя прекрасно получается.
Вплывают трое в лодке с лающей собакой. Хаусмен на носу (держит собаку), Джексон гребет, Поллард на корме. За собаку – реалистичное собачье чучело или игрушка.
Джексон. Хаус бездельничает с самого Иффли.
АЭХ. Мо!
Хаусмен. Какая наглость! А кто вас вывел из Аида, не считая собаки?
Поллард. Это собака с тобой не считается. Собака любит Джексона.
Хаусмен. Собаку любит Джексон.
Поллард. Нефлективный собак нефлективный Джексон любить, в этом вся прелесть.
Хорошая собака!
Хаусмен. Нефлективная собака не может
быть хорошей, у собак нет души.
Джексон. Что он сказал?
Поллард. Говорит, у твоей собаки нет души.
Джексон. Каков нахал!
Поллард. Все это лишний раз показывает, что ты ни аза не смыслишь в собаках вообще и тем более в Джексоновой собаке, чьей душе уже предначертаны елисейские поля, где ее нетерпеливо ожидают друзья, не покойные, но упокоенные.
АЭХ. Не усопшие, но уснувшие.
Трое, переругиваясь, уплывают: «Держи правее!»… «Кто-нибудь проголодался?»
Харон. Что такое?! Со своей лодкой! До
чего дошло!
АЭX. Стоило лишь руку протянуть – ripaeulteriorisamove! (Кричит.) Мо! Мо! Я бы умер за тебя, но счастье меня обошло!
Харон. Вы о собаке?
АЭХ. Я о своем ближайшем друге и товарище Мозесе Джексоне. Nec Lethea valet Theseus abrumpere cam vincula Pirithoo.
Харон. Верно, я помню его – Тезея. Как он рвал цепи своего друга, хотел забрать с собой из Преисподней. Но тут ничего не попишешь, сэр. Ничего не попишешь.
Харон правит в туман.
Свет на Вице-канцлера в торжественном одеянии.
Его голос отдается эхом. Или иначе – на сцене только его голос.
Вице-канцлер. Альфредус Эдуардус Хаусмен.
Восемнадцатилетний Хаусмен выходит вперед, получает от него устав.
Альфредус Гильельмус Поллард… Мозес Йоганнус Джексон…
Свет на Полларда, восемнадцати лет, и Джексона, девятнадцати. Оба с уставами в руках.
Джексон. Что такое trochum?
Поллард. «Обруч», в аккузативе.
Джексон. «Nequevolvere…»
Поллард. Да, устав запрещает нам катать обруч. Я – Поллард. Кажется, мы с вами разобрали обе открытые стипендии в этом году. Примите мои поздравления.
Джексон. Очень приятно, поздравляю и вас.
Поллард. Что вы заканчивали?
Джексон. Академию Уэйл. Это в Рамсгейте. Собственно, мой отец там директор. Но я пришел не из школы, два года отучился в Лондонском университетском колледже. Занимался там греблей. А вы?
Поллард. Королевский колледж.
Джексон. Вы там в регби играете?
Поллард. Да. Я – заочно.
Джексон. Я предпочитаю регби футболу. Любопытно, в колледже сильная команда? Я не считаю себя серьезным крикетистом, хотя при случае могу ударить как надо. В весеннем семестре налягу на легкую атлетику.
Поллард. Ага. Что угодно, лишь бы не катать обруч.
Джексон. Нет, я прежде всего бегун. Четверть мили и полмили – мои лучшие дистанции.
Поллард. Вы, стало быть, спортом увлекаетесь?
Джексон. В Оксфорде, конечно, придется потрудиться, но – как сказал поэт – работа не волк…
Поллард (одновременно). Orandum est ut sit mens
Джексон…в лес не убежит.
Поллард. Не знал, что университетским людям дают стипендию на классику.
Джексон. Классика? Нет, это не про меня. У меня стипендия от естественников.
Поллард (счастливо). А… естественники! Прошу прощения! Очень приятно!
Джексон. Я – Джексон.
Поллард. Поллард. Мои поздравления. Это все объясняет.
Джексон. Что?
Поллард. Не знаю. Да, trochusесть в Овидии или где-то в Горации, в «Сатирах».
Подходит Хаусмен.
Хаусмен. В «Одах». Извините. «Оды», книга третья, 24, ludere doctior seu Graeco iubeas tro-cho – это там, где он говорит, что все пошло коту под хвост.
Поллард. Верно! Высокородный юноша не может удержаться в седле и страшится охотиться, ему бы все играть с греческим обручем.
Хаусмен. В общем-то, «trochos» – греческое слово. Это на греческом и есть «обруч», так что когда Гораций говорит «Graecus trochus» – это все равно что сказать «французская chapeau». Тут он, пожалуй, хватил.
Джексон. Почему? Как?
Хаусмен. Когда римлянин называл что-то «греческим», очень часто он подразумевал изнеженность, даже женоподобие. Вообще обруч, trochos, был излюбленным подарком греческого мужчины мальчику, с которым… ну, вы понимаете, избранному мальчику.
Джексон. Вы имеете в виду – сожителю?
Поллард. Кстати, это мистер Джексон.
Хаусмен. Очень приятно.
Джексон. Я, знаете, тоже новичок. Вы не видели здесь доску, где записываются? Я собираюсь попасть в Торпидс в следующем семестре. Увидимся на речке.
Поллард (перебивая). На обеде.
Джексон удаляется.
Естественник.
Хаусмен. А на вид вполне приличный.
Поллард. Я – Поллард.
Хаусмен. Хаусмен. Мы с вами будем жить на одной площадке.
Поллард. О, чудно. Где вы заканчивали?
Хаусмен. Бромсгроувская школа. Это… гм… в Бромсгроуве. Такой город в Вустершире.
Поллард. Я учился в Королевском колледже, это в Лондоне.
Хаусмен. Лондон… знаю, бывал. Ходил в Альберт-Холл и в Британский музей. Но лучше всего – смена караула. Кстати, вы правы насчет Овидия. Trochus есть в Ars. Am.
Оксфордский сад, река, садовая скамейка. Вкатывается невидимый крокетный шар, за ним следует Паттисон с крокетным молотком.
Паттисон. Мои юные друзья, я с сожалением извещаю вас, что если вы прибыли в Оксфорд в расчете обзавестись знаниями, вам лучше сейчас же от этой идеи отказаться. Мы вас купили и теперь погоним в двух забегах, подготовительном и выпускном.
Поллард. Да, сэр.
Паттисон. Учебный курс выстроен так, чтобы все знание умещалось между обложками четырех латинских и четырех греческих книг. Набор из четырех книг сменяется ежегодно.
Хаусмен. Благодарю вас, сэр.
Паттисон. Истинная любовь к учению – одно из двух прегрешений, которые вызывают слепоту и приводят юношество к краху.
Поллард /Хаусмен (уходя). Да, сэр, спасибо, сэр.
Паттисон. Безнадежны.
Паттисон выбивает шар за сцену и следует за ним. Входит Пейтер в сопровождении Баллиольского Студента. Студент пригож и галантен. Пейтер малоросл и непривлекателен, денди: цилиндр, желтые перчатки, голубой галстук.
Пейтер. Благодарю вас за присланный сонет, милый мальчик. И конечно, за вашу фотографию. Но отчего вы всегда пишете поэзию? Почему не пишете прозу? Проза настолько сложнее.
Студент. Никто не создал поэзии, которую хочу создать я, мистер Пейтер, а проза уже создана вами.
Пейтер. Очаровательно сказано. Когда вернусь домой, я пристальнее взгляну на вашу фотографию.
Уходят. Входят Рёскин и Джоуитт, играют в крокет.
Рёскин. Мне было семнадцать, когда я приехал в Оксфорд. Это было в тысяча восемьсот тридцать шестом, и слово «эстет» еще не вошло в обиход. Эстетизм едва прибыл из Германии и не диктовал своим адептам нарядов, как у Лондонской пожарной команды. Его еще не связывали с преувеличенным преклонением перед физической мужской красотой, которое содействовало падению Греции. До шестидесятых годов нравственное вырождение еще не пряталось под пагубной сенью поэтической вольности и не объявляло себя эстетикой. В прошлом все противоестественное обыкновенно оставалось в пределах школ, как, например, футбол…
Джоуитт. В школе, увы, меня считали очень красивым мальчиком. У меня были золотые кудри. Мальчики дразнили меня «мисс Джоуитт». Как меня ужасал этот дьявольский ритуал! – эта пытка! – это унижение! Мое тело ныло от истязаний, я сбегал, как только мяч оказывался рядом со мной… (Уходя.) Сейчас никто, думаю, не назовет меня мисс Джоуитт или хозяйкой Баллиоля.
Хаусмен, Поллард и Джексон вплывают в лодке, Джексон на веслах.
Хаусмен. Неверные долготы окрест себя я зрю, истинно, мы были оставлены в пустыне собирать с терновника виноград и с репейника смоквы.
Поллард. Вот, наверное, почему колледж назвали в честь Иоанна Крестителя.
Джексон. Собственно, Иоанн Креститель – это акриды и дикий мед, Поллард.
Поллард. Суровые уроки задают в колледже Крестителя. Сперва пустыня, а потом голова на блюде.
Хаусмен. С того самого дня, как нас зачислили, стало ясно, что чего-то здесь недостает. Устав предостерегает нас от возлияний, карт и катания обруча, но в нем ни слова о джоуиттовском переводе Платона. Regius Professor не способен произносить греческие слова, и во всем Оксфорде некому его поправить.
Поллард. Кроме тебя, Хаусмен.
Хаусмен. Я заберу его тайну с собой в могилу, только расскажу всем встречным. Предательство не грех, если совершать его в шутку.
Джексон. Нас учили этому новому произношению. Я, как нормальный англичанин, никогда не мог это выговорить. Veni, vidi, vici… У меня эта ерунда в голове не умещается.
Латинское произношение: «уэни, уйди, уики».
Поллард. Это, собственно, латынь, Джексон.
Джексон. А богиня любви – Уэнус. С ума сойти!
Поллард. Может быть, я неясно выразился. Латинский и греческий – это два совершенно отдельных языка, на которых говорили разные народы, жившие в неблизких частях древнего мира. Хоть какое-то представление об этом тебе, Джексон, должны были внушить в Академии Уэйл в Рамсгейте.
Хаусмен. Но богиня любви Уэнус для человека таких венерических наклонностей, как Джексон, – это серьезное возражение против нового произношения. И потом, Уэнус – это так нехимично.
Джексон. Я знаю, вы с Поллардом презираете науку.
Поллард. Разве это наука? Овидий говорил, это искусство.
Джексон. А, любовьХ Вы просто меня клюете, потому что никогда не целовались с девушками.
Поллард. Правда. И как это, Джексон?
Джексон. Целоваться не похоже ни на науку, ни на искусство. Это не сравнить ни с тем ни с другим; это что-то третье.
Поллард. Ничего себе.
Хаусмен. Da mi basia mille, deinde centum.
Поллард. Катулл! Дай мне тысячу поцелуев, а затем еще сто! Потом еще тысячу, потом вторую сотню! Да, Катулл – это поэт для Джексона.
Джексон. Как там у него? Это удобно послать мисс Лидделл как мой стих?
Поллард. Смотря какая эта мисс Лидделл. Она – дактиль?
Джексон. Я очень в этом сомневаюсь. Она – дочь декана колледжа Крайст Черч.
Поллард. Ты не понял. Ее имя должно совпадать по размеру с Лесбией. Вся любовная лирика Катулла написана Лесбии или про нее. Vivamus, тва Lesbia, atqueamemus…
Джексон. А по-английски? Девушки, которые целуются, латыни не знают.
Поллард. Ах, по-английски. Попробуем, Хаусмен? «Давай жить, моя Лесбия, и давай любить, в грош оценим ропот брюзгливой старости…»
Хаусмен. «Не дадим и двух медяков за бурчание стариков…»
Поллард. Каков пижон!
Хаусмен.
Зайдет ли солнце иль взойдет опять: лишь краткий свет
Умрет, и мы уснем в ночи, которой краю нет.
Мне поцелуев тысячу и сто преподнеси,
К ним тысячу добавь и десять раз по десяти.
Джексон. Чем там заканчивается?
Ха смен. Заканчивается тем, что оба они умерли, а Катулла сдают на экзаменах. Nox est perpétua.
Поллард. Все-таки, если его сдают, не perpétua.
Хаусмен. Этому вас англикане учат?
Джексон. Они поженились?
Поллард. Нет. Они любили, и бранились, и мирились, и любили, и дрались, были верными друг другу и изменяли. Она сделала его самым счастливым человеком на свете и самым жалким, а через несколько лет умерла, а потом, в тридцать лет, и он умер. Но к тому времени Катулл изобрел любовную лирику.
Джексон. Изобрел? Правда, Хаус?
Поллард. Можешь его не спрашивать. Как все остальное – часы, штаны и алгебру, – любовную лирику нужно было изобрести. После тысяч лет секса и сотен лет поэзии любовная лирика – непритворные признания влюбленного поэта, дарящего бессмертие своей даме в творении, ею вдохновленном, – так вот, лирика, как ее понимают Шекспир, и Донн, и студенты Оксфорда, была изобретена в Риме в первом веке до Рождества Христова.
Джексон. Ого!
Хаусмен. Интересный момент – это basiит. До Катулла поцелуй всегда был osculum.
Поллард. Ну-ка, Хаус, напрягись, разве это интересный момент в поцелуе?
Хаусмен. Да.
Поллард. Держи правее, Джексон.
Джексон. Хочешь взять весла?
Поллард. Нет, у тебя прекрасно получается.
Джексон. Хаус бездельничает с самого Иффли.
Хаусмен. Какая наглость! Кто вас вывел из Аида?
Уплывают.
Игра в крокет возвращается на сцену: Паттисон, за ним по очереди – Джоуитт, Пейтер и Рёскин. Их появления, уходы и перемещения определяются развитием игры.
Паттисон. Мне не было и семнадцати, когда я впервые увидел Оксфорд. Это было в тысяча восемьсот тридцатом, и Оксфорд тогда был упоительным, не застроенным, как сегодня. Город кишит людьми, которым дела нет до университета, или, точнее, их отношение к университету исключительно деловое. Университет держался в стороне от лондонской и бирмингемской железных дорог вплоть до сороковых годов. Я тогда сказал: «Если к нам придут бирмингемские поезда, то и от лондонских не уберечься».
Пейтер. Мне не кажется, что вы правы, доктор Паттисон.
Джоуитт. Добираться десять миль до Стивентона, чтобы попасть на поезд в Паддингтон, никогда не было чересчур приятным занятием. Лично я благодарю Господа за нашу транспортную ветку и надеюсь, что теперешняя пересадка в Дидкоте не исчерпала щедрот Его милосердия.
Рёскин. Когда я в Паддингтоне, я чувствую себя как в аду.
Джоуитт. Вам не стоит об этом распространяться, доктор Рёскин. Нравственному воспитанию оксфордских студентов не пойдет на пользу мысль, что расплата за грехи – это всего лишь толкучка на крупном вокзале.
Рёскин. Быть нравственно воспитанным можно только тогда, когда осознаешь, насколько ужасающей была бы такая расплата. Механический прогресс – это шлак от нашей увядающей гуманности. Не удивлюсь, если ад представляет собой беспредельно раскинувшуюся модернизацию. Меж Бакстоном и Бейквеллом есть скалистая долина; там некогда – при первых и закатных лучах солнца – Музы танцевали пред Аполлоном и слышалась флейта Пана. Скалы эти взорвали ради железной дороги, и теперь каждый кретин из Бакстона может через полчаса оказаться в Бейквелле, а кретин из Бейквелла – в Бакстоне.
Пейтер (в игре). Первоклассный удар.
Джоуитт. Держите дистанцию.
Паттисон. Лично я всецело за образование, но в университете ему не место. Университет существует для того, чтобы искать смысл жизни посредством ученых занятий.
Рёскин. Я объявил смысл жизни в своих лекциях. Нет ничего прекрасного, что не благо, и нет ничего благого, что не имеет нравственной цели. Я заставил студентов вставать на заре, чтобы они прокладывали дорогу с цветами по обочинам вдоль болота Ферри Хинкси. Там был один ирландский щеголь, ражий детина с белыми руками и длинными поэтическими волосами, который с гордостью говорил, что никогда не видел лопаты; на целый семестр я превратил его в землекопа и научил, что труд – это основа добродетели. Потом я выехал в Венецию на зарисовки, и дорога провалилась в болото. Мой протеже начал вставать к полудню, чтобы курить сигареты и читать французские романы, а Оксфорд превратился в городской водоем для обучения гребле.
Хаусмен и Поллард идут вдоль реки, Хаусмен сосредоточен на лодочной гонке. Гонки не видно.
Хаусмен. Поднажми, Сент-Джон!
Поллард. Рёскин сказал, что, когда он в Паддингтоне, он чувствует себя как в аду, а Оскар Уайльд добавил: «А когда…»
Хаусмен. «…когда он попадет в ад, то будет думать, что это всего лишь Паддингтон». Жаль, если Уайльд будет известен одними перевертышами. Сент-Джон, давай!
Поллард. Ты ведь ненавидишь спорт.
Хаусмен. Шевелись!
Поллард. Уайльда считают самым остроумным человеком в Оксфорде. Говорят, в его комнатах в Магдалине нет ничего, кроме лилии в голубой вазе.
Хаумен. Что, и мебели нет?
Поллард. Да нет, мебель, конечно, есть…
То есть думаю, что мебель есть.
Хаусмен. Поднажми, Сент-Джон!
Поллард. Он заявился на бал к Морреллам в мундире Рупертовского полка и с тех пор по рассеянности надевает его каждое утро. Его даже видели в этом наряде на главной улице. Все вокруг повторяют его реплику, что с каждым днем ему все труднее и труднее тягаться с той голубой фарфоровой вазой. По-моему, это блестяще.
Хаусмен. У нас в Бромсгроуве была голубая фарфоровая масленка, мы на нее и внимания не обращали. Отличная гонка! Эх, Сент-Джон продул!
Джоуитт. Когда я приехал в Оксфорд, мне было восемнадцать. Шел тысяча восемьсот тридцать пятый год, и Оксфорд выглядел весьма бесславно. Образование почти не затрагивало жизни университета. Учебу оттеснили на задворки и в кельи: так, должно быть, паписты проповедовали в елизаветинских домах. Члены советов не имели в обществе никакого веса. Казалось, их полностью обезоружил исторический процесс, который отдал студентов в руки добродушных священников, ожидавших назначения в сельские приходы. Мне не в чем упрекнуть тогдашний студенческий сброд – обычные дебоширы и лодыри. Великая реформа пятидесятых заложила основу образованного класса, который простер нравственный и общественный порядок на те части света, где – приведу один лишь пример – прежде не слыхивали о моем Платоне.
Паттисон. Великая реформа превратила нас в базарную толкучку. Железная дорога доставляет сюда дураков, а после их же вывозит – с плацкартой для большого мира.
Джоуитт. Если современный университет и существует, то лишь с согласия большого мира. И мы обязаны выпускать людей, готовых к жизни в этом мире. Что подаст им пример, как не классическая древность? Нигде идеалы морали, искусства и общественного порядка не воплощались гармоничнее, чем в Греции в эпоху великих философов.
Рёскин. Не считая мужеложства.
Джоуйтт. Не считая мужеложства.
Пейтер. Собственно, Италия в конце пятнадцатого века… Нигде идеалы искусства, морали и общественного порядка не воплощались гармоничнее, не считая морали и общественного порядка.
Рёскин. Средневековая готика! Средневековые готические соборы были великими двигателями искусства, морали и общественного порядка!
Паттисон (в игре). Очко. Ваш удар.
Пейтер. Средневековье прикоснулось и ко мне, но его время – и мое к нему почтение – прошло. Сегодня меня к Средним векам и калачом не подманишь. Эти ваши кустарные промыслы, они полезны для народа; без них Liberty's был бы под угрозой краха, его попросту закрыли бы. Но все-таки истинный дух эстетизма восходит к Флоренции, Венеции, Риму – не считая Японии. Этот дух рельефно проступает у микеланджеловского Давида – не считая паха. Самая голубизна моего галстука утверждает, что мы все еще живем в ту революционную эпоху, когда человек вновь стал властен над своей природой и произвел на свет итальянское Возбуждение.
Паттисон. В смысле, Возрождение. Равный счет.
Пейтер. На фресках Санта Мария делла Грацие, на расписном своде Святого Панкраца…
Паттисон. В смысле, Петра. Если не ошибаюсь, вы блокировали мяч.
Входит Джексон в костюме для гребли.
Хаусмен. Хорошо ты греб, Джексон! Нас все-таки обошли на корпус.
Джексон. Поразительное дело. Подходит ко мне парень в бархатных бриджах, этакая штучка из мюзик-холла, и говорит, что желает высказать восхищение моим коленом. Я с достоинством отвечаю: «Благодарю вас, но хотя мое имя – Мозес, я не из колена Израилева и не могу принимать похвалы за чужой счет». Он говорит: «Оставьте шутки на мою долю, ради них меня держат в Оксфорде. Я видел вас в Торпидс, ваше левое колено – это поэма».
Поллард. А ты что сказал?
Джексон. Естественно, спросил, не гребец ли он. Он сказал, что садился за весла в Магдалине, но так и не смог понять, зачем ему каждый вечер спускаться в Иффли задом наперед, и оставил это занятие. Теперь он не признает игр на свежем воздухе, кроме домино; а в домино на свежем воздухе ему приходилось играть во французских кафе. Я думаю, он знаете кто?
Поллард. Кто?
Джексон. Один из этих эстетов.
Уходят.
Рёскин. Совесть, вера, дисциплина самообуздания, преданность природе – все христианские добродетели, давшие нам собор в Шартре, живопись Джотто, поэзию Данте, – были обряжены в радужное тряпье ради сиюминутных страстей.
Пейтер. В раннем Рафаэле, в сонетах Микеланджело, в Корреджо, в его мальчике с лилиями из Пармского собора и, отдаленно, в моем галстуке – мы чувствуем аромат, как лучше выразиться…
Паттисон. Калача.
Пейтер. Калача? Нет… аромат утонченного и благовидного язычества, которое освободило красоту из склепа христианского сознания. Возрождение учит нас, что книгу познания должно не затверживать на память, но писать наново, с восторгом проживая каждое мгновение ради самого мгновения. Поддерживать такой восторг, всечасно гореть этим твердым самоцветным пламенем – значит достичь всего.
Обзавестись привычками – значит потерпеть крах. Гореть самоцветным пламенем можно, лишь чутко улавливая каждый миг – ради самого этого мига. Обрастая привычками, мы упускаем мгновения своей жизни. Как увидеть эти мгновения? Как запастись не плодами опыта, а самим опытом…
Джексон бежит в нашу сторону, не приближаясь. Игра уводит со сцены Рёскина и Паттисона.
…как удержать явленную в мгновении изощренную страсть, причудливый цветок, искусство – или лицо друга? Ибо упускать мгновения в нашем кратком дне зноя и стужи – все равно что спать до заката. Принятая мораль, которая требует пожертвовать хоть одним из таких мгновений, не имеет на нас прав. Любовь к искусству ради искусства не ищет себе наград, она лишь придает высочайшую ценность мгновениям нашей жизни – ради этих мгновений.
Джоуитт. Мистер Пейтер, вы не могли бы уделить мне одно мгновение?
Пейтер. Разумеется! Сколько вам будет угодно!
Прибегает запыхавшийся Джексон. Хаусмен встречает его с часами в руках. Джексон бессильно опускается на скамейку. Хаусмен держит самодельный «лавровый венок». Он беспечно коронует Джексона.
Хаусмен. Одна минута пятьдесят восемь секунд.
Джексон. Что?
Хаусмен. Минута пятьдесят восемь, ровно.
Джексон. Ерунда какая.
Хаусмен. Или две пятьдесят восемь.
Джексон. Тоже ерунда. Сколько была первая четверть?
Хаусмен. Я забыл посмотреть.
Джексон. А что же ты делал?
Хаусмен. Смотрел на тебя.
Джексон. Дубина!
Хаусмен. А почему не может быть минута пятьдесят восемь?
Джексон. Мировой рекорд на полмили больше двух минут.
Хаусмен. А, да?… Мои поздравления, Джексон.
Джексон. Что только из тебя выйдет, Хаус?
Джексон снимает венок и, уходя, оставляет его на скамейке. Хаусмен берется за книгу.
Хаусмен. Вот что из меня вышло.
Пейтер. История была непомерно раздута, она, если угодно, обрела размах в вашем пересказе, но при всем том письмо, подписанное «Ваш любящий»…
Джоуитт. Несколько писем, к тому же адресованных студенту.
Пейтер. Несколько писем, подписанных «Ваш любящий» и адресованных студенту…
Джоуитт. Баллиоля.
Пейтер. Даже студенту Баллиоля, – еще не доказывают факт связи, они не обнаруживают даже намека на сношения, по сути…
Джоуитт. Письма от наставника, сэр, члена совета чужого колледжа, с благодарностью за отвратительный сонет!\
Пейтер. Короче говоря, доктор Джоуитт, вы чувствуете, что я преступил границу дозволенного.
Джоуитт. Я чувствую, мистер Пейтер, что письма студенту, подписанные «Ваш любящий», с благодарностью за сонет о медовых устах и быстрых бедрах Ганимеда могут быть истолкованы фатальным для университетских идеалов образом, даже если обсуждаемый студент не был бы известен под прозвищем Баллиольский педик.
Пейтер. Вы меня поражаете.
Джоуитт. Баллиольский педик, я убежден.
Пейтер. Нет, нет, я поражен тем, что вы не считаете возможным истинно платонический обоюдный пыл.
Джоуитт. Платонический пыл, если уж речь зашла о Платоне, есть пыл, который опустошит частные школы и наполнит тюрьмы, не подави мы его в зародыше. При переводе «Федра» мне понадобилась вся моя ловкость, чтобы перефразировать описание педерастии в ту уважительную привязанность, каковая приличествует англичанину и его жене. Платон сам совершил бы эту перестановку, приведись ему заправлять Баллиолем.
Пейтер. И все же, Мастер, никакой ловкости не отменить любви к мальчикам как приметы общества, почитаемого нами за наиблестящее в истории культуры, превосходящего в нравственном и умственном отношении сопредельные нации.
Джоуитт. Вы крайне добры, но один студент у нас погоды не делает; я написал отцу, чтобы его забрали. (Хаусмену, который появляется с новой книгой.) Складывайте вещи, сэр, и убирайтесь! Пагуба, которая принизила славу Греции, не возобладает над Баллиолем!
Пейтер (уходя, Хаусмену). Это долгая история, но время все расставит по местам.
Хаусмен. Я – Хаусмен, сэр, из Сент-Джона.
Джоуитт. В таком случае я отказываюсь понимать, почему я к вам обратился. Кто ваш наставник?
Хаусмен. Я посещаю мистера Уоррена из Магдалины трижды в неделю.
Джоуитт. Да, верно. Уоррен – выпускник Баллиоля, он говорил о вас. Он думает, что вы на многое способны.
Хаусмен. Правда, сэр?
Джоуитт. Если вы сумеете отказаться от своей легкомысленности и цинизма и найдете другой способ избавиться от ирландской провинциальности, кроме как отпускать жеманные замечания о фарфоровых вазах и расхаживать в бриджах сливового цвета, что вы и так не делаете, и острижете волосы – вы ведь не тот, правда? Оставим. Что у вас там? О, «Катулл» Мунро. Я видел его у Блекуэлла. Целый океан Мунро и драгоценная капля Катулла. Поразительно, за что люди платят четыре шиллинга и шесть пенсов. Катулл в вашем списке для чтения?
Хаусмен. Да, сэр, «Свадьба Пелея и Фетиды».
Джоуитт. Катулл, шестедят четыре! Первая сцена достойна кисти лорда Лейтона! Цвет юношей Аргоса, горя поимкой золотого руна, пенит волны лопастями из сосны. Первый корабль отправляется бороздить океан! «И дикие лица нереид всплывали из белых пенистых вод – emerserefericandentiе gurgitevultusaequoreae, – глядя изумленно на это зрелище – monstrumNereidesadmirantes.
Хаусмен. Да, сэр. Точнее, freti.
Джоуитт. Что?
Хаусмен. Мунро согласен, что feri – это ошибка. Должно быть freti, сэр, поскольку vultus в аккузативе.
Джоуитт. Согласен с кем?
Хаусмен. Ну, со всеми.
Джоуитт. Со всеми, кроме Катулла. Филологи сказали свое слово. Долой дикие лица, выплывающие в номинативе. Да здравствует переходный глагол emersere, возносящий аккузативные неквалифицируемые лица над белыми пенистыми водами freti, чего-то водяного вроде канала. Ничего, что у нас переизбыток водных слов, пусть будет еще и канал, – вот, пожалуйста, «fretiвместо feriпредставляет собой несложное исправление, так как описки в буквахr, t, tr, rtчаще прочих отмечаются в рукописных текстах». Что ж, это право Мунро – соглашаться со всяким, кто правит рукописи Катулла по своему вкусу и называет такую правку конъектурой. Это пустое занятие пригодно для того, чтобы заполнять досуг профессоров Кембриджского университета. Но вы, сэр, не для того ходите по земле с оксфордской стипендией, чтобы морочить себе голову тем, написал Катулл в таком-то месте ut, или et, или out, или ничего; подделана или искажена такая-то его строка или, напротив, она являет нам авторский гений. Вы здесь для того, чтобы принимать античных авторов, какими они вышли от почтенного английского издателя, и изучать их, пока вы не сможете писать их размером. Без умения писать стихи на латыни и греческом как вы можете надеяться принести миру хоть какую-то пользу!
Хаусмен. Но разве нет пользы в том, чтобы установить, что на самом деле писали античные авторы?
Джоуитт. В общем и целом это было бы скорее желательно, чем нежелательно; и работу эту успешно проделали, где только возможно, добротные ученые, которых уже лет сто как нет. В остальном определенность возникнет, только если отыщется автограф. Не далее как сегодня утром у меня была причина отдать машинистке автограф письма, написанного мной отцу некоего студента. Копия, возвращенная мне, гласила, что Мастер Баллиоля принужден исполнить свой тяжкий долг и заклеймить противоестественный порог. Иными словами, каждый, кто имел дело с секретарями, знает, что слова Катулла были искажены уже тогда, когда двое переписчиков закончили свои списки, то есть приблизительно ко времени первого вторжения римлян в Британию, а ведь самый ранний из известных нам списков появился примерно на полторы тысячи лет позднее. Вообразите всех этих секретарей! Ошибка тянется за ошибкой с папируса на папирус и с последних крошащихся свитков переносится на первые новомодные пергаменты, чтобы повторяться еще тысячу лет; рукопись без единой запятой шла сквозь строй переменчивых график и правописаний, не говоря уж о плесени, крысах, пожарах, наводнениях и церковниках, скорых на суд и расправу; так слова Катулла и кочевали от переписчика к переписчику – тот пьян, этот дремлет, третий небрежен, а те, кто трезв, бодр и дотошен, – либо невежды в латыни, либо, что страшнее, почитают себя латинистами почище Катулла, – пока в долгожданном конце цепочки, подобно вернувшемуся домой битому и трепаному псу, на порог итальянского Возрождения не рухнул единственный живой свидетель тридцати поколений небрежности и глупости – Codex Veronensis Катулла, который тоже был утерян почти моментально, но не раньше, чем его скопировали, дав ошибкам последнюю лазейку. Здесь-то стихи Катулла и приняли вид, в каком их увидел первый печатник-венецианец четыреста лет назад.
Хаусмен. Где, сэр?
Джоуитт (указывает). Вот здесь.
Хаусмен. Вы хотите сказать, сэр, что рукопись здесь, в Оксфорде?
Джоуитт. Ну да. Потому ее и называют Codex Oxoniensis. Один немецкий ученый совсем недавно осознал все значение кодекса и положил Oxoniensisв основу своего издания Катулла. Мистер Робинсон Эллис из Тринити-колледжа обнаружил существование кодекса несколькими годами раньше, но, увы, не оценил, насколько он важен. Поэтому эллисовское издание Катулла отмечено лишь тем, что, на беду, игнорирует открытие собственного составителя.
Входит Эллис с самокатом, он играет ребенка, в руках – леденец на палочке. При этом одет не по-детски.
Вот тебе и на, Эллис! Забыл про свой Oxoniensis!
Произведения
Критика