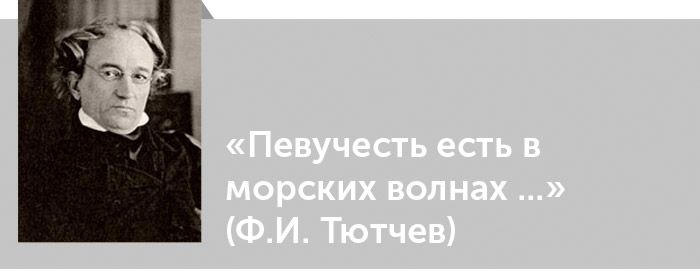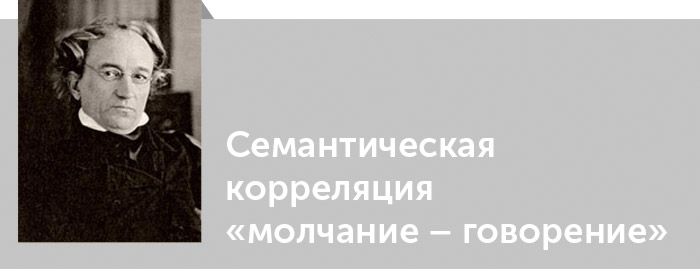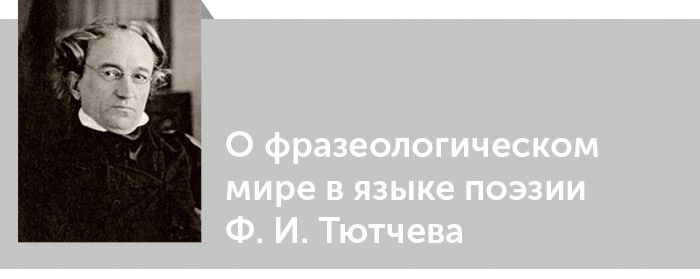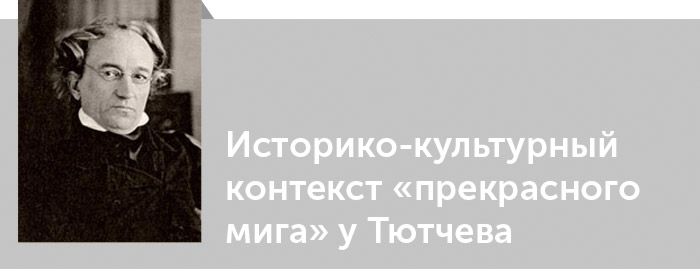Тютчев в отечественной поэзии, мысли и истории

В.В. Кожинов
Еще сравнительно недавно Тютчев представал в общественном сознании в качестве «поэта для немногих», создавшего глубокие по смыслу, но обращенные главным образом к узкому кругу ценителей «философские» (или даже еще более «специальные» — «натурфилософские», т.е. воплощающие философию природы) стихотворения.
К тому же в большинстве аналитических рассуждений о Тютчеве его творчество пытались истолковать прежде всего как своего рода поэтическое переложение идей германской философии конца XVIII — начала XIX в., что как бы бесспорно подтверждалось уже самим фактом столь долгой (1822-1837) дипломатической службы Тютчева в Германии. Да, как ни прискорбно, во многих считающихся основательными статьях о тютчевской поэзии она преподносится в виде неких образных вариаций, разыгрываемых на темы Шеллинга и других германских мыслителей того времени...
Нет сомнения, Тютчев прекрасно знал и высоко ценил и философию, и тесно связанную с нею поэзию Германии того времени. Однако едва ли есть смысл исходить из этого при уяснении своеобразия его творчества. Те, кто идут по этому пути, «забывают» о совершенно исключительной роли философии Германии в мировой, и в том числе (и даже в особенности) русской, культуре 1820-1840-х гг. В русле этой философии как бы проходил на рубеже XVIII-XIX вв. стержень развития культуры в целом (отмечу, что позднее, во времена Достоевского, Толстого, Чехова, таким стержнем являлась литература России, которая в XX в. оказала огромное воздействие на мировую культуру). И связь тютчевского творчества с германской философией была естественна и, в сущности, неизбежна. Очень многие современники Тютчева (притом самые разные по своим убеждениям) — Чаадаев и Иван Киреевский, Веневитинов и Хомяков, Владимир Одоевский и Шевырев, Герцен и Белинский, Тургенев и Аполлон Григорьев и т.д. — испытывали подчас более сильное воздействие философии Германии, чем Тютчев!
Пушкин, чье творчество сформировалось раньше, чем выявилась, стала общим достоянием эта первостепенная культурная роль Германии, поначалу даже, можно сказать, сопротивлялся новой «волне», но в конце жизни с присущим ему всепониманием принял как должное, что отечественная поэзия, по его словам, «более и более дружится с поэзией германскою и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики» (под «публикой» имелся в виду, несомненно, круг «средних», «заурядных» читателей).
Нельзя не сказать еще и о том, что долгое пребывание Тютчева в Германии дало ему возможность всесторонне воспринять ее философскую культуру, и он ранее, чем кто-либо из его современников, оценил эту культуру трезво и критически хорошо известно, например, что он уже на рубеже 1820-1830-х гг. существенно оспаривал идеи Шеллинга, с которым многократно беседовал в Мюнхене.
Многие, даже выдающиеся русские люди эпохи Тютчева (да и, конечно, в более поздние времена) смотрели на Германию и Запад в целом «снизу вверх»; это относится и к таким людям, которые критиковали и, более того, проклинали Запад, но делали это в своего рода бессильной ревности. Тютчев же с молодых лет вел и дружественный диалог, и острый спор с Западом на равных...
Обо всем этом необходимо было упомянуть в начале разговора о Тютчеве, в частности и потому, что по сей день еще достаточно широко распространено представление, согласно которому Федор Иванович как бы «не вполне русский» поэт, слишком, мол, тесно связанный с культурой Германии (и Запада вообще) и к тому же слишком многие годы проживший вне России.
Но, внимательно вглядываясь в творчество (и в стихах, и в прозе) и самую жизнь Тютчева, нельзя не прийти к выводу, что для него это «испытание чужбиной» имело, по сути дела, противоположные последствия: его понимание России и его любовь к ней только возрастали и углублялись. Да и вообще можно привести многочисленные доказательства в пользу своего рода закономерности: для людей высшего и подлинно творческого склада любые, даже самые «неблагоприятные», обстоятельства жизни чуть ли не чудесным образом оказываются, напротив, плодотворными: вспомним хотя бы о ссылках Пушкина или о каторге Достоевского, без которых не явились бы многие их ценнейшие свершения... И творчество Тютчева убеждает, что долгая разлука с родиной, при всех возможных оговорках, не только не обеднила его, но и принесла ценные плоды. Между прочим, сам Тютчев писал в 1844 г., после более чем двадцатилетнего пребывания на Западе: «Поистине Россия хорошая страна и хороший народ, но, дабы говорить это с полным убеждением, следует знать заграницу так, как я ее знаю».
* * *
В силу только что изложенных и ряда других причин место Тютчева в отечественной поэзии не совсем ясно, не вполне очевидно, хотя он и обладает сегодня, без сомнения, поистине всенародной известностью и признанием. Меру ценности творчества поэта (и, конечно, деятеля искусства, художника вообще), впрочем, и нельзя определить с математической точностью, взвесить на каких-нибудь безупречных весах. Но существуют суждения, вердикты, вынесенные верховными авторитетами в сфере искусства и мысли, подтверждаемые затем в каждом новом поколении и обретающие с определенного момента такую неоспоримость, которую не могут уже поколебать никакие «еретические» возражения. Скажем, вплоть до наших дней предпринимаются попытки так или иначе «умалить» Пушкина, но они давно уже предстают, в сущности, как попытки тех или иных авторов обрести «Геростратову славу» — и только.
В богатом наследии русской поэзии XIX в. достаточно прочно утверждены, помимо Пушкина, вершинные имена: Тютчев, Лермонтов, Некрасов и, правда, пока еще менее «общепризнанное» имя — Афанасий Фет.
Разумеется, Пушкин всегда стоит впереди, но были времена, когда революционные, или либеральные, или «народнические» судьи возносили Некрасова «выше» Пушкина. Впрочем, это чисто идеологическая проблема; дело шло, в сущности, не о творческом, не о собственно поэтическом «превосходстве».
Далее, и в давние, и в наши дни были и есть люди, которые отстаивают «первенство» (в том числе и над самим Пушкиным) Лермонтова, но это чаще всего юные — или же сохранившие до зрелых лет юное мироощущение — люди, покоряемые гениальной проникновенностью погибшего в двадцатишестилетнем возрасте поэта, который, помимо прочего, с необъяснимой чуткостью постоянно предвидел свою столь раннюю смерть...
Что же касается Тютчева, то его на одну ступень с Пушкиным или же сразу вслед за ним ставили такие авторитетнейшие ценители, как Некрасов, Достоевский и Фет, а Толстой, более того, превознес его над Пушкиным, утверждая, что Тютчев «глубже», даже «несравненно глубже» (хотя Пушкин — «шире»). Но для Льва Николаевича вообще характерны идущие «против течения» высказывания, и истина, надо думать, в том, что Тютчев в ценностной иерархии отечественной поэзии занимает место непосредственно за Пушкиным (имея в виду, понятно, лирическую поэзию, ибо пушкинское поэтическое наследие, действительно, намного шире).
Можно бы назвать немало самых авторитетных имен людей, разделявших это убеждение, и есть достаточные основания утверждать, что с ним согласился бы... сам Пушкин, который в последние месяцы своей жизни проявил поистине исключительное восхищенное внимание к тютчевской поэзии (встречающиеся в литературе рассуждения о якобы чуть ли не холодном отношении Пушкина к этой поэзии — абсолютно ни на чем не основанная, рассчитанная на своего рода дурную сенсационность легенда).
Летом 1836 г. в руках Пушкина оказались (впервые) доставленные из Германии двадцать пять стихотворений почти никому еще неведомого Тютчева, и он тут же решил опубликовать их в двух номерах издаваемого им журнала «Современник», который был тогда для него едва ли не главным делом. Притом в первом из этих номеров журнала шестнадцать — беспрецедентно много для тогдашних журналов! — тютчевских стихотворений были напечатаны на начальных 18 страницах — как самое ценное, самое важное. При этом необходимо учитывать, что с тютчевскими стихотворениями сначала познакомились два «члена редколлегии» пушкинского журнала, Жуковский и Вяземский, и решили, что следует опубликовать всего 5-6 стихотворений.
И пожалуй, особенно ярко свидетельствует о высокой оценке Пушкиным тютчевской поэзии следующий факт. В одном из стихотворений Тютчева («Не то, что мните вы, природа...») цензура выбросила два четверостишия, и Пушкин потребовал заменить их восемью рядами точек, чтобы читатели как-то чувствовали «недостающее»; он заявил цензору, что эти точки «нужны для сбережения литературного достоинства» тютчевского стихотворения. Цензор решительно протестовал, но Пушкин все же настоял на своем, хотя это означало опасный для него как издателя журнала конфликт с цензурой...
В этом пушкинском поступке естественно видеть проявление самого высокого уважения к поэзии Тютчева. И между прочим, из-за хорошо известного тютчевского небрежного отношения к своим рукописям автограф данного стихотворения не сохранился, и оно так и публикуется по сей день с поставленными Пушкиным точками...
Итак, высшую ценность тютчевской поэзии первым признал — самим своим поведением как издателя журнала — Пушкин, а вслед за ним Некрасов, Достоевский, Фет и Толстой. И, называя вершинные явления отечественной поэзии, воплотившие предельно глубокий и богатый смысл в предельно совершенном слоге или, как чаще обозначают, стиле, правильным будет начать так: Пушкин, Тютчев...
Правда, есть немало людей, которые предпочтут начать по-иному: Пушкин, Лермонтов и уж затем Тютчев. Но такое предпочтение нередко объясняется тем, что все высшие творения Лермонтова известны каждому, ибо, во-первых, их не так уж много — около шести десятков (зрелый период творчества поэта длился, увы, всего лишь четыре-пять лет), а во-вторых, по сложившейся традиции почти любое собрание лермонтовских сочинений (в отличие от других поэтов) открывается именно этими сравнительно немногочисленными зрелыми творениями (более половины из них одобрил для печати сам автор, Лермонтов!).
Между тем в собраниях сочинений других крупнейших поэтов, и в том числе Тютчева, наиболее ценное читатель вынужден найти и избрать сам, что не каждому удается. Мне могут возразить, что есть ведь и издания избранных стихотворений Тютчева. Но в подобных изданиях (так уж сложилось) представлены прежде всего и главным образом «натурфилософские» стихотворения, представляющиеся обращенными к разуму, к мысли, а не к цельной жизни человеческой души, воплощением которой покоряют и поистине пронзают многие лермонтовские стихотворения.
Правда, находится в центре внимания также ряд стихотворений Тютчева, порожденных его отмеченной трагическим духом поздней любовью, но здесь перед нами словно бы иная крайность: эта часть тютчевского наследия воспринимается многими скорее как «человеческие документы», как своего рода дневник, чем собственно поэтические творения. Если лирика Лермонтова — в том числе и связанная с темой любви — для каждого ее читателя оказывается воистину «своей», а личность читателя, можно сказать, полностью сливается с личностью поэта, то тютчевский «роман в стихах» (как нередко называют «денисьевский цикл») в значительно меньшей степени порождает такого рода слияние. Для этого, в частности, потребен тот особенный жизненный опыт, который выражен в тютчевском:
О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней...
* * *
Итак, достоянием широких читательских кругов являются, с одной стороны, многие «натурфилософские» стихотворения Тютчева, обращенные, казалось бы, только к одной стороне нашего существа — к сфере мысли, а с другой — глубоко своеобразные стихотворения о «последней любви». Такое представление о тютчевском поэтическом наследии сложилось давно и, в сущности, сохраняется до сих пор. Но есть основания утверждать, что Тютчев — в отличие от Лермонтова — по-настоящему еще «не прочитан», не усвоен. Его поэзия многообразна, многогранна и — что наиболее важно, — только освоив ее во всей ее всесторонности и цельности, можно действительно глубоко воспринять и «натурфилософию», и стихотворения о драме последней любви. Прежде всего стоит сказать, что в наследии Тютчева есть стихотворения, которые своим проникновенным лиризмом или, выражаясь попросту, задушевностью, по сути дела, родственны лермонтовской поэзии. Но эти стихотворения не столь уж широко известны, ибо в более или менее полных изданиях поэтического наследия Тютчева (а в таких изданиях содержится около 400 стихотворений) они как бы теряются, читатель часто «не доходит» до них, а в «Избранное» они подчас вообще не включаются.
Назову, например, следующие тютчевские стихотворения: «Когда в кругу убийственных забот...» (1849), «Так, в жизни есть мгновения...» (1855), «Успокоение» («Когда что звали мы своим...») (1858), «Я знал ее еще тогда...» (1861), «При посылке Нового Завета» («Не легкий жребий, не отрадный...») (1861), «А.В. Плетневой» («Чему бы жизнь нас ни учила...») (1870), «Памяти М.К. Политковской» («Многозначительное слово...») (1872), «Бессонница» («Ночной порой в пустыне городской...») (1873) и др.
Мне представляется, что самые преданные поклонники Лермонтова, в глазах которых Тютчев уступает их любимцу из-за своей — могущей быть воспринятой как нечто в той или иной мере оторванное от цельной живой жизни души — «философичности», углубившись хотя бы в перечисленные тютчевские стихотворения, смогут изменить свое мнение о поэте, слишком уж прочно втиснутого в рубрику «философской поэзии». Хотя, разумеется, эта квалификация небезосновательна, она в конечном счете принижает Тютчева: ведь неизбежно создается впечатление, что поэзия как таковая, поэзия сама по себе должна при разговоре о наследии Тютчева получить еще некое подкрепление в виде определенной «добавки» — «поэт плюс философ».
В России были поэты-философы в точном значении слова — например, Ломоносов, Владимир Соловьев, Александр Чижевский, про которых можно сказать, что философия в их стихах играет, пожалуй, даже большую роль, чем поэзия в собственном смысле. Но Тютчев равно велик и в тех — кстати, весьма многочисленных — своих стихотворениях, которые никак не отнесешь к «философским».
* * *
Нетрудно предвидеть, что спор об «иерархии» крупнейших отечественных поэтов будет продолжаться, но не исключен и такой вопрос: а стоило ли вообще заводить подобный спор? Однако в его основе лежит очень существенный момент, которого я еще не касался. Дело в том, что поэзия Лермонтова обрела самое широкое и высокое признание гораздо раньше, нежели тютчевская, — уже в 1840-х гг. Решающую роль сыграл в этом самый влиятельный в России критик — Виссарион Белинский, который, вместе с тем, Тютчева «не заметил» вообще (он только упоминал раза три его имя в длинных списках различных стихотворцев). Лермонтов стал даже своего рода знаменем того направления в критике и идеологии в целом, к которому принадлежал и которое в значительной мере возглавлял Белинский, а также его последователи, т.е. либеральные или открыто революционные идеологи, господствовавшие с 1840-х гг. в России, ибо в стране неотвратимо назревала грандиозная революция.
Тютчев же, несмотря на то что его исключительно высоко ценили такие люди, как Достоевский и Толстой, вплоть до последнего времени представал в общественном сознании в качестве пусть даже и даровитого, но все же «второстепенного» поэта.
Так, скажем, в изданной в 1930-х гг. энциклопедии даны следующие определения: Пушкин — «величайший» поэт, Лермонтов — «гениальный», Некрасов — «один из крупнейших», а Тютчев (как и Фет) — просто «поэт». Это, вполне естественно, находило свое выражение в издательской практике: так, в 1930-х гг. вышло несколько десятков книг Лермонтова и всего несколько — Тютчева; тиражи первых доходили до 300 тыс. экземпляров, а вторых — не превышали 15 тыс. (т.е. в двадцать раз меньше!). Положение изменилось лишь не так давно — в 1970-1980-х гг., когда вышло около двух десятков изданий стихотворений Тютчева тиражами от 100 до 600 тыс. экземпляров каждое.
Важно осознать, что эти могущие показаться скучными цифровые данные на самом деле очень многозначительны. Они неоспоримо свидетельствуют о том, что отечественная культура в ее высших проявлениях медленно, но все же так или иначе утверждалась в стране и в те времена, которые сегодня многие стремятся объявить «бесплодными». Но, конечно, наиболее существенно в данном случае свидетельство о своего рода «победе» самого Тютчева. Общеизвестны написанные Тютчевым за несколько лет до кончины (и не опубликованные им) строки:
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется...
Ныне его слово «отзывается» так, как в самом деле едва ли кто мог предугадать в те уже далекие времена. Но провидческая душа поэта в этих строках все же ведь предполагает возможность непредугадываемого мощного отзыва на свое слово...
Думаю, есть основания увидеть размышление о судьбе своей поэзии (пусть хотя бы косвенное или даже вообще неосознанное) в очень своеобразном тютчевском стихотворении, впервые опубликованном Пушкиным:
Душа хотела б быть звездой, Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи, Глядят на сонный мир земной, —
Но днем, когда, сокрытые как дымом Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей В эфире чистом и незримом.
Душа, подобная звезде, которая днем, при солнце горит светлей, чем знакомые всем звезды на полуночном небе, однако, остается для всех незримой... В определенном смысле это можно сказать о судьбе тютчевской поэзии — поэзии, столь долгое время остававшейся, несмотря на весь излучаемый ею свет, незримой для общества в целом...
Миллионы тютчевских книг, разошедшихся по России в 1970-1980-х гг., — это неоспоримое доказательство «зримости», обретенной наследием поэта.
* * *
Во многих рассуждениях о поэзии Тютчева утверждается, что он-де творил чуть ли не только для самого себя, что он замкнут в своих сугубо индивидуальных мыслях и переживаниях. В качестве вроде бы несомненного доказательства ссылаются на тютчевское стихотворение «Молчание!», где сказано, в частности:
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.
Но смысл этого стихотворения, как я еще постараюсь показать, воспринимается неверно, искаженно.
Бесспорно, что Тютчев стремился воплотить в своей поэзии высшие взлеты мысли и тончайшие оттенки переживаний, и для полноценного восприятия его творчества необходимы глубокое и напряженное внимание, особенная активность разума и души читателя. Но заведомо ложны рассуждения о том, что Тютчев якобы обращал свою поэзию к некоему узкому кружку «ценителей», «знатоков».
Размышляя о величии своего старшего современника, Гёте, он написал:
На древе человечества высоком Ты лучшим был его листом...
И тут же объяснил, почему именно «лучшим»:
С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал! — т.е. творил для всех и каждого...
Наивысшую ценность Тютчев видел в наслаждении, которое «испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в сочувствии ближнего».
Тот, кто открывает свой разум и душу тютчевским стихотворениям, в конце концов испытывает чувство подлинного родства с поэтом. И очень важно, как мне представляется, обратить внимание на одну, казалось бы, чисто формальную, но в действительности полную смысла черту тютчевской поэзии.
Перед нами лирика в собственном значении слова, лирика, в которой, как правило, автор говорит от первого лица в единственном числе — от «я». Но очень многие стихотворения Тютчева, хотя это может даже показаться странным, написаны не от «я», но от «мы». Примеры можно приводить без конца:
И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены...
Когда, что звали мы своим, Навек от нас ушло...
Как нас ни угнетай разлука, Не покоряемся мы ей.
Самое удивительное, что это «мы» присутствует даже в любовной лирике поэта!
О, как убийственно мы любим...
Или:
Нежней мы любим и суеверней...
Внимательно вглядываясь в стихотворения Тютчева, нетрудно во множестве из них обнаружить этот своего рода отказ от «я». Ибо он воплощается не только в непосредственной замене привычного для лирики «я» на «мы», но и в иных языковых формах, например в обращении к «ты» либо «вы»:
Чем ты и дышишь и живешь...
Или:
Над вами светила молчат в тишине...
Здесь, в сущности, скрытое «я» поэта сливается с «ты» (либо «вы»), образуя это же самое «мы», т.е. все и каждый вместе со мной... В различных формах и оттенках смысла слияние «я» и всех «других» является в тютчевской поэзии в целом. И в ее целостном мире знаменитое «Молчание!», которое многие толковали как стихотворение о некой роковой, фатальной разобщенности человеческих душ, предстает совсем по-иному.
Тютчев и в нем обращается к «ты» (хотя самого этого местоимения нет):
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои — Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне...
И далее:
Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум...
Таким образом, поэт говорит «тебе» — разумеется, каждому «тебе» (т.е. и лично тебе, читатель!) — о живущей в тебе «душевной глубине», где содержится «целый мир». Этот мир таинствен и неповторим, и его действительно невозможно полностью, во всем его своеобразии ни «высказать», ни «понять» другому. Но, утверждает поэт, каждый из нас — и я, и ты, и он — могут и должны знать о самом существовании этого мира — и в моей, и в твоей, и в его душе! Словом, это стихотворение, в котором поверхностно мыслившие толкователи пытались усмотреть утверждение непреодолимой разобщенности людей, являет собой как раз нечто противоположное по смыслу. Тютчев говорит в нем каждому человеку: я знаю, что в твоей душевной глубине есть такой «таинственно-волшебный» мир, который нельзя высказать, но я дорожу им — как и миром своей души. На этом признании ценности «другого» (ценности, не могущей быть всецело понятой, но все же, безусловно, существующей) только и зиждется подлинное человеческое единение или, если выразиться высоким старинным словом, соборность.
* * *
До сих пор речь шла о месте Тютчева в отечественной поэзии, истинное представление о котором более или менее утвердилось в последние десятилетия. Но осознание роли Тютчева в историософии (т.е. философии истории) и во внешнеполитическом бытии (т.е. в одной из важнейших сторон самой истории) России только еще начинает складываться. При этом нельзя не отметить, что поэзия Тютчева (как и любая подлинная поэзия) так или иначе выражала в себе всю целостность его жизни и деятельности, и без пусть хотя бы самого общего, но верного представления об этой жизни и деятельности едва ли возможно воспринять и тютчевскую поэзию во всей полноте ее смысла.
Очень многим людям известен способный поразить диапазон жизненных связей Пушкина, который, например, состоял в дружеских отношениях с казненным вождем декабристов Кондратием Рылеевым и вместе с тем был достаточно близок с императором Николаем I. Предпринимались попытки осудить поэта за такую «раздвоенность». Однако Пушкин являл собой воплощение всей России в целом, а ведь ни Рылеева, ни Николая нельзя «вычеркнуть» из российской истории, и поэт призван был соединить в своем духе и творчестве обе, казалось бы, несоединимых стороны, как соединены в его гениальной поэме бедный Евгений и Медный всадник. Одна из известных статей о содержании творчества Пушкина небезосновательно называется «Империя и свобода».
Впрочем, все это хорошо известно. Но гораздо менее известно о подобной же «широте» в жизни Тютчева, который, скажем, в 1865 г. дружески обедал в Париже с лидером революционной эмиграции Герценом и в то же самое время имел столь личные отношения с императором Александром II, что целовался с ним при встрече... При этом следует знать, что Тютчев вместе с тем не раз весьма критически оценивал деятельность и Герцена, и императора.
В его слове и его деянии, в сущности, воплощались душа и воля России в целом, а не каких-либо отдельных слоев ее населения, отдельных ее сил, будь то правящие верхи или какая-нибудь «оппозиция», либералы или консерваторы, западники или славянофилы и т.п.
Общеизвестно, что личная жизнь Тютчева была не лишена глубокого драматизма, но его общественная, гражданская судьба представляется многим, даже высоко ценящим его, людям как нечто не очень уж значительное, не способное вызвать сильный и острый интерес. Сначала «неудачливый» (или даже «неспособный») дипломат, в течение почти двадцатилетней службы не снискавший сколько-нибудь влиятельного поста, а затем, до конца жизни, — чиновник в цензурном ведомстве Министерства иностранных дел (правда, при этом мало кто замечает, что Тютчев и с чисто формальной точки зрения был все же высоко оценен: за девять лет до кончины он был произведен в тайные советники — фактически второй чин в государственной иерархии).
Дело в том, однако, что главная политическая и даже собственно государственная деятельность Тютчева имела, по существу, «неофициальный» характер, была, если угодно (вспомним его строки о «дневной» звезде), незрима, и, чтобы выявить всю ее — надо сказать, первостепенную — значительность, требуются весьма сложные разыскания.
В качестве дипломата Тютчев не являл собой исправного чиновника, но его понимание политической ситуации в мире и коренных интересов России, как свидетельствуют дошедшие до нас документы, было подлинно глубоким и точным уже в конце 1820-х - начале 1830-х гг.
И Тютчев не нашел «признания» как дипломат не из-за тех или иных его «недостатков», но потому, что его политическая воля противоречила той линии, которую вел тогдашний министр иностранных дел Нессельроде, сознательно или бессознательно (это — по крайней мере, пока — не установлено достаточно убедительно) нанесший тяжелейший вред России, в сущности приведший ее к страшному поражению в Крымской войне 1853-1856 гг. (чтобы понять истинный смысл дипломатической судьбы Тютчева, следует знать, что Нессельроде в 1838 г. фактически изгнал со службы крупнейшего дипломата века Александра Горчакова, который также противоречил его политике).
Тютчев предвидел Крымскую войну еще с конца 1830-х гг. и стремился предотвратить катастрофу. Освободившись осенью 1839 г. по собственному желанию от должности первого секретаря миссии в Турине, он предпринимает различные усилия для того, чтобы, с одной стороны, «открыть глаза» Николаю I на надвигающуюся угрозу и, с другой — воздействовать на общественное мнение Запада. В 1843 г. ему удалось передать несколько своих «заметок» Николаю I через влиятельнейшего Бенкендорфа, и Тютчев получил разрешение на «неофициальную» внешнеполитическую деятельность. В 1844-1849 гг. он опубликовал (анонимно) в западной прессе ряд чрезвычайно существенных статей («Россия и Германия», «Россия и Революция» и др.), которые вызвали небывалый отклик: обсуждение их идей на Западе продолжалось (как выяснилось лишь в наши дни) более тридцати лет! — т.е. даже и после кончины Тютчева...
Новая эпоха в деятельности Тютчева началась в 1856 г., когда назначенный вместо Нессельроде министром иностранных дел Горчаков приблизил его к себе. И есть существенные доказательства, что с тех пор и до конца жизни Тютчев был главным советником Горчакова, определявшим или хотя бы корректировавшим многие основные внешнеполитические решения.
Есть много свидетельств того, что Тютчевым владели и потрясали его до глубины души не только личные, но и политические страсти, и, не чувствуя это, невозможно воспринять во всей полноте ни его поэзию, ни его самого как человека и гражданина.
Об этом ясно говорят историософско-политические сочинения Тютчева. По мере течения времени становится все более несомненным, что тютчевская историософия, запечатленная, в частности, в упоминавшихся сочинениях 1844-1849 гг., принадлежит к самому значительному и проникновенному из всего сделанного в этой сфере русской мысли.
Многое из высказанного полтора столетия назад Тютчевым нашло безусловные подтверждения в самом ходе истории позднее, вплоть до нашего времени; следует отметить также, что те или иные умозаключения Тютчева, казавшиеся необоснованными его современникам, впоследствии, уже в XX в. были полностью подтверждены в исследованиях видных историков — как отечественных, так и зарубежных.
Западные идеологи 1840-1870-х гг., несмотря на свою полемику (подчас весьма резкую) с Тютчевым, оценили его как «политического писателя» исключительно высоко. Так, один из германских публицистов в 1849 г. сообщал, что Тютчев «может составить себе общеевропейскую известность в качестве политического писателя — это зависит только от него самого (имелось в виду, что Тютчев будет продолжать писать. — В.К). «Ревю де Дю Монд» (влиятельнейший парижский журнал того времени. — В.К.) сравнивает его с Жозефом де Местром». Другой французский публицист выражал «чувства восхищения... к силе и точности его (Тютчева. — В.К.) мысли».
Это, конечно, не означает, что сбылись все тютчевские предвидения и что любой его тезис содержит истину. Но тем не менее историософско-политические сочинения Тютчева имеют первостепенную ценность, не говоря уже о том, что они тесно связаны с его поэзией, в которой немалое место занимают политические и историософские стихотворения, не могущие быть до конца понятыми вне соотнесения с этой тютчевской прозой.
После 1849 г. Тютчев не писал об истории и политике. Он публиковал статьи тогда, когда у него просто не было иного способа воздействия на самоё историю. Когда же он обрел определенные возможности для прямого участия в разработке внешнеполитического курса России, он стремился их реально осуществлять, что и воплощалось в бесчисленных «разговорах», письмах, большинство из которых открыто побуждало адресатов к действиям (так, изложив в письме свою «программу», Тютчев нередко обращался к адресату с настоятельной просьбой внушать его мысли тому или иному влиятельному государственному или общественному деятелю), и, наконец, в политических стихотворениях, ибо многих людей, утверждал Тютчев, «рифма еще способна убеждать». И те, кто стремятся понять Тютчева, должны увидеть в нем органическое единство: поэт, мыслитель, гражданин, политический деятель.
Источник: Русская словесность. – 1997. - № 2. –С. 23-31.