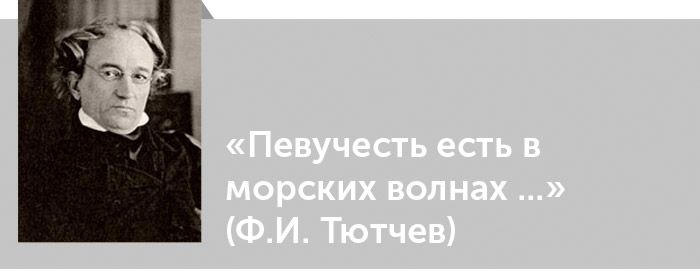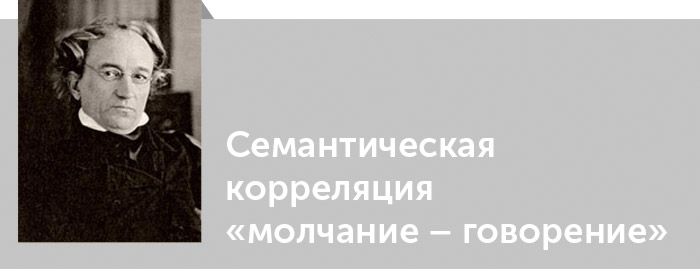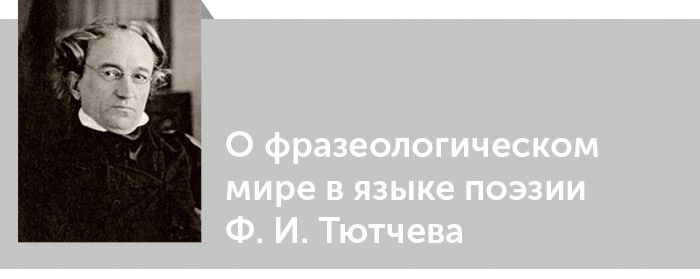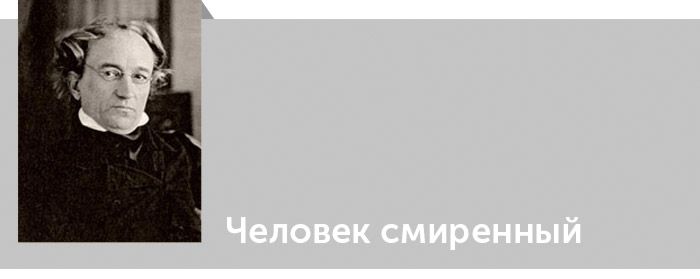Историко-культурный контекст «прекрасного мига» у Тютчева
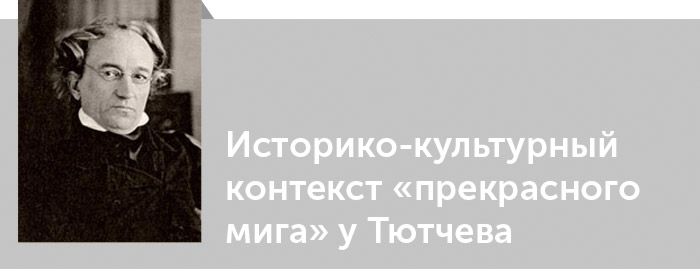
ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2015 № 16
УДК 821.161.1
Чикарькова М. Ю.,
кандидат филологических наук, доктор философских наук,
профессор кафедры философских и социальных наук
Черновицкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
Аннотация. В статье анализируется в широком историко-культурном контексте стихотворение Ф. Тютчева «Как неожиданно и ярко...». Автор доказывает, что перед нами художественное выражение «философии момента», в истолковании которого поэт опирается на библейскую концепцию времени и традицию Гете.
Ключевые слова: природа, бренность, философия момента, время и вечность.
Чікарькова М. Ю. Історико-культурний контекст «прекрасної миті» у Тютчева
Анотація. У статті аналізується в широкому історико- культурному контексті вірш Ф. Тютчева «Как неожиданно и ярко…». Автор доводить, що це художній вираз «філософії миті», у витлумаченні якого поет спирається на біблійну концепцію часу й традицію Гьоте.
Ключові слова: природа, тимчасовість, філософія миті, час та вічність.
Chikarkova M. Historical and cultural context of the «beautiful moment» Tyutchev
Summary. The article analyses a broad historical and cultural context of the F. Tyutchev’s poem «Как неожиданно и ярко ...». The author argues that this is an artistic expression «philosophy of moments» which is based by poet on the biblical concept of time and Goethe’s tradition.
Key words: nature, frailty, philosophy of a moment, time and eternity.
Постановка проблемы.
***
Как неожиданно и ярко
На влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла –
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его – лови скорей!
Смотри – оно уж побледнело,
Еще минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь, и живешь [1, с. 204].
Это стихотворение Тютчева – художественная попытка остановить прекрасное мгновение – представляется столь свежим и спонтанным, что кажется чуть ли не кощунственным ставить вопрос о каких-то его гносеологических, аксиологических или эстетических истоках. Тем не менее, строй чувств культурного человека весьма отличается от движений души какого-нибудь Ивана Бездомного, и мы приглашаем читателя совершить путешествие в области, которые Тютчеву, несомненно, были хорошо знакомы. А заодно и в те, о которых он не мог еще и подозревать.
Изложение основного материала исследования. Принято считать, что «философия мига» внедрена в наше сознание эпохой символизма: «Преодоление преходящего, бренного, сиюминутного пронизывает описание мига и вечности в поэзии Серебряного века. Миг воспринимается поэтами как око в вечность» [2, с. 15].
Вот уже много лет популярна песня из кинофильма об одном из героев fin de siècle, запоминающаяся строками: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Но, не говоря уже о том, что это как бы несправедливо по отношению к Тютчеву, мы впадаем в еще горшее заблуждение.
Ведь еще в IV веке св. Августин, соотнеся понятие времени с реальным мироощущением субъекта, сделал вывод: прошлое – ушло, неизвестное будущее – надвигается; мы живем в только вот этот данный миг, но и он тут же перестает быть настоящим и становится прошлым: следовательно, нужно научиться жить сейчас (т. н. «стрела времени»). Линейно-эсхатологическое мироощущение пришло на смену языческому представлению о времени как о бесконечной смене циклов, вечном возвращении на круги своя (именно с этим представлением полемизировал еще Экклезиаст, из которого мы обычно только его и извлекаем). Человеку, живущему в циклическом времени – от Эпикура до йогов, – ничего более не остается, как стараться избегать страданий, цепляться за удовольствия и надеяться на реинкарнацию (впрочем, Эпикур и без этой последней надежды обходился). Но чем наполнить этот миг – одним ли наслаждением? Когда философия Эпикура стала известна древнееврейским мудрецам, то слово эпикейрос стало у них синонимом слова свинья. Здесь телесно-чувственное, в общем, никак не принижалось – Тора тоже велит радоваться жизни! Но полагать материальное единственной ценностью…
К сионским мудрецам, похоже, все же примкнул не кто иной, как сам И.-В. Гете. Судите сами.
Фауст:
… Когда воскликну я: «Мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!» –
Тогда готовь мне цепь плененья,
Земля, разверзнись подо мной!
(Перевод Н. А. Холодковского)
Обывательским сознанием эти слова обычно воспринимаются как страх утраты способности наслаждаться: мол, лучше умереть на пике наивысшего чувственного содрогания! Умонастроение такого рода действительно культивировалось в окружавшем Гете стиле рококо, унаследовавшем гедонистическую установку от антично-ренессансной/классицистско- просветительской линии европейской культуры. Но именно рококо довело экстаз переживания чувственного блеска вещей до столь высокой точки кипения, что стиль этот исторг у некоего сохранившего благочестие аббата конца ХVIII века гневный возглас: «Декаданс!» («Вырождение!»). Слову этому суждено было будущее. Небезызвестный М. Нордау, врач-психиатр и один из отцов доктрины сионизма, попытается заклеймить им нарождающееся арт нуово. Кое-кому из литераторов, жаждущих лавров «проклятых поэтов», это весьма понравится, и, как отмечено в повести Чехова «Три года», в салонах 80-х годов ХІХ века заговорят о «декадентах»1. Словцо подхватит марксистско-ленинская критика, грезящая, как и Нордау, о великом. И с тех пор все сколько-нибудь свежее и жизнеспособное, равно как все глубокое и подлинно трагическое, в современной культуре будет носить клеймо «декадентства» почти сто лет.
Забавно, как неизменно в своих вкусах и пристрастиях мещанство всех времен и народов, с какой готовностью оно адсорбирует и обволакивает гламурными переливами всякий гвоздь в сапоге, который, согласно Маяковскому, кошмарнее, чем фантазия у Гете. А загвоздка же вот в чем.
Забывается, что Фауст, который, по Гете, прежде чем выдвинуть коварному Мефистофелю упомянутое условие, прожил долгую и благочестивую жизнь средневекового ученого, должен был, как всякий схоласт, обязательно знать о великом искусе философии гедонизма, которую, как мы видим, культивировали задолго до рококо. Христианский же мир преклонялся перед искупительным крестным страданием Спасителя, и для гедонизма тут, в идеале, не оставалось ни малейшей щелки. Вспоминается эпизод из раннехристианских житий. Послушник некоего аввы решил скрасить отшельнику пасхальный завтрак, приправив привычные овощи маслом. Старец же в исступлении растоптал умащенное с криком: «Спаситель мой умер на кресте, а я стану есть масло!» и позавтракал куском хлеба, посыпанного пеплом.
То есть престарелый Фауст, может, и не сведя свой рацион до хлеба с пеплом, все же получил, как водилось в средние века, изрядную аскетическую закалку. Он, вроде бы и согласившись на предложение омолодиться и прожить новую жизнь взахлеб (слаб человек!), все же внутренне уверен, что ничто земное его уже не заманит и не поколеблет: он, по сути, бросает вызов Мефистофелю, пытающемуся прельстить его, столь искушенного, зыбкими прелестями мира сего. Иными словами, у Гете заново решается длящийся вот уже более двух тысяч лет спор о смысле жизни: должна ли она быть насыщенной исключительно наслаждениями, или же есть ценности большие, чем наслаждение? И гетевская концепция, в общем-то, не отличается от взгляда Августина, считавшего, что Зло собственной природы не имеет, что оно – лишь тень Добра…
Тютчев, весьма глубоко укорененный в немецкой культуре, испытавший сильное влияние немецкого романтизма, немало при этом переводил и из «классика» Гете, в частности, 1-й акт «Фауста» (к слову, работа, которую он сам оценил как лучшее из сделанного им в литературе[1]). И он не мог остаться глухим к той жажде знания, которую Шпенглер обозначит как основную примету «фаустианской души» западного европейца: «моментальный снимок» вспыхнувшей и тут же угасающей радуги становится у Тютчева грандиозным символическим обобщением того «прекрасного мгновения», которое издавна составляет одну из главных психологических загадок европейского человека. Эта загадка определена внутренней конфликтностью европейской культуры, сложившейся в поле противоборства двух противоположных векторов: античного гедонизма и иудеохристианского спиритуализма, гармонизация которых вот уже две тысячи лет протекает с огромным трудом, но именно такая конфликтность определяет дерзание и надежду европейца [4, с. 46–47]. Поэтому стихотворение Тютчева – не заурядная «пейзажная лирика», не «гимн родной русской природе», а глубокая лиро-философская медитация над величественным явлением натуры.
Итак, мы ставим своей целью рассмотреть данное стихотворение Тютчева в масштабе «большого времени» (М. Бахтин), т. е. в динамке контрверзы антично-гедонистического и христианско-аскетического идеалов.
Если обратиться к работам предшественников, то оказывается, что проблема эта практически не исследовалась. Можно разве что отметить попытку провести параллель между Гете и Тютчевым, которая относится к 20-м годам ХХ века, но, если говорить честно, работу эту по причине ее крайней труднодоступности нам остается лишь упомянуть чисто номинально [5]. Тем не менее, несомненно, что исследование моральных установок русской классики небезынтересно в пору, когда активно декларируется «несостоятельность существующей теоретической и эмпирической критики психологического гедонизма» [6, с. 293–294].
Итак, как мы видим, в избранном нами формате это стихотворение никто не пытался рассматривать. А между тем здесь очевидна величественная, монументализирующая параболичность художественного обобщения. Ведь радуга, о которой идет речь у Тютчева, – это, с одной стороны, нечто физически эфемерное и мимолетное. С другой стороны, в мифологии радуга обладает весьма непростым звучанием, и Тютчеву с его классическим образованием и обычной для русского человека той эпохи катехистической подготовкой это должно было быть хорошо известно. Люди поколения Тютчева еще способны были ощущать явления материального мира сквозь призму культурных ассоциаций; да и у самого Тютчева, скажем, майская гроза, при всей ее животрепещущей «натуральности», предстает в конце концов как «громокипящий кубок», излитый с небес «ветреной Гебой». При этом имплицитная, скрытая в дискурсе трагичность тютчевской радуги вовсе не вписывается в стереотип «прославления красоты природы» и прочие банальные штампы.
В греческих мифах радуга – улыбка богини Ириды, вестницы воли верховных богов. Но, как часто бывает в мифах, родня этой радужной богини, равно как и некоторые ее собственные деяния, выступают за рамки светлого и чистого образа. Во-первых, Ирида – сестра гнусных гарпий, в поддержку которых она даже сражалась с аргонавтами. Во-вторых, именно она сопровождает в безысходность Аида души умерших женщин. Наконец, именно она «подарила» жителям Немеи связанного ее поясом во время транспортировки чудовищного льва, которого убьет Геракл. В Библии радуга тоже как-то неоднозначна. С одной стороны, это знак Завета, заключенного между Богом и Ноем: согласно этому Завету, Бог никогда более не станет уничтожать род людской водами потопа. С другой стороны, она призвана постоянно напоминать о погубленном грехами мире.
Строй тютчевского лирического текста, в общем, призван в первую очередь раскрыть именно эту пугающую трагичность.
Как неожиданно и ярко
На влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Яркое торжество радости и красоты с самого начала обозначено как неожиданное и минутное; арка возникла из непрочного и изменчивого воздуха. Синева неба все еще влажна, словно напоминание о только что бушевавшем разгуле водной стихии.
Интересным представляется замечание М. Гаспарова о трактовке тютчевской арки в данном стихотворении: «радуга, которую сам Тютчев только что назвал «аркой», представляется не дугой, соединяющей два края неба, а полудужием, соединяющим землю с небесами: <…> высь подменяет ширь, при этом самым неожиданным образом» [7, с. 343]. Анализируя общие черты композиции тютчевского пейзажа, исследователь отмечает, что основное измерение тут – вертикаль, причем устремленная от неба к земле [7, с. 343].
Титаничность радуги, превосходящей всякий человеческий масштаб, эфемерна, внутренней силы и прочности в ней нет:
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла –
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.
Радуга дарит ощущение счастья, вызывает мажорное настроение (недаром, надо думать, сегодня ее цвета избрали в качестве некой психологической защиты приверженцы ЛГБТ).
Но длится это чувство все же только одно мгновение: О, в этом радужном виденье Какая нега для очей! Оно дано нам на мгновенье, Лови его – лови скорей!
Нетрудно расслышать в строках Тютчева древний античный призыв «Лови фортуну!». Вера в счастливый случай, в судьбу – дохристианская, языческая вера, ничем не отличающаяся от безумной надежды азартного игрока сорвать некий извечный, именно тебе предназначенный волшебный джек-пот. Но как же обреченно и натужно звучит здесь этот призыв, не поддержанный никаким титаническим деянием – а возможно ли поймать и удержать радугу?
В известном стихотворении Тютчева об иве, клонящей над водами макушку свою, прочитывается танталова мука жажды физического счастья, полноты телесного бытия. Но точно так же отчетливо звучит здесь и мотив плача на реках вавилонских, тоски плененных иудеев под вавилонскими ивами по утраченному счастью и свободе.
Так и в стихотворении о радуге звучит печальный отзвук рассуждения Экклезиаста о тех, кто гонится лишь за земным счастьем: это, как сказано в еврейском тексте, ловля ветра, призрака:
Смотри – оно уж побледнело,
Еще минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь, и живешь.
Выводы. Таким образом, пленительно-трепетное переживание хрупкой красоты земного мира у Тютчева, почти что чувственно-осязаемое, как бы предвосхищающее завоевания акмеизма, все же неизбывно трагично и пронизано идеей Memento mori! Сама жизнь человека, все возвышенное, лучшее и наиболее трепетное в ней представляются в конечном итоге кратким, трагически обреченным на исчезновение мигом.
Но этот миг – есть! И он невыразимо прекрасен и в своей изначальной обреченности, и в своем духовном титанизме.
В буддийской философии есть понятие дуккха, которое на русский обычно переводится как страдание, что не совсем точно. Оно означает, что телесные желания человека неутолимы в принципе, и осуществленное желание тут же вытесняется новым. Эту коллизию фактически обрисовывает, хотя без четкого термина, и библейско-христианская культура, утверждающая губительность привязанности к одним лишь земным благам и высокую ценность страдания и отречения.
Тютчев, страшно тяготившийся торжественными парадными молебнами, на которых он обязан был присутствовать по долгу службы (для лютеранского богослужения, впрочем, как мы помним, делалась поблажка), все же обнаруживает в своем ощущении природы, ее хрупкой прелести и обреченности, подлинно христианское чувство беззаветной любви к прекрасному и обреченному в своей экзистенциальной беззащитности Творению.
Литература:
1. Тютчев Ф. И. Лирика : в 2-х т. Т. 1 / Ф. И. Тютчев. – М. : Наука, 1966. – 448 с.
2. Иванова И. С. Миг и вечность в поэзии Серебряного века. Ч. І / И. С. Иванова // Русская речь. – 2007. – № 3. – С. 15–18.
3. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : в ХХ т. Т. XVIII / А. П. Чехов. – М. : Гослитиздат, 1950. – С. 451.
4. Абрамович С. Культурна самоідентифікація в сучасному суспільстві: між етноцентризмом і глобалізмом / С. Д. Абрамович // Особистість. Час. Культура : матеріали наук.-практ. конф. (Чернівці, 28–29 листопада 2005 р.). – Чернівці, 2005. – С. 143–153.
5. Александровская Н. В. Два голоса: Тютчев и Гете / Н. В. Александровская // Посев. – Одесса : Всеукраинское государственное издательство, 1921. – С. 95–98.
6. Карлюк М. В. Психологический гедонизм в ценностной интерпретации / М. В. Карлюк // Философия. Язык. Культура. – СПб. : Алетейя, 2014. – С. 293–301.
7. Гаспаров М. Л. Композиция пейзажа у Тютчева / М. Л. Гаспаров // Избранные труды. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 2. – С. 332–361.