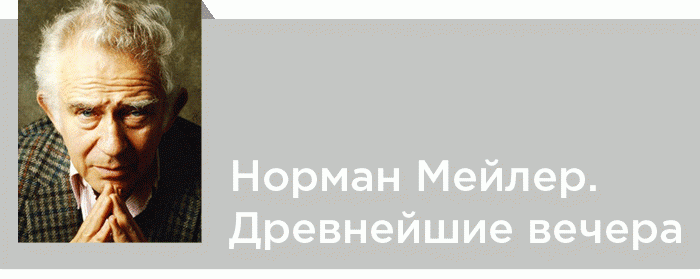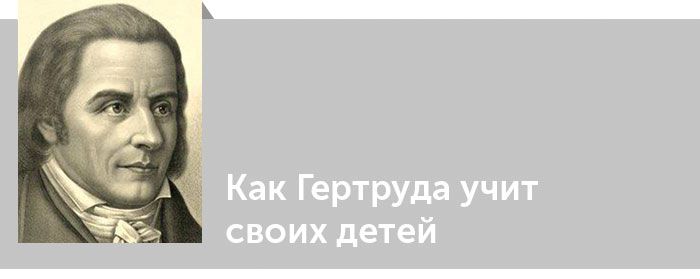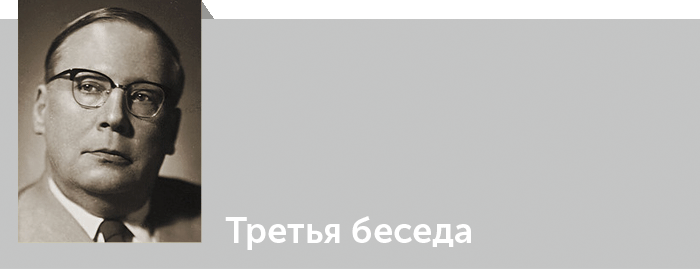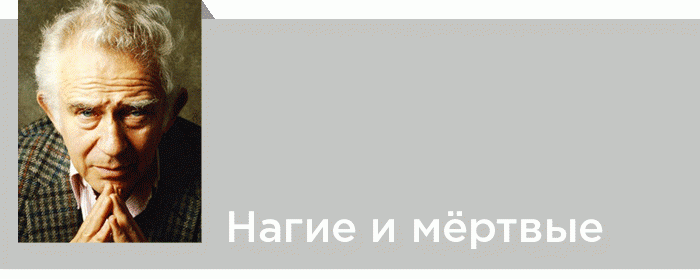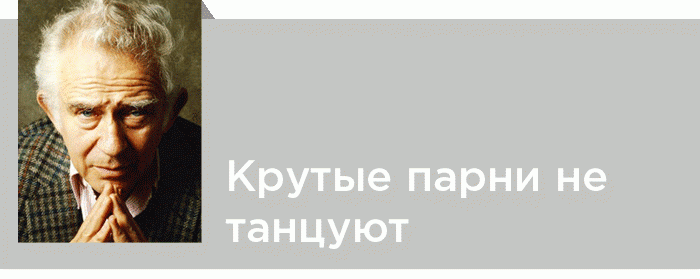Вторая жизнь Роджека

А. Зверев
Осенью прошлого года американский писатель Норман Мейлер опубликовал роман «Почему мы во Вьетнаме?», и вокруг книги сразу же разгорелись ожесточенные споры. Этого следовало ожидать: еще не было случая, чтобы новая книга Мейлера не вызывала самой бурной полемики. Начиная с 1948 года, когда двадцатипятилетний писатель выпустил наполненный яростным протестом против войны роман «Нагие и мертвые», имя его узнала вся читающая Америка. Столетиями копившийся опыт психологической разработки характера Мейлером отбрасывается как несущественный; ультрасовременная проблематика излагается языком литературного примитива. Рушится форма, роман трещит по швам. Критика злорадствует по поводу бесчисленных художественных ляпсусов, Мейлера списывают со счетов, его философию высмеивают, его герои — любимая мишень карикатуристов, академическое литературоведение вздыхает о бесплодно угасшем таланте, который обещал так много. Нередко Мейлер ввязывается в дебаты с критиками и темпераментно защищает свои произведения; при этом с обеих сторон нет недостатка в язвительной иронии, а то и просто в грубости.
Однако неоспоримым остается довольно существенный факт — Мейлера читают. И факт этот объясним: тема Мейлера слишком значительна, а талант и темперамент автора слишком очевидны, чтобы книги его не становились событием в американской литературной жизни. Тема эта — сама Америка, ее мучительная, извращенная действительность, в которой переплавились и приняли странную, пугающую форму веками державшиеся представления о смысле и судьбе западной цивилизации, в которой европейский человек, взлелеянный мечтами просветителей Фауст, творец, созидатель, преодолевший свою отъединенность от людей, превратился в Стивена Роджека, героя мейлеровской «Американской мечты», с его комплексом самоутверждения путем насилия и секса.
«Запад всегда стоял на одном основополагающем принципе: жизнь — героика, — говорит Мейлер в интервью, опубликованном январским номером журнала «Плейбой» за этот год. — Это фаустовский принцип. Конечно, мне тут же возразят, что Запад стоит также на принципе христианства, но в подобном утверждении всегда крылось недоразумение. Христианство... — это самая боевая и воинственная из религий, самая практичная, самая фаустовская. Не случайно оно сумело завоевать мир. Противовес этому героическому понятию о человеке — пассивное приятие мира, характерное для индийской и восточной философии и религии.
Один из парадоксов нашего столетия состоит в том, что технократическое общество создает такую атмосферу, в которой людям не остается ничего другого, как принять именно восточное понятие о человеке, ибо их лишили реальной возможности самим определять, какой будет их жизнь. Населяющие технократическое общество столь же бессильны перед бытием, как восточный крестьянин. Уровень их жизни, может быть, гораздо выше, чем у него, но положение их в обществе точно такое же. Они все меньше и меньше управляют, зато ими управляют все больше и больше».
Мейлер касается здесь вопроса вопросов современной мысли Запада. В Америке, где «технократическое», иными словами, производящее лишь эрзацы духовных ценностей и ведущее к тотальной стандартизации общество породило чудовищные формы отчуждения человека от государства, от других людей и от самого себя, «бессилие перед бытием» осознается множеством людей как норма существования. Религия — в глазах большинства американцев — единственная форма связи между собой и миром — никак не спасение для разделяющих высказанную Ницше идею смерти бога западных интеллигентов, к которым принадлежит Мейлер.
«Я пришел к выводу, что если бог существует и он всемогущ, отношения между ним и нами абсурдны. Условия нашего существования свидетельствуют лишь о грандиозных, фундаментальных несоответствиях, о несправедливостях настолько явных, что даже консервативное понимание жизни, то, которое утверждает, что здесь, на земле, человеку следует не жаловаться, но принимать все как должное, а грешившим на земле, бедны они или богаты, воздастся в аду, — даже такое понимание жизни справедливо лишь при условии, что бог засвидетельствует свою способность придавать миру разумные соответствия. Если же мир, в котором мы живем, полон только непреодолимых, безумных несоответствий, слишком трудно принять идею всемогущего бога, воплощающего одно добро. Не легче ли принять другую идею о боге: он умер, или агонизирует, или несовершенен... несовершенен точно так же, как несовершенны мы сами».
От таких исходных посылок только шаг до основного тезиса Мейлера, неоднократно провозглашавшегося им и раньше, — до «отчаяния» как некоего перманентного состояния мыслящего человека «технократической» эры. Ни сам тезис, ни его посылки не новы — Мейлер прошел школу французского экзистенциализма. Однако в них есть и специфически американский колорит — хотя бы в том смысле, что «отчаяние» Мейлера свидетельствует о настроениях значительной части интеллигенции США, идущей вместе с ним. Но не только. Что «бог умер», а человек «бессилен перед бытием» и даже перед собственной сокровенной сущностью — все это гораздо раньше Мейлера и сильнее, чем у него, прозвучало на европейских берегах Атлантики. Особенность Мейлера в том, что его «отчаяние» — пожалуй, не философский принцип, а скорее жизненная эмоция. Это постоянное возмущение «несоответствиями и несправедливостями» и выдвинуло писателя на авансцену литературной Америки и позволило сквозь путаницу заимствованных идей и их причудливых экстраполяций различить в его суждениях голос многих тысяч субъективно честных, но давно и едва ли не безнадежно заблудившихся в джунглях технократического общества американских интеллигентов, от чьего имени он говорит.
Что же остается, если нет чувства единения с другими, нет бога, нет смысла жить, а есть только пустота, отчаяние, страх? Как трансформировать сегодня «героическое понятие о человеке»? Возможна ли свобода самоопределения в обществе, где люди «все меньше и меньше управляют, зато ими управляют все больше и больше»? К таким вопросам неизменно возвращается каждый, задумывающийся и над будущим Америки, и над ее современностью.
Неизменно возвращается к ним и Норман Мейлер. Вся концепция «Американской мечты» определялась столкновением в душе героя извращенных до грубого шаржа фаустовских порывов и чувства полного своего бессилия перед бытием, перед действительностью технократического общества, превратившей Роджека в безличный автомат, в такую же призванную безотказно работать вещь, как холодильник или автомобильный мотор. Но автомат этот был одушевленным, и в скудном духовном мире Роджека рождался темный и страшный в своих проявлениях протест против смутно ощущаемой им бесчеловечной силы, который принимал форму диктаторских устремлений и разрушительных инстинктов. В его, по терминологии Мейлера, «тоталитарных импульсах» уже проявилось понимание свободы как развязанных для насилия рук; в недрах технократического общества скопилась энергия разрушения, которой нужно было дать выход; иначе она могла оказаться опасной для самого общества, нуждающегося лишь в безропотной производительной силе в облике человеческом.
«Тоталитарный импульс не просто стирает в жизни все различия, — писал Мейлер в книге «Каннибалы и христиане» (I960). — Он требует единого стиля в архитектуре, одежде, в бытовых приборах и инструментах, в каждодневном существовании. Это нужно, чтобы ослабить у человека сознание своей роли в обществе, ослабить его чувство реальности, что и достигается путем искоренения в человеке таких эмоций, как восторг, страх, чувство прекрасного, жалость, ужас, ощущение спокойствия, или кошмара, или гармонии. Отдалив нас от самых сильных источников чувства в самой реальности, тоталитаризм вынуждает ограничиваться пустынными горизонтами психоза; а открыв в душе нашей только пустоту и страх, мы в ужасе бежим их — и принимаем как избавление организацию жизни на основах, которые диктует тоталитаризм».
Социолог мог бы возразить Мейлеру, что тоталитарные тенденции произрастают из классовой политической борьбы, из особенностей общественного устройства. Однако для Мейлера главное не это. «Фаустовская» тема, считает Мейлер, потому и является вечной темой всякого искусства и всякой философии Запада, что «фаустовское» стремление человека возвыситься, стать чем-то большим, чем он есть, — вечная его черта, на каком бы этапе истории он ни жил. В такой позиции, конечно, заключена метафизичность. Тем более что Мейлер выделяет лишь одну сторону «фаустовского» конфликта — стремление возвыситься не для того, чтобы соединить свою жизнь с жизнью всех людей, а для того, чтобы стать выше других людей, подчинить их себе. В этом, по мнению Мейлера, исток и непобедимый вирус «чумы» тоталитаризма, эпидемии которой периодически повторяются в XX веке, хотя начались они гораздо раньше.
«Я полагаю, что они начались еще в те давние дни, когда первобытный человек впервые усвоил, что посредственность способна подчинять себе других, более одаренных людей, если она использует волшебство для того, чтобы контролировать действия этих других, а не для того, чтобы всем вместе облегчить существование», — утверждает Мейлер.
Заявление это в высшей степени характерно и для Мейлера, и для многих других американских писателей, стремящихся не только в социальной организации общества, но и в «природной организации» человека отыскать корни тоталитаризма, черты которого проступают в Америке последних лет все явственнее. «Обыкновенный тоталитаризм» рядового американца — один из ответов, а может быть, и главный ответ на вопрос, вынесенный в заглавие последней книги Мейлера; «Почему мы во Вьетнаме?»
«Естественной тенденцией технократического общества стало устранять любого рода социальные эксцессы и искоренять все эпидемии репрессий, ибо такого рода действия просто лишены логики; они мешают машине работать бесперебойно. Поршень не заставляют двигаться более энергично, чем нужно по норме, чтобы направлять ход машины; ни одна ее деталь не должна быть тяжелее лимитированного веса. Так и технократическое общество — его естественное желание состоит в том, чтобы создать бесперебойно работающий тоталитарный механизм, избавившись от форм несправедливости вроде тех, к которым прибегает капрал по отношению к солдату».
Мысль, конечно, своеобразная, однако, если вдуматься, не очень уж фантастическая. В конечном счете антидемократический режим заинтересован, главным образом, не в том, чтобы убить конкретного противника, но чтобы навсегда искоренить вирус сопротивления, создать условия, при которых энергия противодействия отводилась бы в сторонние, безопасные для существования самых основ подобной общественной организации каналы. Разумеется, ситуация, которую пророчит Мейлер, пока что нереальна. Но тенденция есть, и она дает себя знать.
Вьетнамская война, считает Мейлер, — это свидетельство не только политического кризиса внутри страны, хотя именно этот кризис послужил ее причиной. На вопрос «Плейбоя»: «Почему, по вашему мнению, мы начали эту войну?» Мейлер ответил: «Потому что мы не могли ее не начать. Америка страшно боялась негритянской революции. В подсознании мы готовы были пойти на все, чтобы предотвратить ее. Война во Вьетнаме была самым простым способом замедлить ее нарастание... Вьетнам был инструментом, с помощью которого Джонсон мог обманывать общественное мнение, который он использовал в качестве рычага для оживления экономики и в качестве дубинки против движения за гражданские права».
Мейлер полагает, что со стороны президента это было «шекспировских масштабов заблуждение» и что в результате Джонсон утратит «способность держать американский народ в идеологической узде».
Но у вьетнамской войны, считает Мейлер, была и другая, быть может, даже более существенная причина: «Потенциал насилия увеличивался в американской жизни с каждым годом; социальные ее основы начали рушиться».
Мейлер предупреждал об этом и раньше — своими книгами, статьями, выступлениями на дискуссиях о Вьетнаме. В мае
Она принесла совсем другое: потенциал насилия возрос в чудовищной степени. Стивен Роджек, которому технократическое общество не позволяло дать волю его диктаторским инстинктам, ибо они затрудняли нормальное функционирование общественного механизма, получил широкие возможности «самоутверждаться», убивая вьетнамских крестьян и насилуя их жен; энергия, бушевавшая в нем, выплеснулась: опустошенность и психоз, порождающие не только отчаяние, но и слепую ярость, и страсть к насилию как единственной — для таких, как Роджек, — форме противостояния убийственной безликости современной американской жизни, грозили исказить стройные пропорции «разумного» технократического общества; Вьетнам стал отводным каналом. Взбесившемуся обывателю «нужно только каким-то образом оправдать акт убийства как патриотическое действие, хотя на деле все, чего он хочет, — это просто убивать».
Этот штрих окончательно дорисовывает портрет рядового обитателя общества технократии или общества тоталитарного — для Мейлера эти понятия почти синонимичны. Какой бы метафизикой и путаницей ни представлялись его философские взгляды, позиция, которую занял Мейлер, помогла ему увидеть нечто очень существенное в современной американской действительности. И перечитав сегодня «Американскую мечту», убеждаешься, что ее автор одним из первых различил суть особого, зловещего типа людей, ею сформированных. Социологам еще предстоит исследовать феномен, описанный Мейлером; в литературе он уже живет и, видимо, будет жить долго. Такова особенность настоящего писателя — видеть сегодня то, что станет явным завтра, жить хотя бы на несколько лет вперед.
Л-ра: Иностранная литература. – 1968. – № 5. – С. 247-250.
Произведения
Критика