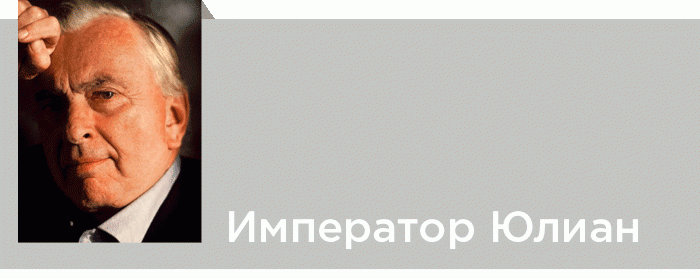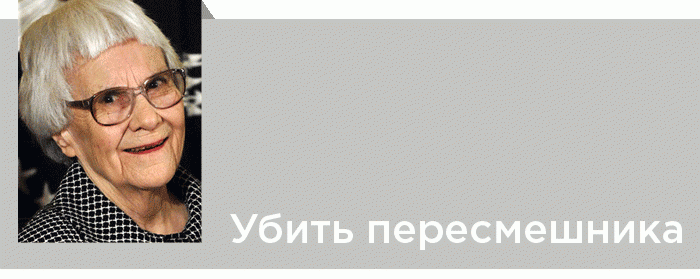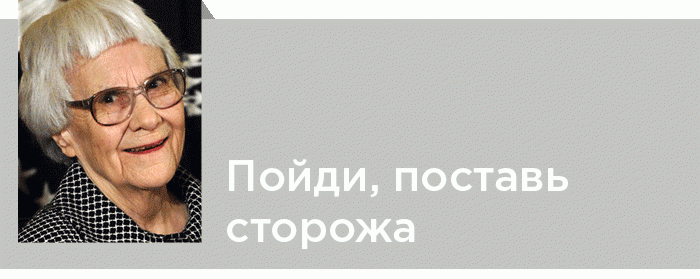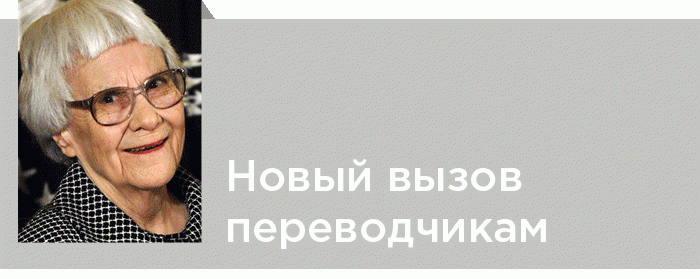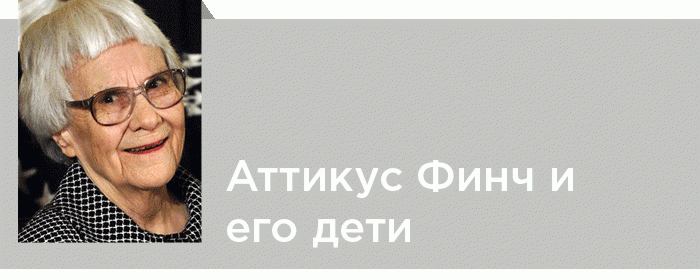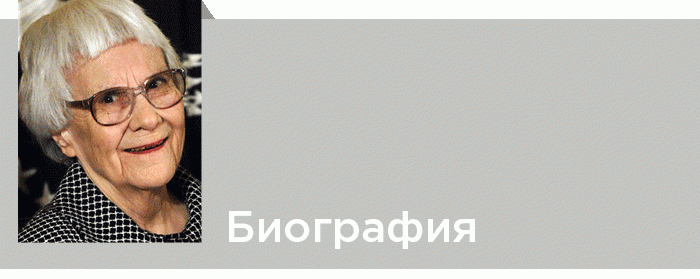Вечный Адам (Размышления над полузабытой книгой)

Алексей Зверев
Это очень американский роман. Не только по сюжету, который строится вокруг ложного обвинения негра в насилии над белой, впрямую затрагивая роковой для Америки расовый вопрос. Не только по топографии: городок, затерявшийся среди хлопковых плантаций Алабамы захолустье, патриархальный мир, где каждый все знает о любом из соседей и, звоня по телефону, незачем называть себя — узнают по голосам.
Это очень американский роман по проблемам, идеям, по главной своей теме.
Судьба автора — тоже очень типичная, очень американская судьба. В 1960 году никому неведомая южанка сотворяет литературную сенсацию. «Убить пересмешника» сразу оказывается в списке бестселлеров, вскоре возглавляет этот список и несколько месяцев удерживает в нем первую строку, уверенно оттесняя изделия гроссмейстеров детектива, а также королей душещипательной мелодрамы, которую уже стало модно приправлять вполне откровенной эротикой. Репортеры кидаются разыскивать Харпер Ли, требуя от нее интервью и автокомментариев, однако, встретив твердый отпор, вынуждены собирать сведения по крупицам.
Да, она тоже выросла в Алабаме и, подобно своему герою Аттикусу Финчу, по образованию юрист. Да, в 1935 году, к которому отнесены события книги, ей было восемь лет, как ее повествовательнице Джин Луизе, или Глазастику, — так девочку называют домашние. Узами дальнего родства Харпер Ли связана со знаменитым прозаиком Труменом Капоте. Он, впрочем, не давал ей никаких уроков литературного мастерства и вообще не знал, что она пишет роман.
Публика не верит, что перед нею книга дебютанта. В это действительно нелегко поверить. Буквально ни одного художественного просчета. Неужели автор и вправду человек, в литературе неискушенный, только начинающий свой писательский путь? К каким же вершинам этот путь приведет!
Но он к ним не привел, если не считать первого романа Харпер Ли. Потому что тот роман так и остался единственным. Какое-то время ходили слухи, что она взялась за историческую хронику своих родных мест, намереваясь создать нечто грандиозное, наподобие фолкнеровской саги о Йокнапатофе. Потом эти слухи заглохли. И о самой Харпер Ли почти не вспоминали, хотя «Убить пересмешника» продолжают переиздавать и читать — книга стала современной классикой, о ней написаны исследования, есть фильм известного режиссера Р. Маллигана, где Аттикуса сыграл сам Грегори Пек, были инсценировки (в том числе и наша, долгие годы шедшая в Московском ТЮЗе).
Нет только активно работающего писателя Харпер Ли.
Такое случалось в истории американской литературы — и давней, и новой — не раз: блистательное начало, за которым не следует продолжения. Автор как бы выговаривается сполна в первом же своем произведении и замолкает, не желая повторяться. Сэлинджер, с которым очень часто сравнивают Харпер Ли, молчит вот уже четверть века, но у него, кроме знаменитой повести, есть еще сборник рассказов и несколько набросков к задуманной семейной хронике Глассов. Другие остались просто авторами одной книги. Превосходной — и все-таки лишь одной.
Со временем эти книги начинают забывать. Осенью прошлого года мне нежданно-негаданно довелось проводить уроки литературы в американской школе в Кентоне, штат Огайо. Это совсем маленький город, настоящая провинция. Моя аудитория, подростки лет пятнадцати, оказалась, однако, вовсе не провинциальной. По программе они проходили Хемингуэя, и наш разговор о «Фиесте» получился серьезным, без скидок на возраст.
Учительница сказала, что эти ребята интересуются больше всего компьютерами, но читают порядочно. Решили посмотреть библиотеку. Она помещается в кабинете литературы: два высоких стеллажа во всю стену. Среди потрепанных томиков Мелвилла, Диккенса, Твена отыскалось скромное издание Харпер Ли. К нему, видимо, давно не прикасались. В классе не нашлось никого, кто знал бы о существовании такого романа — «Убить пересмешника».
Разумеется, из этого отнюдь не следует, что книга Харпер Ли является исключительно достоянием прошлого. Мне, напротив, кажется, что ее истинное время еще не настало. Когда она появилась, в ней находили слишком много злободневного, непосредственно созвучного атмосфере накалявшихся расовых конфликтов. Теперь эта актуальность ушла, но и книга ведь почти забыта.
Но к ней, я думаю, непременно вернутся. И не оттого, что с расизмом далеко не покончено при всей сегодняшней либерализации и новой общественной психологии, для которой цвет кожи перестает быть «метафизическим проклятьем», как выразился один негритянский романист. Прежде всего оттого, что на самом деле «Убить пересмешника» — произведение, в сущности, не столько обращенное к наболевшим проблемам, сколько философское. А точнее, выразившее одно из самых устойчивых верований, которые характерны для самосознания Америки и во многом определили особенности ее культуры, ее духовный облик и нравственный идеал.
Устами восьмилетней героини это верование, столь много значившее для американской жизни еще с колониальных времен, сформулировано почти афористически. Закончился процесс над несчастным Томом Робинсоном, которого осудили, несмотря на недоказуемость обвинения и блестящее адвокатское искусство Аттикуса, который не оставил от версии прокурора камня на камне. Дети — Джим и Глазастик — вопреки запрету присутствовали на разбирательстве и все видели своими глазами: как изворачивался и лгал отец «пострадавшей», а потом она сама, как пытался сохранить, насколько возможно, законность старый судья, как присяжные, выйдя с вердиктом, стыдливо отворачивались от скамьи, где ждал своей предрешенной участи Том. И вот они впервые задумались, отчего жизнь устроена так, что одни всесильны, а другие бесправны, и явная ложь оказывается сильнее очевидной истины, и перед задубелым предрассудком вынуждены отступать совесть, порядочность, честь.
Трудные вопросы. На них спотыкались, капитулируя, изощренные умы, когда, например, пробовали тем или иным способом объяснить необходимость «самобытного заведения», как из деликатности именовали рабство. Очень естественно, что юные герои Харпер Ли стараются подобрать потрясшему их свидетельству людской очерствелости какое-то извинение, прибегая к невольным уловкам и натяжкам. Наверное, присяжные признали невиновного виноватым, потому что сами они народ недалекий и грубый. Вот если бы они происходили из хороших, старинных семей, как тетя Александра, приговор оказался бы совсем другим. Или если бы они были грамотные, начитанные, как Аттикус.
Но перед нами дети, которые умеют безошибочно опознавать неправду, даже когда им самим страстно хочется в нее поверить. Честность, еще не изведавшая соблазнов утешительного самообмана, заставляет признать: «Хорошее воспитание — это что-то не то». Как и грамотность. «Ведь никто не рождается грамотным, во всем надо учиться с самого начала... Нет, Джим, по-моему, все люди одинаковые. Просто люди».
А возражение у Джима наготове, да после всего происшедшего оно прямо напрашивается: «Если все люди одинаковые, почему же они тогда не могут ужиться друг с другом? Если все одинаковые, почему они так задаются и так презирают друг друга? Знаешь, Глазастик, я, кажется, начинаю кое-что понимать».
Этот диалог происходит поздним вечером в детской спальне, сопровождаясь шпильками по адресу тети Александры и замечаниями о том, как любит Аттикус подбирать поскребыши со сковородки. Глазастик и Джим крайне удивились бы, узнав, что их спор, отчего присяжные не оправдали Тома, самым прямым образом коснулся специфически американского представления о личности и ее месте в людском сообществе. Однако говорят они, того не ведая, именно об этом. В каком-то смысле вся история «американской мечты», ставшей национальным идеалом, могла бы разместиться между двумя полюсами: «все люди одинаковые» и — «почему же они тогда не могут ужиться».
Убеждение, что любой человек всецело свободен и обладает неотчуждаемым правом на естественное счастье, неотделимо от этой истории и на ранних ее стадиях, и позже, по крайней мере, до середины нашего столетия. Каждая литература таит в себе хотя бы несколько смысловых парадигм, которые органичны прежде всего для данной литературы и укоренены в национальном опыте, ею выраженном. Для американской литературы едва ли не важнейшей из них является идея вечного Адама.
Она возникла не в лабораториях мысли, которыми колонии просто не располагали, а скорее как массовая иллюзия, владевшая переселенцами за океан и лишь впоследствии получившая — у Эмерсона на языке философии, в уитменовских «Листьях травы» на языке поэзии — стройность продуманной концепции или, по крайней мере, выношенной мысли. Долгое время потребовалось, чтобы удостовериться: это только иллюзия. Слишком многое располагало считать иллюзию действительным положением вещей.
Америка — просторный, щедрый, совсем не тронутый цивилизацией материк — виделась как райский сад, впервые обретаемый человеком после изгнания из Эдема. А стало быть, ей и надлежало явить миру пример личности, которая сумела восстановить органичную связь с природой и, живя согласно с естественными законами, вернула себе бесхитростную простоту помыслов, устремлений, принципов, норм. «Все люди одинаковые», потому что каждый из них Адам, обретающийся в гармонии с природой, а тем самым — с самим собой и с другими. Не может быть никаких социальных антагонизмов, пока не ослабло чувство, что человек созидает собственное бытие, как его библейский предок, и при этом не ведает искусов себялюбия, своекорыстия, коварного расчета, поскольку всегда распознает в себе вечного Адама, не отступая от его простой этики, которая сохранит от лжи и зла, от обольщений и бесчестья. А рядом с ним такие же доверившиеся голосу добра и разума, и все вместе они превращают Америку в земное святилище, где каждый бесконечно свободен, и ничья воля не стесняет, не ущемляет другую.
Действительность с годами все более сурово корректировала эту простодушную веру, испытывая ее свидетельствами прямо противоположного характера, на которые не поскупилась стремительно и драматически развивавшаяся общественная история. Но разрушить, даже всерьез поколебать основания, на которых держалась идея вечного Адама, в американце, обретшем свое современное воплощение, десятилетиями не могли никакие социальные встряски и на глазах обострявшиеся противоречия. Миф, сделавшийся чем-то вроде доминанты национального характера, всегда отличается живучестью совершенно особенной, порождая все новые свои версии и отголоски. А в Америке он к тому же долго сохранял под собой реальную почву. Шли миллионные потоки иммигрантов, для которых история этой страны начиналась с чистой страницы. Осваивали обширные новые земли от Техаса до Аляски, и все повторялось опять: иллюзия обретенной гармонии и нестесненности, воскресший Адам, золотой век...
Эти земли всегда могли дать приют изгнанникам из земного святилища или на опыте удостоверившимся, что оно — мнимость. Идея бегства туда, «на индейскую территорию», о которой мечтал Гек Финн, стала такой же сквозной мифологемой, как новый Адам. Сколько в американской литературе подобных беглецов — от Кожаного Чулка до хемингуэевского Ника Адамса и Холдена Колфилда из повести Сэлинджера. У Харпер Ли тоже отыщется этот типичнейший американский персонаж; его зовут Дилл, он приятельствует с Джимом, а Глазастик считается его невестой. Все очень просто и понятно: отца нет, а отчим равнодушен, от Дилла отделываются книжками да игрушками, вот он и сел в поезд, добрался до Мейкомба, где настоящий рай и уж, во всяком случае, желанное общество, а остальное устроилось само собой.
Ни Глазастик, ни Джим бежать из дома не собираются, нет повода. Аттикус, который растит их без матери, — в душе тот же вечный Адам, пусть поневоле день за днем соприкасающийся у себя в суде с человеческой низостью, предрассудками, отупением, но сохранивший неискоренимую у таких людей открытость души, и чистоту, и цельность, и веру в добро. Со своими детьми Аттикус ощущает себя хотя и умудренным нелегкими уроками жизни, но духовно равным. И в самом деле, они связаны больше чем кровным родством. Все трое, по сути, воплощают один и тот же человеческий тип, сформированный американской историей.
Таких героев прошло через американскую литературу очень много, особенно через классическую. Был Натти Бумпо. И повествователь в «Моби Дике», назвавший себя библейским именем Измаил. И лирический двойник Уитмена, который с открытым сердцем, переполненным радостью жизнеприятия, шагает по большой дороге, слагая песню о себе.
Потом был Том Сойер.
Это момент, до известной степени переломный для американской литературы, и не только оттого, что впервые полноценно заявляет о себе гений Твена. А еще в том смысле, что вечным Адамом впервые предстет подросток. Читая бессмертную твеновскую повесть, восхищаются ее юмором, поразительным пониманием детской души, поэтичностью, реализмом, однако очень редко замечают в ней органичное продолжение той философской темы, которая была всего важнее самому Твену, не отрекавшемуся от полученного им духовного наследия. В последующих замыслах Твена, связанных с Томом и Геком, эта тема — вечный Адам в сегодняшнем обществе — доминирует уже совершенно отчетливо. Но вот что показательно — ничего не выходило из всех попыток показать их взрослыми людьми. Живущий в них обоих Адам немедленно становился условностью и фальшью, как только они являлись на сцену, отягощенные недетским знанием реальности.
Парадигма, которая оказывалась творчески такой богатой, пока изображались мальчишки из дремлющего под солнцем городка, утрачивает всякую убедительность, когда в ее границах пытаются осмыслить реальность взрослого мира со всеми его конфликтами. Адам не исчезает — он уходит в литературу о подростках, хотя не обязательно адресованную подросткам. И своим присутствием придает этой литературе четко выраженный национальный колорит.
Мы его не всегда умеем различать. У Твена, как затем у Сарояна и у Сэлинджера, нас пленяет точность изображения юного героя с его особым пониманием окружающего мира, непосредственностью переживаний, импульсивностью, романтикой, фантазией. Нам кажется, что все усилия писателя отданы задаче сделать это изображение предельно достоверным, создав законченную в себе художественную реальность, которая запечатлеет неповторимое духовное состояние между детством и юностью. Но, строго говоря, к одному этому цель американского писателя не сводится: для него почти обязателен еще и второй, иносказательный план, посредством которого вводится проблематика, восходящая к мифологии вечного Адама. Это делается ненавязчиво, без подчеркнутых аллегорий и тем более без дидактичности. А все-таки иносказание присутствует, и благодаря этому рассказываемая история приобретает философский — может быть, даже важнейший — содержательный аспект.
Он появляется и в романе Харпер Ли. «Убить пересмешника» на первый взгляд книга предельно острых социальных вопросов, которые составляют ее ядро, ее смысловой центр. Трагический сюжет обрастает в ней боковыми линиями, и в совокупности создается гнетущая картина одичания, нравственной апатии, неодолимой силы расистского предрассудка, нетерпимости ко всему отклоняющемуся от шаблонов и стереотипов обывательского мышления. На страницах романа происходят два убийства; один из персонажей, Артур Рэдли по прозвищу Страшила, обречен на пожизненное заключение в собственном доме, поскольку его, не советуясь с врачами, объявили сумасшедшим; Аттикусу плюют в лицо и грозят расправиться с его детьми. Из Европы доносятся в американскую глубинку агрессивные речи Гитлера, не вызывающие здесь иного отклика, кроме самодовольной уверенности, что у демократии есть одно пристанище — за океаном.
Противоречие оказывается не просто антагонизмом, но одновременно и синтезом или, во всяком случае, соотнесенностью, сближенностью чужеродных начал. Они кажутся несочетаемыми, но в действительности переплелись нерасторжимо, и только их слитность гарантирует художественную правду.
В конечном счете это, видимо, отголосок внутренней противоречивости самого идеала естественной гармонии как нормы человеческого бытия и социальных отношений, самой веры, что «все люди одинаковые», — снова и снова развенчиваемой, однако устойчивой необыкновенно. Мейкомб в штате Алабама, где расизм пустил самые глубокие корни, — такое место, где самую правильную линию поведения выбрал, должно быть, Страшила, примирившийся с участью арестанта в собственном доме: он «весь век сидит взаперти», потому что «просто ему не хочется на люди». И однако, Мейкомб — это словно бы оживший Санкт-Петербург из книг о Томе Сойере и Геке Финне, воплощенная идиллия, вернувшийся Эдем: жаркое солнце, и «столько вкусного в саду», и «все вокруг... горит тысячами ярких красок», и пересмешник беззаботно насвистывает, словно он накрепко уверен, что никто не посмеет прицелиться в него из ружья. Присяжные приговаривают невинного к казни на электрическом стуле, а один из них возглавлял толпу линчевателей, незадолго до суда явившихся к тюрьме. Но ведь, по существу, они не такие уж плохие люди, раз Аттикус, старый и безоружный, сумел их остановить, действуя только убеждением. А тот самый Канингем, который рвался собственноручно расправиться с Томом, в совещательном зале последним и только после долгих уговоров согласился с обвинительным вердиктом.
После процесса Аттикусу трудно ответить на прямой и жесткий вопрос Джима: «как они смогли?» «Не знаю, как, но смогли, — скажет он, — они делали так прежде и сделают еще не раз, и плачут при этом, видно, одни только дети». Это правда, как ни тяжело. Но ведь правда и другое: «Будь на месте этих присяжных ты и еще одиннадцать таких, как ты, Том уже вышел бы на свободу». Когда-то детьми были и присяжные, и лгавший под присягой шериф, и даже Юэл, повинный в гибели Тома, а потом замысливший убийство Глазастика и Джима. Все дело, видимо, в том, сколько человек сумел в себе сохранить от ребенка. От Адама, каким каждый является в этот мир.
«Убить пересмешника» — не детское чтение, если подразумевать насыщенность этой книги реалиями и подробностями, способными шокировать и опытную аудиторию. Но в том, что главную роль Харпер Ли отдает детям, заключен глубокий смысл. Они, несущие в себе незамутненной и непоколебленной старую веру, что «люди одинаковые», а значит, должны быть во всем равноправными, сталкиваются с реальностью, сокрушающей эту веру, и возникает конфликт, который можно назвать центральным для американского сознания. Они, конечно, скорее чувствуют несправедливость, чем понимают ее истоки. Однако чувство их не обманывает ни разу. А реакция на двоедушие, озлобленность, ожесточенность у них обострена почти до болезненности, потому что каждый такой пример не просто их ранит, а грозит разрушить весь фундамент гармонии, в которой они обитают, и внушить безверие, иссушающее душу.
Окажется ли конечный итог столь безрадостным или что-то в них удержится, как в Аттикусе, от детства, поры неомраченного доверия к жизни и к добру? Это важнейшая коллизия, так или иначе возникающая в американской литературе для юношества и определившая ее всеми ощущаемое своеобразие. Ни один серьезный писатель не возьмется предлагать однозначный ответ, когда проблема настолько значительна и сложна. Но если бы не было веры в то, что гуманное развитие всегда остается реальной возможностью, которая открыта перед личностью, мы бы не прочли многих замечательных американских книг. И, закрывая роман Харпер Ли, не испытывали бы убежденности, что ее герои не выстрелят в пересмешника никогда.
Л-ра: Детская литература. – 1990. – № 4. – С. 32-36.
Произведения