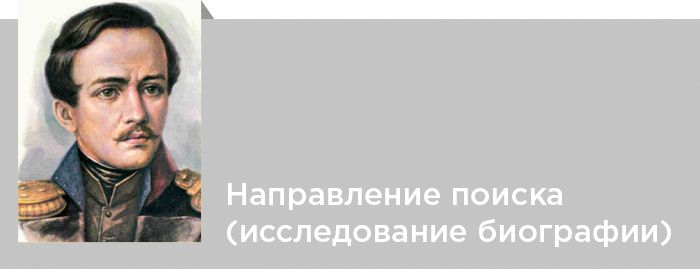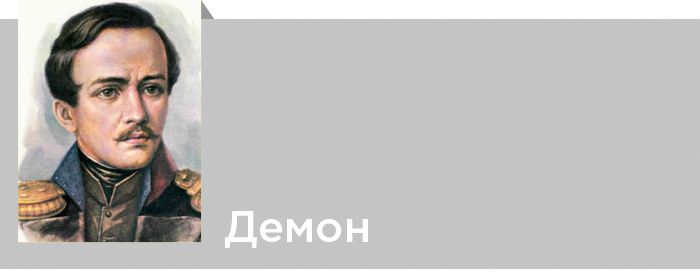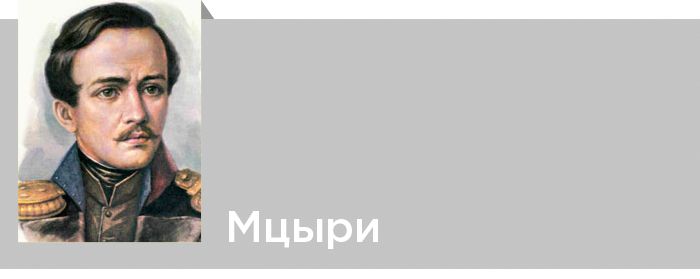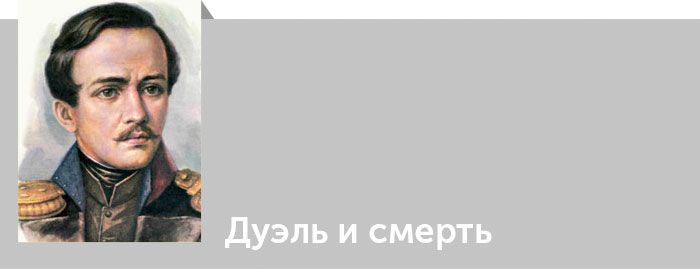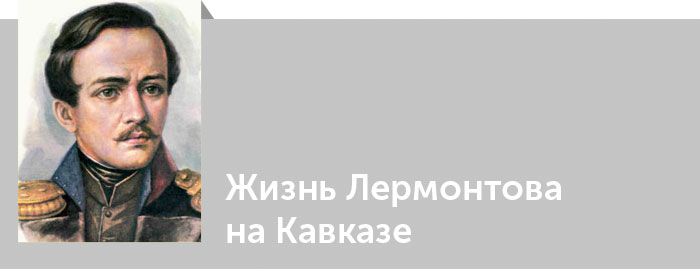Последняя повесть Лермонтова
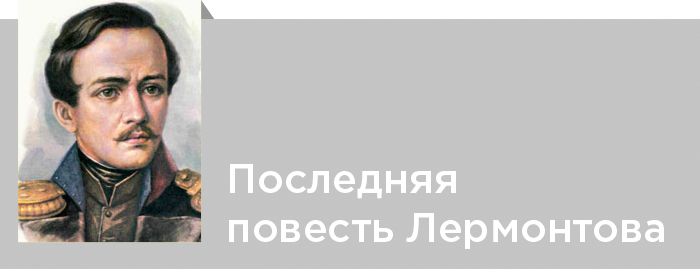
Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. — С. 223—252.
Творческий путь Лермонтова-прозаика обрывается произведением неожиданным и странным — не то пародией, не то мистической гофманиадой. Автор романа, стоящего у истоков русского психологического реализма, и «физиологического очерка» «Кавказец», лелеявший замыслы исторического романа-эпопеи, в силу ли простой исторической случайности или внутренних закономерностей эволюции оставил в качестве литературного завещания «отрывок из неоконченной повести», носящей на себе все признаки романтической истории о безумном художнике и фантастического романа о призраках. Нет ничего удивительного, что повесть эта, известная под условным названием «Штосс», привлекает и будет привлекать к себе внимание исследователей и порождает и будет порождать диаметрально противоположные толкования, благо ее как будто нарочитая неоконченность открывает широкий простор для гипотез.
Первые исследователи «Штосса» рассматривали его как романтическую повесть в духе Гофмана и Ирвинга и приводили параллели; мотив «оживающего портрета» сопоставляли с подобным же у Гоголя и Метьюрина.1 Гоголевские традиции в «Штоссе» были отмечены довольно рано;2 советские исследователи расширили и обогатили эту сферу сопоставлений и установили связь повести с ранним русским «натурализмом» («натуральной школой»).3 Именно эти наблюдения привели к трактовке «Штосса» как произведения антиромантического; тщательное исследование Э. Э. Найдича, опубликованное в виде комментария к нескольким изданиям сочинений Лермонтова,4 содержало именно этот вывод и во многом определило последующее его восприятие. В нескольких специальных статьях рассматривались формы полемической связи «Штосса» с романтической литературой.5 В настоящее время эту точку зрения можно считать абсолютно преобладающей. Лишь в последних до времени работах намечается известный отход от нее: так, Б. Т. Удодов склонен рассматривать повесть как синтез романтических и реалистических элементов; к подобной же позиции приближается и А. В. Федоров.6
Вопрос о художественном методе «Штосса», конечно, не может решаться вне всего контекста позднего творчества Лермонтова, однако некоторые суждения о нем возможны и на более локальном материале. Прежде всего необходимо исследовать литературную среду, в которой возникает повесть, т. е. проделать работу, подобную той, какую проделала Э. Г. Герштейн, изучая бытовые и биографические реалии «Штосса».7 В настоящих заметках это будет одной из наших задач; нам придется обращаться и к сопоставительному и внутритекстовому стилистическому анализу, и к проблемам творческой истории и даже толкования этого во многом еще неясного произведения.
1
Нам известно сейчас, что «Штосс» возникает в петербургском кругу — Карамзиных, Соллогубов — Виельгорских, Одоевского, — в который Лермонтов вошел осенью 1838 г. и который стал его последней литературной средой. К сожалению, как раз его литературные связи последних лет документированы очень мало; лаконичные записи тургеневского дневника, упоминания о Лермонтове в переписке Карамзиных, наконец, поздние воспоминания в большинстве случаев дают нам внешнюю канву его встреч и лишь мимоходом касаются его творчества. Самое свидетельство о чтении Лермонтовым «Штосса» впервые появляется через семнадцать лет после этого чтения в мемуарном письме Ростопчиной, обращенном к А. Дюма; в известных нам современных документах нет и следов этого эпизода, как, впрочем, и многих других важных эпизодов творческого общения Лермонтова с поздним пушкинским кругом. Между тем общение это было интенсивным и непосредственно проецировалось в литературное творчество Лермонтова: «Журналист, читатель и писатель», интересующий нас сейчас «Штосс» полны скрытых и явных ассоциаций, литературных и бытовых, отголосков бесед, полемик, даже устных анекдотов, ходивших в кружке. Нам следует поэтому попытаться хотя отчасти восстановить ту интеллектуальную и эстетическую атмосферу, в которой писался «Штосс». И здесь фигуры Ростопчиной и кн. В. Ф. Одоевского должны в первую очередь привлечь наше внимание, — не только потому, что с ними Лермонтов сошелся короче и теснее, чем с другими, но в первую очередь потому, что оба они в 1838 — 1841 гг. были острейшим образом заинтересованы проблемами «сверхчувственного» в общемировоззренческом и фантастического — в литературном планах. Исследователи «Штосса» неоднократно приводили «Сильфиду» Одоевского в качестве параллели (или антипода) лермонтовской повести, но эта параллель во многих отношениях случайна, потому что в годы близости с Лермонтовым Одоевский уже отошел от замысла «Сильфиды» и обратился к несколько иной проблематике, более близко соотносившейся с замыслом «Штосса». Эта проблематика получила свое выражение в его известных «Письмах к графине Е. П. Р<остопчино>й о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, каббалистике, алхимии и других таинственных науках», которые Одоевский с начала 1839 г. публиковал в «Отечественных записках».8
«Письма» Одоевского были необыкновенно характерным порождением кружка, где царил вообще повышенный интерес к проблемам сверхчувственного. Достаточно напомнить, что Виельгорские, например, были масонами и, как большинство масонов, были в повседневном быту наклонны к мистицизму; именно А. М. Виельгорская-Веневитинова сохранила рассказ о предсказании гадалки, якобы сулившей Лермонтову смерть.9 Что же касается адресата «писем», Е. П. Ростопчиной, то ее творчество отличалось довольно устойчивым тяготением к сверхъестественному: достаточно указать хотя бы на повесть «Поединок» (1838) с центральным эпизодом — предсказанием цыганки, наложившим отпечаток на всю судьбу героя, предопределившим его поведение и его гибель. На протяжении 1840-х годов настроения эти крепнут: появившийся в «Поединке» мотив гадания в зеркале через пять лет составит содержание ее стихотворения «Магнетический сон», имеющего помету «6-го января 1843 г., после магнетического сеанса». Они сказались позже и на воспоминаниях Ростопчиной о Лермонтове, где все время проскальзывает мотив предчувствия, фатальной предопределенности судьбы поэта. «Странное сближение» Ростопчина находит даже в цепи поэтических некрологов: А. Одоевского — на смерть Грибоедова, Лермонтова — на смерть Одоевского, своего — на смерть Лермонтова.10 «Странная вещь! — пишет она в другом месте. — Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку».11 О «предчувствии» Лермонтовым своей близкой смерти она упомянула и в стихотворении «Пустой альбом» (1841).
Все эти умонастроения стали почвой, на которой выросла тесная интеллектуальная дружба Ростопчиной и Одоевского. Ее сохранившиеся записки к Одоевскому говорят о дружеской короткости; они обмениваются «полумистическими, полуфантастическими» письмами. Ростопчина вспоминала впоследствии, что в это время она сильнее, чем когда бы то ни было, «властвовала над <...> вдохновением» князя.12 Посвящение ей «писем о магии» в 1839 г. было поэтому не случайностью, а закономерностью.
«Письма» Одоевского содержали в себе целую концепцию, в которой была и научная, и мировоззренческая, и чисто литературная сторона. Не отрицая необъясненных и «таинственных» явлений в природе и человеческой психике, он тем не менее стремится максимально сузить их сферу, ссылаясь на новейшие достижения психологии, физиологии и опытной физики; он подробно разбирает феномен «животного магнетизма», повально интересовавший всех, и пытается объяснить его исходя из теории электричества. «Явления жизненности (phénomènes vitaux), — пишет он, — доныне еще столь мало исследованы, что их объяснение выходит из пределов возможного», однако «непонятное для человека есть только не довольно исследованное».13Пафос Одоевского в этих «письмах» был пафосом естествоиспытателя, уверенного в могуществе опытного знания. «Письма» почти не оставляли места для мистических спекуляций, и Одоевский демонстративно противопоставлял их «страшным повестям». «Вы требовали от меня, графиня, какую-нибудь повесть, да пострашнее, — так начиналось первое «письмо». — К сожалению, повести не по моей части: это дело одного известного вам моего приятеля, который любит пугать честной народ разными небывальщинами. <...> Чтоб исполнить по мере сил ваше желание, я если не расскажу вам повести о привидениях, то по крайней мере осмелюсь представить самый источник, из которого берутся страшные повести. <...> Под всеми баснословными рассказами о страшилищах разного рода скрывается ряд естественных явлений, доныне не вполне исследованных...».14
Это начало заслуживает внимания: оно ведет нас к тем сферам литературы и литературного быта, из которых затем вырастает «Штосс». Ростопчина требует от Одоевского «страшной повести», — тот отвечает естественнонаучным трактатом, отсылая ее к автору фантастических повестей, своему «приятелю» «Иринею Модестовичу Гомозейке», автору «Пестрых сказок», рассказчику «Привидения» и т. д. Сам Одоевский является в двух лицах — как автор фантастических повестей с не объясненным до конца сверхъестественным элементом — «Сильфиды» (1837), «Сегелиеля» (отрывок опубл. — 1838) — и как автор научной статьи, подрывающей мировоззренческую основу таких повестей и сводящей их фантастику почти до уровня литературной условности.
14 января 1840 г. А. И. Тургенев записал в своем дневнике: «У Карамз<иных>: с Жук<овским>, Вяз<емским>, Лерм<онтовым>. К<нязь> Одоев<ский>: он читал свою мистическую повесть; хочет пред?тавить тайны магнетизма и seconde vue в сказке. Писано хорошо, но форма не прилична предмету. Прения с Вяз<емским> и Жук<овским> за высшие начала психологии и религии...».15
Почти нет сомнений, что Одоевский читал только что оконченную «Космораму», корректура которой еще 9 января была у него в руках (продолжение в это время не было еще полностью готово, и Краевский, печатавший повесть в первом номере «Отечественных записок», был в отчаянии).16 Эта повесть также была посвящена Е. П. Ростопчиной и на этот раз вполне удовлетворяла требованиям «страшной повести»: тема двоемирия реализовалась в ней в образе центрального героя, обладателя таинственной косморамы: он принадлежит одновременно земному и потустороннему миру, как и встречаемые им люди; две ипостаси их зеркально повторяют друг друга, являясь как бы моральными антиподами.
В повести были и мотивы несомненно мистические; к ним принадлежал мотив возвращения на землю мертвеца графа. Заметим при этом, что психофизиологический ряд объяснений в повести оставался, но лишь как реликт: упоминание о «двойном зрении», «нервической болезни», которую рассказчик сопоставляет с сомнамбулизмом, не мотивирует последующих происшествий и выглядит скорее как ложная мотивировка, довольно обычная в фантастических повестях.17
Из записи Тургенева мы знаем, что на том же вечере возник спор, касавшийся «высших начал психологии и религии». Мы должны предполагать, что «высшие начала психологии» — это и были «тайны магнетизма и seconde vue» — одна из центральных проблем, занимавших Одоевского в конце 1830-х годов, которая имела для него принципиальное, мировоззренческое значение. Учение Месмера, получившее распространение с 1770-х годов и захватившее романтическую философию и литературу, в том числе и Гофмана,18 оживленно обсуждалось в это время в русских журналах и специальных трудах; с появлением романа Греча «Черная женщина» (1833) и обширного отклика на него Сенковского «Черная женщина и животный магнетизм» (1834) оно стало фактом литературы.
Сенковский подробно излагал основы учения в той его форме, какую оно приобрело к 1830-м годам. В общих чертах оно сводилось к утверждению, что нервная энергия, сосредоточивающаяся в периферийных нервных центрах человеческого организма, — «тонкое, эфирное вещество», находится в сродстве с энергией магнитной и электрической и подчиняется тем же законам поляризации и распространения по проводящим каналам, что и последняя. Собственно она и составляет «животную душу» человеческого существа, — душу едва ли не материальную, управляющую его инстинктивной деятельностью. Все явления типа «магнетического сна», сбывающихся прорицаний, ясновидения и т. п. не имеют за собою ничего сверхъестественного; напротив, это низшие психические функции организма, «искусственное развитие самого простого, скотского инстинкта». Сенковский спешил отделить эти животные функции от высшей духовной деятельности человека — он освобождал место для религии, сфера которой сужалась подобными материалистическими объяснениями.
Сенковский излагал теорию магнетизма огрубленно, но в общих чертах верно; в «Письмах к Ростопчиной» Одоевского мы находим почти то же самое толкование. За этими «письмами», преследовавшими цель популяризаторскую, стояла занимавшая внимание Одоевского теория инстинктивного поведения. В его черновых бумагах сохранилось множество набросков, озаглавленных «Наука инстинкта».19
До тех пор, пока дело шло о механизме инстинктивного поведения, Одоевский и Сенковский не расходились друг с другом. Это и понятно: они пользовались одними источниками. Оценивая же феномен с исторической и мировоззренческой точки зрения, они оказывались на принципиально противоположных позициях. Для Одоевского инстинктуальная сфера была не проявлением чисто животного начала, но остатком первоначальной гармонии человека с природой, формой интуитивного знания, присущей первобытному человеку. Вытесняемый рациональным началом, инстинкт ослабевал, и это вело к деградации человеческого общества. От этих исходных посылок отправлялся Одоевский, ища элементов высшего знания в народном предании, суеверии, в магии и астрологии, уходящих своими корнями в наивное первобытное сознание. Следы этой общей концепции можно уловить в «Письмах к Ростопчиной», где акцент, впрочем, был поставлен на естественной природе «чудесного», и в самих «мистических» повестях Одоевского. Его фантастика остается почти неисследованной с этой точки зрения, однако уже при поверхностном чтении в «Саламандре» и даже «Космораме» (наиболее «мистичной» из всех его повестей) обнаруживается рациональная основа, организующая художественное целое, — ряд характерных мотивов, восходящих к его общей философской и психологической системе и иллюстрирующих ее.20 Именно поэтому от чтения «Косморамы» столь легко было перейти к «высшим началам психологии и религии» и естественно возникал вопрос, заданный Тургеневым: уместна ли форма «сказки» (фантастической повести) для постановки этих проблем. Заметим, что уже Сенковский, рецензируя «Черную женщину», писал об этом: он находил, что, хотя «ученая цель» автора и «несбыточна», в литературном отношении тема животного магнетизма может стать источником «сильной занимательности».21 Но для Одоевского — и его слушателей — не «занимательность» стояла на первом плане: как мы видели, Тургенев склонен был усматривать принципиальный разрыв между «формой» и «предметом» «Косморамы». Речь шла, таким образом, о самой структуре и пределах возможностей фантастической повести.
Вопрос, поставленный Тургеневым, был особенно интересен тем, что он не был выражением индивидуального мнения. За ним стояла целая эстетика, предъявлявшая определенные требования к самому жанру. Вспомним, что Пушкин отказывал «Сильфиде» и «Сегелиелю» в «истине и занимательности» и при всей своей деликатности к литературным сотрудникам дал это почувствовать Одоевскому. Мнение Пушкина не было секретом; несколько мемуаристов донесли до нас ироническую интонацию, с какой он говорил о фантастике Одоевского вообще: если, как уверяет Одоевский, писать «фантастические сказки» трудно, зачем же это делать? «Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно». Эти слова в разных вариациях приводили П. В. Долгоруков, В. Ф. Ленц, В. А. Соллогуб, — двое из них входили в 1839 — 1841 гг. в довольно близкое лермонтовское окружение, третий был связан с Виельгорскими. Слух об ироническом отношении Пушкина к фантастике Одоевского дошел и до Ю. Арнольда, университетского товарища Соллогуба. Почти нет сомнений, что он был хорошо известен и в семействе Карамзиных.22
Принцип «легкости» в фантастической повести был эстетическим требованием; за метафорическим бытовым определением стояла определенная литературная позиция. Естественность движения событий, бытовое правдоподобие сферы, из которой незаметно вырастает фантастический мотив, были художественными принципами «Пиковой дамы». Именно в этом качестве пушкинской прозы видел Достоевский «верх искусства фантастического». Фантастика Одоевского стояла на противоположном эстетическом полюсе: она ежеминутно грозила превратиться в философский мистицизм или аллегорию, иллюстрирующую общую идею; так было в «Сильфиде», «Сегелиеле», «Космораме» и — в меньшей степени
— в «Саламандре», где он уже начал приближаться к пушкинским принципам повествования.23
Мы постараемся показать далее, что этот не оформившийся, но ясно ощущавшийся литературный спор не остался без влияния на позицию Лермонтова.
2
Тем временем проблематика и литературная техника «Штосса» подготавливались и в собственном творчестве Лермонтова. Петербургские реалии, отразившиеся в повести, восходят еще к 1839 г.; этот год выставлен и в ранних вариантах. Исследователи «Штосса» уже обращали внимание на отдельные точки соприкосновения повести с «Фаталистом» (тема «вызова судьбе») и с лирикой Лермонтова, в частности со стихотворением «Как часто, пестрою толпою окружен» (1840), где близкими чертами набросан образ «воздушной красавицы».24 Указывалось неоднократно, что тема «проигрыша жены» в анекдотическом плане разработана в «Тамбовской казначейше» и что некоторые сцены «Штосса» (описание картины, портретные характеристики) ведут к «Княгине Лиговской». Число этих сопоставлений можно увеличить.
Основа композиции «Фаталиста» — необъяснимое в целом сцепление случайных событий — излюбленный сюжетный прием фантастических повестей, широко применявшийся, в частности, Гофманом («Zusammenhang der Dinge»)25 и прекрасно известный русским новеллистам начиная с 1810-х годов (он есть и у Марлинского, и у Одоевского, и в «Пиковой даме» Пушкина). С этим приемом теснейшим образом связан прием «двойной мотивировки», о котором у нас уже шла речь. Все это потом будет повторено и в «Штоссе». Другой сближающий момент — тема «сверхчувственного», поставленная в «Фаталисте» и имеющая психологический, точнее, психофизиологический аспект. Предчувствие смерти собеседника играет в поведении Печорина важную роль; более того, между ним и Вуличем устанавливается некая иррациональная связь и самый их диалог направляется побуждениями, в которых они не отдают себе полного отчета и которые оказываются мотивированными последующими событиями. Не лишено вероятия предположение, что здесь Лермонтов опирался на интересовавшие его психофизиологические теории Лафатера и Галля; в 1830-е годы они получают довольно широкое распространение во французской литературе, — в частности, у Бальзака мы прямо находим заимствованное из них суждение о возможности угадать на лице человека печать близкой насильственной смерти.26
Переходя к мотивам более частным, мы должны отметить в «Фаталисте» мотив «роковой» карточной игры. Роль его в новелле существенна. Вулич — игрок, неудачливый, но страстный, не оставляющий тальи даже под пулями противника. Его испытание судьбы также есть форма игры, «лучше банка и штосса». Мотив игры в «Штоссе» соотносится не только с наиболее очевидным аналогом — в «Тамбовской казначейше»; он включается в целый ряд вариаций, до «Маскарада» и «Фаталиста». Заметим в последней новелле и развернутое сравнение, которое в «Штоссе» предстает как сюжетно реализованное: «усталость, как после ночной битвы с привидением» (6, 343).
Если мы обратимся к лирике Лермонтова 1840 — 1841 гг., мы еще больше увеличим число аналогов. Помимо облика «воздушной красавицы» («Как часто пестрою толпою окружен»), мы сможем указать на целый цикл стихотворений с мотивом посмертной любви: «Любовь мертвеца» (мартовское стихотворение 1841 г., непосредственно предшествующее «Штоссу»), «Сон», перевод из Гейне «Они любили друг друга так долго и нежно», «Нет, не тебя так пылко я люблю», даже «Выхожу один я на дорогу». Понятно, мотив в каждом из них варьирован по-разному, но в том или ином виде он присутствует или намечен, причем все перечисленные стихотворения написаны почти одно за другим — весной и в начале лета 1841 г.
К этим аналогиям нужно добавить еще две, лежащие за пределами собственно литературы. Одну из них дает письмо Лермонтова к К. Ф. Опочинину от начала 1840 г. «Вчера вечером, — пишет Лермонтов, — когда я возвратился от вас, мне сообщили, со всеми возможными предосторожностями, роковую новость. И сейчас, в то время, когда вы будете читать эту записку, меня уже не будет» (6, 450, 745).
Перед нами — построенное по литературным канонам «страшного» предсмертное письмо, содержащее элемент тайны. Оно написано на одной стороне листа. Внизу, однако, стоит помета «переверните»; перевернув листок, адресат должен был прочесть пародийное «разрешение», совершенно снимающее ужасный смысл начала: меня «не будет» «в Петербурге. Ибо я несу караул». Мистификация создается простым рассечением текста, нижним обрезом бумажного листа, создающим неизбежную паузу при чтении, «ложную концовку». Мы увидим далее, что это «генеральная репетиция» литературного приема, примененного в «Штоссе».
А. Чарыков, встретивший Лермонтова в Ставрополе несколькими месяцами позже, рассказывал о затеянной поэтом математической игре, по поводу которой Лермонтов произнес целую речь, упоминая, между прочим, о какой-то таинственной связи между буквами и цифрами. Речь эта, вспоминал мемуарист, «имела характер мистический; говорил он очень увлекательно, серьезно; но подмечено было, что серьезность его речи как-то плохо гармонировала с коварной улыбкой, сверкавшей на его губах и в глазах».27 Эта новая мистификация также имеет, как мы постараемся показать, черты близости с замыслом «Штосса». Смысл пародийной «речи» — в выявлении псевдомистических потенций обычного математического фокуса. По-видимому, Лермонтов так или иначе слышал о числовом языке мистиков, который, между прочим, интересовал и Одоевского: в его заметках есть рассуждение о «всеобщем языке», который можно было бы составить, «приложив математические формы к явлениям духа человеческого»; он отмечал для себя и мысль Эккартсгаузена о возможности угадать всякое происшествие «посредством Науки числ».28
В сложной литературной амальгаме «Штосса» нашли себе место, таким образом, элементы самые разнородные: от лирических тем и сюжетных мотивов новеллы до шуточных мистификаций, переносящих литературные приемы в бытовую среду. Все или почти все эти элементы уже присутствуют в творческом сознании Лермонтова, когда он приезжает в Петербург в феврале 1841 г.
3
Лермонтов приехал «на половине масленицы», т. е. около 5 февраля.29 Уже 8 февраля Плетнев застает его у Одоевского.
К этому времени в руках у Одоевского находятся две литературные новинки: только что вышедшие из печати его повести «Южный берег Финляндии в начале XVIII века» (в «Утренней заре на 1841 год») и «Саламандра» (в первом номере «Отечественных записок») — части фантастической дилогии, впоследствии получившей общее название «Саламандра». В этих повестях принципы «естественнонаучной фантастики» Одоевского нашли, быть может, наиболее яркое воплощение. «Тайны магнетизма и seconde vue», выступавшие в «Космораме» в окружении мистических мотивов, были содержанием и этих повестей; исторический сюжет позволил Одоевскому ввести тему алхимии. По первоначальному замыслу, «Саламандра» была связана с «Сильфидой» как часть цикла повестей об общении человека со стихийными духами.
При всей перегруженности фантастикой и философией повести Одоевского были рациональны и вырастали на том же естественнонаучном субстрате, который дал жизнь и «Письмам к Ростопчиной». Эльса — «Саламандра», представительница младенчествующего народа, живущего инстинктом и интуицией, в силу этого оказывается предрасположена к сомнамбулическому визионерству; близость ее к природным началам делает ее носительницей тайного знания, лежавшего в основе учения древних алхимиков, и т. д. По психической организации (раздвоение личности) Эльса близка к «орлахской крестьянке» — уже прямо медицинскому феномену, который Одоевский описывал почти в это же время. В эту общую концепцию повести вплелись и тема современного скептицизма, и тема посмертного существования, и ряд других, находивших аналоги в недавно перечитанных Лермонтовым сочинениях Гофмана.30
Повести Одоевского неизбежно должны были попасть в руки Лермонтова тотчас по приезде; он был близок с автором и участвовал в «Отечественных записках» и альманахах Владиславлева. Помимо всего прочего, в феврале — марте 1841 г. интерес к проблематике фантастических повестей мог поддерживаться у него тесным общением с Ростопчиной и Жуковским. Из обнаруженного недавно дневника Жуковского за 1841 г. становится известной хронология этого общения. 27 февраля Плетнев видит Лермонтова в салоне Карамзиных в обществе Ростопчиной и Смирновой-Россет. 9 марта в столицу приезжает Жуковский, вечером того же дня он также посещает Карамзиных и находит там снова Ростопчину и Лермонтова. «Двух дней довольно было, чтоб связать нас дружбой», — вспоминала впоследствии Ростопчина, а 13 марта Жуковский записывает в дневник слова, по-видимому сказанные ею: «Лермонтов: влюблен ли он в меня? Нет!». Несколькими днями ранее она пишет прощальное стихотворение на отъезд Лермонтова (как известно, в этот раз Лермонтов получил месячную отсрочку). 17 марта Жуковский видится с Лермонтовым и Ростопчиной у Смирновой, 19 марта — обедает у Ростопчиной в обществе С. Н. Карамзиной, Лермонтова и других.31
В это время постоянных встреч с Карамзиным, Ростопчиной, Жуковским, Одоевским, Виельгорскими Лермонтов начинает писать свой «отрывок из начатой повести».
4
Начало работы Лермонтова над новой повестью обозначено планом: «Сюжет. У дамы: лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. Дочь: в отчаянии, когда старик выигрывает. Шулер: старик проиграл дочь, чтобы <?> Доктор: окошко» (6, 623)32
План этот можно датировать довольно точно. Он записан карандашом в альбоме 1840 — 1841 гг. на л. 6 об. Предшествующие листы заняты ранней редакцией стихотворения «Любовь мертвеца» («Живой мертвец», л. 2), черновиком «Сосны» (л. 3; здесь же — два рисунка) и «Предисловия» к «Герою нашего времени» (л. 4 — 6); последующие — рисунками, изображающими кавказский пейзаж (л. 7), трех всадников (л. 8) и верховую прогулку (л. 9); далее идет черновик «Последнего новоселья» (л. 9 об. — 11а). Первое стихотворение, как нам известно теперь, было окончательно завершено к 10 марта 1841 г.;33последнее, по воспоминаниям А. П. Шан-Гирея, было написано в его присутствии «на святой неделе», т. е. в промежутке между 30 марта и 5 апреля;34 сложилось оно не сразу, и начало работы над ним, отраженное в нашем автографе, следует отнести, вероятно, к концу, а может быть, даже ко второй половине марта. Дополнительные хронологические указания дает нам «Предисловие» к роману. Известно, что в печатном издании оно не попало на свое законное место в начале первой части и было напечатано перед второй частью с особой пагинацией. По предположению Б. М. Эйхенбаума, это было связано с поздним поступлением рукописи в типографию (6, 650). Положение автографа среди других, датируемых мартом 1841 г., подкрепляет эту гипотезу. Уже в начале апреля «Отечественные записки» сообщают, что первая часть романа отпечатана;35 очевидно, самая идея предисловия возникла после начала печатания книги — между 6 и 11 марта. Таким образом, по всем данным, план «Штосса» должен быть отнесен к середине марта 1841 г. Работа над повестью занимает вторую половину месяца, и, видимо, в конце марта — начале апреля происходит чтение «Штосса», о котором вспоминала Ростопчина. Она не ошибалась, сообщая, что Лермонтов начал повесть «только накануне».
Все это важно отметить потому, что первоначальный план «Штосса» связан с написанной частью повести гораздо теснее, чем это обычно предполагается, и может прояснить в ней некоторые не вполне понятные места. Это и естественно: «Штосс» пишется очень быстро, и замысел не успевает претерпеть сколько-нибудь существенной эволюции. Из воспоминаний Ростопчиной мы знаем обстоятельства, при которых эта повесть стала впервые известна: Лермонтов объявил в дружеском кружке, что намерен прочитать новый роман, потребовал четырехчасового внимания мания и ограниченного числа слушателей; около тридцати избранников сошлись, обуреваемые любопытством, принесли лампу, заперли двери. Лермонтов явился «с огромной тетрадью под мышкой», начал читать — и «через четверть часа» чтение было окончено. «Неисправимый шутник» мистифицировал свою аудиторию «первой главой какой-то ужасной истории»; «написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен».36
При всей скудости сведений, сообщенных Ростопчиной, они содержат кое-какие важные для нас детали, которые следует сопоставить с уже известными нам данными. Первое, что нам важно, — то, что Лермонтов читает повесть, и читает в совершенно определенном кругу. Этот круг насчитывает «около тридцати» человек, в числе которых была и Ростопчина. Почти не рискуя ошибиться, мы можем утверждать, что в числе слушателей были Карамзины и их постоянные посетители — Соллогуб, Виельгорские, Смирнова, быть может, Одоевский. Нам просто неизвестен иной столь многочисленный кружок петербургских знакомых Лермонтова и Ростопчиной, кружок, который мемуаристка могла бы обозначить словом «мы». Именно этот кружок, как нам уже известно, питал повышенный интерес к «фантастическим повестям», которых Ростопчина настойчиво требовала от Одоевского. В этом кружке Лермонтов год назад слушал «Космораму», а тринадцатью или четырнадцатью годами ранее здесь рассказывал свои «страшные» новеллы Пушкин. Традиция устных чтений и рассказов «в духе Гофмана» продолжала здесь жить, и в нее органически включалось лермонтовское чтение.
Второе существенное обстоятельство, уже не отраженное в мемуарах Ростопчиной, выясняется из самого содержания прочитанного отрывка. Он имел, условно говоря, два плана: литературный и бытовой. Литературно он был ориентирован на пушкинский отрывок «Гости съезжались на дачу», первая часть которого только недавно (в 1839 г.) появилась в сборнике «Сто русских литераторов». Отсюда пришли к Лермонтову фамилия «Минская» (у Пушкина — «Минский») и характерная схема взаимоотношений героя и героини — «наперсничество», род дружеской короткости, почти «amitié amoureuse», которая, между прочим, связывала Лермонтова и Ростопчину или Лермонтова и С. Н. Карамзину. Но в этой литературной рамке оказались заключены слушатели, действовавшие как герои повести: по-видимому, сам Лермонтов («гвардейский офицер»), А. О. Смирнова, а может быть, и Ростопчина (Минская), Виельгорские (музыкальный вечер происходит «у граф. В.»). В первоначальном варианте дата вечера конкретизирована: это 19 сентября 1839 г. — день именин Софьи (т. е. Виельгорской-Соллогуб и Карамзиной). Дату затем Лермонтов убрал: излишняя конкретизация места и прототипов не входила в его намерения; он сохранял ту меру обобщенности, при которой реальные лица не могли быть узнаны полностью. Между прочим, это тоже был пушкинский прием: в отрывке «Мы проводили вечер на даче» (в то время не напечатанном и Лермонтову, конечно, не известном) Пушкин выводил В. П. Титова (Вершнева) и А. И. Тургенева (Сорохтина) так, что узнаваемыми были лишь отдельные черты характера и поведения. Наконец, фабульным центром Лермонтов делает петербургский анекдот, получивший популярность зимой 1839 г., когда «бедная девица Штосс» выиграла в лотерею 40 000 рублей; об этом говорил весь город, и Вяземский тогда же писал родным, каламбурно обыгрывая фамилию: «А я-то что-с? — спрашиваю я у судьбы, что я тебе в дураки, что ли, достался?».37 Повесть, таким образом, оказывается очень «приближенной» к своей аудитории.
Это «светская повесть», построенная по пушкинским образцам, — повесть для слушателей «реалистическая», т. е. с хорошо известным им конкретным фоном и взаимоотношениями действующих лиц. Она близка к устному анекдоту, и в этом ее принципиальное отличие от литературной и философской фантастики, например, Одоевского, которой она объективно противопоставлена. Мы не знаем, был ли здесь элемент конкретной и сознательной пародии или полушутливой полемики, но Лермонтов как будто следует пушкинскому правилу, память о котором сохранилась в кругу Карамзиных: фантастические повести только тогда хороши, когда писать их «нетрудно». Поэтому он с особым вниманием разрабатывает мотивировочную сферу «Штосса». В основе своей она Лермонтовым не была изобретена заново, но лишь последовательно выдержана: большинство фантастических повестей 1830-х годов (в том числе и некоторые повести Одоевского) строились на приеме «двойной мотивировки», где естественный и сверхъестественный ряд объяснений как бы уравнивались в правах и читателю «подсказывался» выбор — обычно в пользу второго. Этот прием мы обозначим как «суггестивность» — термин, принятый, в частности, исследователями так называемого «готического романа». В сознании литераторов 1830-х годов прием этот нередко связывался с именем Гофмана. Одоевский писал об этом: «Гофман <...> изобрел особого рода чудесное», он «нашел единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую — действительную»; он примиряет чудесное с «пытливым духом анализа», свойственным человеку XIX века.38
В повести Лермонтова «действительность» узнавалась слушателями как их собственный повседневный быт. Фантастика приближалась к ним, приобретая черты зримой реальности. Таков был замысел, идущий от устной новеллы.
Вместе с тем суггестивность повести была особого рода. Она опиралась на ту «физиологическую», «естественнонаучную» основу, на которой выросли и повести Одоевского и которую он прокламировал в своих «письмах» к Ростопчиной. Здесь нам приходится обратить особое внимание на фигуру Лугина.
5
Уже первые исследователи «Штосса» отмечали то обстоятельство, что Лугин не похож на известный в романтической литературе тип художника, обуреваемого «священным безумием». С. И. Родзевич писал, например, что мотив безумия развернут в повести «неумело» и предстает скорее как «внезапная болезнь», а не следствие «жизни в поэзии».39 Наблюдение во многом верное, но упрек несправедлив. Лугин и не мыслился как «безумный художник» традиционной романтической повести. Он, действительно, «болен», он одержим «постоянным и тайным недугом» (6, 354), и в его внешности подчеркнуты признаки «ипохондрии». Небезынтересно, что портрет Лугина и приданные ему психологические особенности близко соотносятся с описанием внешности и характера Печорина из «Княгини Лиговской» и уже современники Лермонтова (А. Меринский) находили в нем черты автохарактеристики.40 Портрет Лугина «физиологичен» еще в большей мере, чем близкие к нему портреты Печорина или доктора Вернера (при этих последних, кстати, мы находим ссылки на Лафатера и френологов — 6, 124, 269). Но в «Штоссе» художественный талант и острота психической жизни героя находятся в прямой связи с его физической ущербностью. В портрете Лугина есть своего рода эстетика, получающая почти «научное» обоснование: подлинный художник не прекрасен (традиционно романтический тип) и не безобразен (тип «неистово-романтический»); он болезнен и некрасив, и его творческая фантазия есть плод необычайного нервно-психического напряжения. Вспомним, что так или почти так сторонники «животного магнетизма» склонны были толковать интуицию и визионерство.
Здесь Лермонтов прямо соприкасался с «Письмами к Ростопчиной» Одоевского, и в тексте «Штосса» мы обнаруживаем совпадения с ними — почти скрытые цитаты. Второе «письмо» Одоевского начиналось рассуждением о зрительных галлюцинациях, вызванных болезненным состоянием внутренних органов. «Так, например, одержимому желтухою все предметы кажутся желтыми».41 Это состояние лермонтовского Лугина: «... вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми...» (6, 353). «Должно приписать этот обман зрения особенному сочувствию глаз с желудком», — продолжает Одоевский, и Лугин словно откликается: «Они (доктора, — В. В.) уже испортили мой желудок» (6, 616). Этот черновой вариант потом заменяется: «Доктора не помогут — это сплин!» (6, 353). Далее у Одоевского следует рассказ о гравере, который страдал расстройством цветового зрения и ошибался в выборе красок, отчего его рисунки «имели самый странный, фантастический колорит».42 «...что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — продолжает Лугин. — <...> Добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите <...>. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились...» (6, 353).
Описанные симптомы психического, или, точнее, нервного, расстройства Лугина, конечно, не совпадали полностью с теми, которые описывал Одоевский, но слушатели (а в их числе была и графиня Ростопчина, а может быть, и сам Одоевский) должны были отметить сходство и, более того, усмотреть в нем элементы тонкой пародии. Пародия заключалась вовсе не в том, что Лермонтов предлагал читателю объяснять все случившееся с Лугиным фантомом больного сознания. Такое рационалистическое толкование подсказывалось «письмами» Одоевского к Ростопчиной, и исследователи «Штосса» иногда склонны были остановиться на нем и объявлять Лугина прямо пародийным, комическим или развенчиваемым персонажем. Между тем дело обстояло как раз противоположным образом: Лермонтов каждый раз снимал рационалистическую трактовку событий. Только что объясненная «естественным» путем тайна в процессе развертывания сюжета вновь оказывалась тайной необъясненной. Даже в самом описании галлюцинаций оставалось таинственное «нечто». Цветовая иллюзия Лугина была выборочной; «желтыми» ипохондрику представлялись только лица (так было и в плане: «лица желтые»). Далее Лермонтов вводил мотив слуховой галлюцинации, не менее естественной при болезненном состоянии героя, но им ощущение таинственности и необъяснимости только усиливалось, ибо галлюцинация эта была информативной. Голос подсказывал адрес: «... в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного сове<тника> Штосса, квартира номер 27» (6, 355). Этот мотив также присутствовал в первоначальном плане («Адрес»). С появлением его в повести сюжетное напряжение увеличилось, потому что в сферу таинственного включился городской быт.
6
Вторая главка повести начинается городским пейзажем, в котором иногда видят следы «гоголевской манеры» и предвестие «натуральной школы». Можно думать, что Лермонтов следует здесь и традиции Бальзака и его последователей.43 Подобные же описания мы находим в «Княгине Лиговской». В концентрации «физиологически грубых» деталей, неоднократно осужденных в многочисленных критических статьях, есть нечто от демонстрации. В свою пейзажную зарисовку Лермонтов свободно вводит обязательного «чиновника» в хлопающих калошах, грязные дома, рыжие полости саней извозчиков, наконец, «шум и хохот в подземной полпивной лавочке», откуда выталкивают «пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке» (6, 356). Весь этот «низкий быт» погружен в атмосферу туманного ноябрьского утра, с мокрым снегом и подчеркнуто тусклой цветовой гаммой: лица прохожих «зелены», отдаленные предметы, полускрываемые туманом, кажутся «какого-то серо-лилового цвета».
Городской пейзаж «Штосса» при внешней его «физиологичности» и приземленности насквозь субъективен. Он увиден глазами болезненно восприимчивого Лугина, как бы вырывающего отдельные эпизоды и предметы из общей картины и рассматривающего их словно сквозь увеличительное стекло. Туман, окутывающий улицы, скрадывающий очертания предметов, незнакомая часть города — все это признаки «чужого места», скрывающего тайну. «Чужим» и жутким становится также знакомое и привычное. Литература «тайн и ужасов» знает этот прием — «Verfremdung» — «остранение», но в специфической функции создания атмосферы таинственной угрозы;44 Лермонтов пользуется им с необыкновенным мастерством. В «чужом месте» субъект выпадает из сферы привычных, ориентирующих его связей, и это происходит тем естественнее, что продолжает действовать уже заявленная мотивировка — «ипохондрия» Лугина, его повышенная нервозность. Нежелание проезжего извозчика ответить Лугину на вопрос о Столярном переулке, — нежелание, легко объяснимое леностью или пренебрежением, кажется ему «странным», и это есть знак разрушения коммуникативных связей. И вместе с тем в повести уже возникли два субъективных плана: реальный и ирреальный. Оба они равноценны. Не забудем, что разыскивается мистически подсказанный «Штосс», и разыскивается он в самой гуще реальной, сниженной, «теньеровской» петербургской действительности.
Одновременно с разрушением «нормальной», эмпирической коммуникативной сферы возникает «вторичная коммуникация», интуиция, внутренний голос: «...что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал» (6, 357). Эта вторичная коммуникация великолепно материализуется доской без надписи на искомом доме.
Отсутствие надписи есть маркирующий признак, и в нем снова сталкиваются две сферы — реальная и ирреальная. Сама по себе доска без надписи не есть что-либо необычайное, в особенности для дома, только что проданного новому хозяину. Но читатель (и слушатели) повести уже привыкли «остранять» предметы: суггестивность определилась как основной прием повествования.
Дом таинственного Штосса, внешне не отличающийся от остальных, — особый дом. Он не имеет номера, т. е. не занимает места в ряду прочих домов. Он наделен «атрибутом отсутствия», отрицательным признаком, как Петер Шлемиль, не имеющий тени, или герой повести Гофмана, потерявший свое отражение. Тем самым он становится таинственным и жутким, — варьируется прием «Verfremdung». Он принадлежит хозяину, не имеющему имени, т. е. реального существования, — как мы увидим далее, «Штосс» — имя иллюзорное, не настоящее, каламбурное.
Таким образом, место действия определяется как «таинственный дом». Лермонтов вводит своего читателя в русло определенной традиции, а именно традиции литературы тайн. Совершенно безразлично, сделано это сознательно или нет. Функционально «замок» классического романа ужасов равноценен уединенному «дому с привидениями». Гофмановский «Пустой дом» («Das öde Haus», 1817), например, построен в значительной мере на этом мотиве. Ближайший источник мотива здесь, по-видимому, неуловим, да он и несуществен. Важно установить его наличие.
Под воротами «таинственного дома» разгребает снег дворник. В его беглой зарисовке вновь ощущается манера «физиолога-натуралиста»: дворник — «в долгополом полинявшем кафтане, с седой давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком» (6, 357). Лугин вступает с ним в разговор, который мог бы служить довольно ярким примером тяготения автора к формирующейся «натуральной школе»,45 если бы за буквальным смыслом его слов не скрывался иной, понятный только Лугину; дворник же дает ему неосмысленный, сырой, но весьма выразительный материал: « — Чей это дом? — Продан! — отвечал грубо дворник. — Да чей он был. — Чей? — Кифейкина, купца. — Не может быть, верно Штосса! — вскрикнул невольно Лугин. — Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса, — отвечал дворник, не поднимая головы» (6, 357).
Разговор строится внешне по обычной логической схеме: Лугину известно, что это дом Штосса, дворник как будто его дезинформирует,
Лугин возмущается, дворник объясняет, что в доме сменился хозяин и Штосс стал владельцем лишь с недавнего времени. Однако очевидно, что эта коммуникативность насквозь ложна, так как поведение Лугина в бытовом смысле неадекватно, равным образом как его собственная речь и восприятие чужой. Лугин не знает, чей это дом, и его предположение, что хозяином должен быть некий, возможно, и не существующий «Штосс», ни на чем не основано, кроме как на слуховой галлюцинации. Это полубезумное предположение дворник совершенно эпически подтверждает и, более того, сообщает, что мифический Штосс — не прежний, а настоящий хозяин дома, купивший его у купца Кифейкина. Помимо своей воли и бессознательно дворник, только что описанный в «теньеровском» бытописательном ключе, втягивается в тот же мир ирреальных отношений, которому принадлежит и Штосс, и таинственный голос Лугина, и сами его психика и поведение. Мотивированность ответных реплик дворника Лугину случайна, и случайность эта таинственна. Эта таинственность существует для читателя и для Лугина; дворник не ощущает ее. Однако дело меняется, когда речь заходит о «27 нумере». Здесь «нечисто», и дворник это знает; он не подозревает лишь о фатуме, который влечет Лугина к этому месту. Рассказ его об истории странным образом пустующей квартиры — это обычное для «романа тайн» предвестие, но осложненное всей только что рассмотренной ситуацией.
Далее развертывается интерьер — комнаты со следами разрушения, имеющие «несовременную наружность», с овальными зеркалами в рамках рококо, с мебелью со стершейся позолотой. Это хорошо известный интерьер дома с привидениями, непременный сюжетный мотив классического «романа тайн», возрожденный французской «неистовой словесностью». Русской литературе он был известен еще со времени широкой популярности Радклиф и утвердился в ней в разных вариантах и модификациях: замка западноевропейского образца («Вечер на Кавказских водах в 1824 году» А. Марлинского, 1830), старорусской усадьбы («Латник» А. Марлинского, 1831). В «Сказке для детей» Лермонтов живописал подобным же образом петербургский дом, с запущенными залами, с длинными и бесцветными отражениями в зеркалах и неясными шорохами в отдалении: «То были тени предков — или мыши!» (4, 179). Такой же «дом с привидениями» появлялся в «Саламандре» Одоевского: старобоярский московский особняк, где на стенах «рассыпаны» княжеские гербы и висят фамильные портреты. В «Штоссе» — последовательное снижение: в таинственном доме — «четыре комнаты и кухня», сосновый пол выкрашен под паркет, лестница «довольно грязна», на обоях по зеленому грунту изображены красные попугаи и золотые лиры. Это не историческая «руина», а запущенная нежилая квартира средней руки. Но в ней есть один уже прямо таинственный аксессуар — портрет.
7
Мотив портрета в «Штоссе» неоднократно привлекал к себе внимание, и нам придется говорить о нем подробнее. Как и некоторые другие мотивы и детали повести, он был намечен уже в «Княгине Лиговской». В портрете Лары, украшавшем кабинет Печорина, «мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке», «более презрительной, чем насмешливой» (6, 128). По той же схеме описан портрет старика в «Штоссе»: он был писан неопытной рукой и в целом плох, — только в линии рта заключалась «страшная жизнь», «неуловимый изгиб, недоступный искусству», «придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно» (6, 359). В описании этом мы узнаем популярнейший мотив «оживающего портрета», хорошо знакомый русскому и западному романтизму, — от «Мельмота-Скитальца» до «Портрета» Гоголя. Все портреты такого рода имеют сверхъестественный признак, обеспечивающий оригиналу посмертное бытие: «жизнь» сосредоточивается чаще всего в глазах. Как должен был функционировать в «Княгине Лиговской» портрет Лары, мы не знаем; в «Штоссе» описание сокращено, но функция прояснена. Портрет изображает старика — хозяина дома, с призраком которого Лугин сядет играть в штосс.
Этот портрет в повести дублирован. Его набрасывает Лугин в первую ночь, когда остается один в нанятых комнатах. Он рисует, испытав перед этим род нервного пароксизма, и бессознательно воспроизводит портрет старика, висевший против него. «Сходство было разительное» (6, 362). В этот момент слышится скрип двери, ведущей в пустую гостиную; дверь отворяется сама — и появляется старик.
Две мотивировки снова идут рядом. Ночное уединение в сочетании с болезненным состоянием и обостренной фантазией создают психологические предпосылки к галлюцинации. С другой стороны, то, что бессознательно делает Лугин, есть акт «вызова духа», появляющегося как раз в полночь, — традиционно установленное время для привидений, — причем в ночь со вторника на среду, — в день, обозначенный на портрете, — «середа».
Эта сцена, как и самое описание старика, является, как можно думать, также в окружении ассоциаций, понятных слушателям Лермонтова. Одна из них намечена в уже неоднократно цитированных нами «Письмах к Ростопчиной» Одоевского. Одоевский рассказывал, как однажды в полночь в собственном кабинете он услышал «шелест шагов»; «он походил на медленное шарканье больного человека; словом, это были точь-в-точь такие шаги, каких можно ожидать от привидения»,46 Звуковая картина в «Штоссе» довольно близка этому описанию: «За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли <...>. Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая» (6, 362). Одоевский сообщал далее, что слышанные им звуки были акустическим эффектом, произведенным в комнате плеском воды, но человек больной, пораженный какой-нибудь потерей или наделенный «пламенным воображением» (а именно таков лермонтовский Лугин), мог бы путем самовнушения убедить себя в существовании призрака.
Другой ряд ассоциаций, как можно думать, был подсказан Жуковским. В 1838 г. в «Современнике», в одном томе с лермонтовской «Казначейшей», печаталось его «Письмо из Швеции» — плод реальных впечатлений, преобразованных в полупародийную литературную новеллу. Жуковский рассказывал, как в замке Грипсгольм ему отвели для ночлега комнату, посещаемую привидениями, и как «образчик» их он усмотрел в некоей замковой «гостье», избравшей его предметом своего особого внимания — это была «бледная фигура с оловянными глазами, которые тускло светились сквозь очки, надвинутые на длинный нос»; она ушла так «тихо и медленно, что, казалось, не шла, а веяла». Он заканчивал свой рассказ описанием глубокой ночной тишины в его комнате, от которой шел узкий каменный коридор, веявший «сыростию могилы»; на потайной двери висел портрет, «на который нельзя взглянуть не содрогнувшись: лицо как будто какого-то старика — но какие черты его? и видишь их, и нет; зато поражают тебя глаза, в которых явственны одни только белки, и эти белки как будто кружатся и все за тобой следуют». В этом письме есть еще одна точка сближения со «Штоссом»: оно обрывается на кульминации напряжения. «Что же? Я подхожу к своей постели... Но мне надобно оставить перо до следующего письма, в котором доскажу, что случилось со мною в замке Грипсгольме».47
Любопытно, что и та, и другая сцены — бытовые, анекдотические и связанные с реальными лицами. То, что «Штосс» соприкасается с ними, вряд ли случайно. Как мы пытались показать выше, повесть Лермонтова намеренно обнаруживает свою связь с бытовой, внелитературной сферой, с устным кружковым анекдотом, — и в этом заключается часть ее литературного задания. Элемент пародийного снижения, заключенный в рассказе Жуковского, также оказывался близок лермонтовскому замыслу, и, можно думать, Лермонтов им воспользовался.
Вместе с тем, как и очерк Жуковского, «Штосс» далеко перерастал рамки устной новеллы и впитывал в себя литературные мотивы, подвергшиеся трансформации. Часть их, как мы имели случай заметить, ведет к ранней прозе Лермонтова. Физический облик привидения — «серые мутные глаза, обведенные красной каймою», глядящие «прямо без цели» (6, 362, 363), — отчасти напоминает портрет старухи нищенки в «Вадиме» (глаза ее — «два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами», — 6, 55). Фигура его во время волнения «изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался» (6, 363), — так происходило с гротескным «принцем пьявок» в гофмановском «Повелителе блох» и таким же образом, даже текстуально близко, описан призрак в «Саламандре» Одоевского: тень, похожая на человеческую фигуру, образ которой «беспрестанно изменялся», меняя свою форму; «тут было подобие головы, рук, которые то вытягивались, то сжимались, как фигуры на оптических картинах, известных под названием „аморфозных“».48 Но призрак у Лермонтова не бесплотен; его гротескно-натуралистическое изображение противостоит изображению Одоевского и скорее ближе к тому, какое давал Жуковский: «бледное и длинное» неподвижное лицо, «серые мутные» глаза вызывают в памяти облик унылой особы из замка Грипсгольм, с ее длинным носом и «оловянными» глазами. Как и в других случаях, Лермонтов свободно объединяет разные источники и параллели, растворяющиеся в общей амальгаме; господствующая тональность изображения — ироническая и гротескно-натуралистическая, перерастающая затем в «жуткую». Лугин «столбенеет» под «магнетическим влиянием» глаз старика (6, 364), однако особенность ситуации в том, что выходец с того света вступает с ним в естественные, бытовые взаимоотношения и самым своим обликом и поведением наполовину принадлежит бытовой сфере.
Именно в этом месте рассказа возникает ключевой каламбурный диалог, в котором, как в миниатюре, сконцентрировались общие стилевые тенденции повести. Тщетно борясь с нарастающим волнением, Лугин требует от старика разрешения опутавшей его тайны. Имя «Штосс» уже было подсказано ему таинственным голосом, и болезненно напряженное сознание продолжает деформировать действительность, устанавливая в ней некие внелогические связи, как это мы видели в сцене с дворником. На этот раз Лугин случайно попадает на имя Штосса; каламбур включается в систему роковых совпадений и из забавного становится страшным. Над этой сценой Лермонтов работает специально, ища наиболее естественного психологического и речевого контекста. Он пробует варианты: «Как ваша фамилия?», «Как вас зовут?». Собеседник должен переспросить, не поняв или не расслышав вопроса:
«Что-с?» — что в свою очередь воспринимается как ответ. Уже после чтения повести Лермонтов вернулся к этой сцене. По-видимому, сложившийся вариант он ощущал как искусственный: в нем не было передано смятение Лугина, который мог принять вопрос за ответ только в состоянии крайнего нервного напряжения. В записную книжку, подаренную ему Одоевским, Лермонтов вписывает вариант, содержавший оптимальное решение: « — Да кто же ты, ради бога? — Что-с? — отвечал старичок, примаргивая одним глазом. — Штос! — повторил в ужасе Лугин» (6, 623).
Эта сцена едва ли не более всех прочих настраивает читателя на рационалистическое объяснение всего сюжета как порожденного больной фантазией ипохондрика и в то же время яснее, чем другие, показывает ограниченность такого толкования. Вторая действительность, не отделенная от реальной, но сквозящая в ней, строго мотивирована; иррациональный сюжет развивается в рациональном с неумолимой, зловещей последовательностью. Лермонтов, конечно, сознательно представляет его как крепнущую в Лугине навязчивую идею, но ведь именно благодаря этой идее Лугин превращается в трагическую фигуру, вызывающую авторское и читательское сочувствие. Фантастический мир, в котором теперь живет Лугин, фатален и страшен, но он значителен, и, конечно, более значителен, чем реальный мир светских салонов и «петербургских углов». Он составляет основное содержание лермонтовской повести, и именно поэтому мы не можем вслед за многими авторитетными исследователями считать ее произведением антиромантическим, где фантастика подлежит снятию и отрицанию. Дело обстоит прямо противоположным образом: в «Штоссе» не фантазия оборачивается реальностью, а реальность, грубая, эмпирическая, чувственно ощутимая, скрывает в себе фантастику, и в этом мы видим основное литературное задание Лермонтова. Такое толкование поддерживается, между прочим, и сюжетным построением отрывка. Дело в том, что в нем оборвана одна очень важная сюжетная линия, которая показывает нам, что «Штосс» не мыслился исключительно как повесть о художнике. Она связана с мотивом портрета.
8
При всей своей близости к сюжетным мотивам «Мельмота» или «Портрета» Гоголя лермонтовский «Штосс» отличается от них одной существенной особенностью как раз в трактовке «оживающего портрета». Если у Метьюрина и Гоголя портрет действительно оживает, то у Лермонтова он не оживает; более того, он не может ожить, так как не тождествен оригиналу в нынешнем его состоянии. Он изображает человека в расцвете сил — «лет сорока», «с правильными чертами, большими серыми глазами»
(6, 359). Привидение — тот же человек, но одряхлевший и опустившийся. Между ним и портретом лежит целый этап биографии. Это биография игрока, — профессионального и, быть может, не чуждого шулерства. Пальцы, унизанные перстнями, табакерка «необыкновенной величины», изображенные на портрете, — аксессуары игрока; тяжелая табакерка с двойным дном использовалась в «игре наверняка».49 Один из игроков в «Маскараде» — Трущов — появляется с табакеркой (5, 280). На детали костюма, по которым безошибочно узнается игрок, Лермонтов обращал внимание в «Герое нашего времени» (6, 265).
Итак, в повести фиксированы два момента в истории старика. Один обозначен портретом, на котором вместо имени художника написано «середа». Второй застает Лугин, — и первая встреча с призрачным стариком, когда художник впервые играет в штосс на его дочь, также происходит в среду. Вообще старик играет только в среду; требование ежедневной игры создает ему какие-то неудобства. Между первым и вторым моментами — временной разрыв, лакуна; она была заполнена событиями, очевидно содержавшими некую мотивировку сложившейся ситуации.
Мотивировка проясняется пунктом плана: «Старик проиграл дочь, чтобы <?>». В этой записи обычно видят указание на неосуществленное продолжение «Штосса». Но она обозначает, конечно, не продолжение, а предысторию, Vorgeschichte. Преступление, совершенное при жизни, повлекло за собою посмертное заклятие, наказание. Такого рода мотив был центральным в целой группе так называемых «романов о разрешении» («Erlösungroman»), построенных как история блужданий духа в поисках некоей определенной заранее ситуации, в которой он получает «разрешение» и освобождение от проклятия. Элементы этой типологической схемы есть и в «Мельмоте», и в хорошо известных русской литературе романах Шписса (в том числе и в переведенных Жуковским «Двенадцати спящих девах»), и в «Майорате» Гофмана, и в том же «Портрете» Гоголя и т. д.; можно с полным правом сказать, что она вообще принадлежит к числу наиболее популярных в мировой литературе. Без нее не обошелся и Одоевский: намек на нее есть в «Саламандре». Одним из вариантов заклятия, лежащего на преступном духе, является форма его посмертной жизни: он вынужден в качестве призрака периодически повторять сцену своего преступления, — как правило, в том самом месте и в то самое время, когда оно было совершено.
Лермонтовский старик, по-видимому, совершил свое преступление в среду, — и каждую среду он вынужден заново проигрывать свою дочь в опустевшем доме. Ни мотив, ни сюжетный ход подобного рода не были новыми для Лермонтова. В «Тамбовской казначейше» в карты проигрывалась жена и история своеобразного поединка между гусаром, старым казначеем и Авдотьей Николаевной рассказывалась в шутливом, анекдотическом тоне. Как анекдотический сюжет, «проигрыш жены», по-видимому, перешел в бытовую сферу: Пушкин шутливо предупреждал Н. М. Смирнова, чтобы он не ставил на карту А. О. Россет, тогда еще его невесту.50 В «высоком» литературном плане он был разработан Гофманом в «Счастье игрока» («Spielerglück», 1820);51 в 1830-е годы мы находим его, например, в «Рассказах Асмодея» барона А. Вольфа, отрецензированных, кстати, в «Отечественных записках».52
В ранней балладе Лермонтова «Гость» («Кларису юноша любил», неизв. годы) есть интересующая нас ситуация: призраки периодически посещают дом, где совершился акт измены и преступления.
Некоторые детали «Штосса» подсказывают нам и условия «разрешения». Старик обречен все время выигрывать; между тем дочь хочет быть проигранной. Ср. в плане: «Дочь в отчаянии, когда старик выигрывает». Очевидно, проигрыш старика разрушил бы заколдованный круг и освободил бы ее или их обоих, — вероятнее всего, для могилы.
Здесь и возникает в повести тема любви к «воздушному идеалу», которая должна была, вероятно, стать одной из центральных. Она оборвана, но уже по написанной части повести и по планам мы вправе заключать, что именно эта страсть явилась причиной самоубийственного решения Лугина играть до конца и должна была привести его к трагической катастрофе. Все исследователи повести сходились на том, что описание «женщины-ангела» у Лермонтова отличается напряженным лиризмом, заставляющим вспомнить его «Как часто, пестрою толпою окружен...» и «Из-под таинственной, холодной полумаски» (1841), и что оно вовсе лишено иронического начала. Здесь нам еще раз придется напомнить читателю, что вся любовно-психологическая коллизия повести вырастает на автобиографической основе: внешняя непривлекательность Лугина, психологические барьеры в его взаимоотношениях с женщинами (ср. подобные же у Печорина в «Княгине Лиговской» и у Вернера в «Княжне Мери»), стремление к «воздушному идеалу» женщины как форма их компенсации — все это самонаблюдения, интроспекция, преобразованные в лирическую ситуацию поздних стихов.53 Мы не случайно пользуемся здесь «психологической» терминологией: в отличие от лирики «Штосс» и в этом случае аналитичен и «физиологичен»; механизм душевной жизни своего героя Лермонтов ни на минуту не выпускает из вида: опыт психологических анализов «Героя нашего времени» дает себя знать. Он сказывается, между прочим, и в трансформации популярного романтического мотива, которого когда-то коснулся Лермонтов в раннем стихотворении «Поэт» (1828): художник (в данном случае Лугин) пытается запечатлеть на полотне преследующий его женский образ, но безуспешно; эскиз женской головки, многократно перерисованный и все не удававшийся до конца, есть предвосхищение «воздушной красавицы», явившейся ему в виде призрака — дочери старика. «Легенда о Рафаэле» Ваккенродера, известная Лермонтову еще в Благородном пансионе,54 повторена в своих существенных чертах, но получает не эстетико-религиозное, а скорее психологическое обоснование. Очень возможно, что эта сюжетная линия при продолжении повести должна была получить завершение, но всякие предположения здесь гадательны. Если мы добавим ко всему этому уже упоминавшуюся нами группу стихотворений 1840 — 1841 гг. с устойчивым мотивом загробной любви, мы сможем обозначить то лирическое поле, в котором возникают заключительные сцены известного нам отрывка. Они показывают лишний раз, что трактовка всей повести как антиромантической встречает затруднения почти непреодолимые.
В мире фантомов проясняется постепенно смутный и неотчетливый «идеал», который Лугин тщетно пытался запечатлеть на полотне, и вместе с ним проясняется внутренний мир Лугина: в «действительности» он «не мог забыться до полной, безотчетной любви» (6, 354), — здесь он находит ее и вступает за нее в борьбу, в которой должен погибнуть. Это трагедия — но не литературная дискредитация.
9
Эту самую повесть Лермонтов и прочитал в конце марта или начале апреля 1841 г. в сравнительно узком дружеском кружке.
Она была порождением кружка; она имела дело со знакомым слушателям бытом, их бытом, преображенным и ставшим явлением литературы. На ней лежал отсвет полемик о путях фантастической повести — полемик, связанных с именем покойного Пушкина и ныне действовавших Одоевского и Ростопчиной.
Лермонтов почти демонстративно избирал пушкинский принцип — отыскивать фантастическое в глубинах эмпирической реальности и подавать его в остросюжетной новелле, сохраняющей следы своего происхождения из устного анекдота. Пружиной фантастического, которое «писать нетрудно», являлось сцепление случайностей, на первый взгляд не выходившее из естественного круга явлений, но открывавшее возможности двойной интерпретации. Ирония оказывалась здесь важнейшим стилистическим приемом, менявшим субъективное освещение событий, постоянно переводя их из плана естественного в план фантастический, и обратно. Многие из этих принципов уже были достоянием массовой фантастической повести 1830-х годов. «Штосс» впитал в себя широко распространенные мотивы и темы, отчасти уже разработанные или намеченные самим Лермонтовым, — они предстали как художественное единство. Если Достоевский видел особую заслугу Пушкина в том, что в «Пиковой даме» он сумел создать органический сплав «реального и фантастического» (об этом же писал Одоевский в связи с Гофманом), то подобную же задачу решил и Лермонтов в «Штоссе», но с одной существенной разницей. Он выступил как психоаналитик, — как литератор, находящийся на уровне художественных исканий конца 1830 — 1840-х годов; «физиологизм» его повести имел явственно выраженный психологический уклон, и обостренное внимание к тайнам человеческой душевной жизни сближало его с «романтическим натурализмом» раннего Бальзака и Достоевского. Нет необходимости доказывать специально, что эти ранние формы реализма были ближайшим образом связаны с романтическим движением 1830-х годов.
Лермонтов не полемизировал с Одоевским по существу литературной проблематики, — напротив, он использовал его находки и достижения. Нет сомнения, однако, что рационалистический мистицизм Одоевского служил для него одной из точек отталкивания, и, быть может, в противовес «серьезным» фантастическим повестям, каких требовала от Одоевского Ростопчина, он прочел ей и другим «страшную» повесть, которую можно было при желании толковать как шутку и мистификацию. Возможности к такой трактовке открывала ее амбивалентная поэтика. Он создал вокруг чтения атмосферу таинственности — той же самой, которая звучала некогда в его полупародийной речи о магии чисел. Он явился при свечах, с тетрадью, показавшейся Ростопчиной «огромной», и прочитал своим слушателям повесть, специально приготовленную для мистифицирующего устного чтения.
Автограф «Штосса» дает основания для такого предположения.55 По нему видно, что первоначально четвертая (последняя) глава оканчивалась словами: «Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете, часто не обедал». Далее стояла цифра «5»: Лермонтов предполагал начать следующую главу. Отказавшись от этого намерения, он продолжил после какого-то перерыва главу четвертую (продолжение написано более тонким пером, и строки проходят по цифре «5») и в один прием дописал известное нам окончание повести. Соллогуб, располагавший последним листом автографа, напечатал по нему концовку: «Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился» (6, 366).
На этих словах Лермонтов закончил чтение, доведя действие до кульминации и блестяще рассчитав силу эффекта обманутого ожидания. Он сделал то, что до него делал Ирвинг и почти одновременно с ним Жуковский и другие многочисленные русские повествователи, например Марлинский («Путь до города Кубы», 1836; «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», 1830). Повесть была подана слушателям как мистификация.
Как бы ни решался вопрос о дальнейшем ее продолжении, в момент чтения она мыслилась как законченная, ибо самая ее незаконченность оказывалась сознательным художественным приемом. Мы вправе думать, что она была дописана таким образом накануне устного чтения и в расчете на него и в процессе этого чтения получила дополнительные акценты, выдвинувшие на передний план иронически-мистифицирующее начало. Мы сталкиваемся, таким образом, с явлением, которое могли бы обозначить как «конвенциональная», «дополнительная» поэтика, зависящая от особых условий литературного бытования, — в данном случае, устного произнесения текста.
Поясним эту мысль одним примером. Помимо мистифицирующих развязок (типа «Таинственного гостя» Ирвинга или «Черепа-часового», вставленного Марлинским в «Путь до города Кубы»), существовал прием «задержки сюжета», которым широко пользовались журналисты, печатавшие «страшные» повести. Повесть рассекалась на отрывки с тем расчетом, чтобы конец каждого из них заинтриговывал читателя; продолжение было обещано в следующей книжке.56 Разумеется, возможности к такому членению были заложены в самой поэтике «страшной», или «таинственной», повести; на прием «задержки сюжета» и критики, и позднейшие исследователи указывали постоянно как на особо разработанный и культивируемый.57 Тем не менее именно при публикации в журналах он приобретал особую автономность: вынужденные паузы предопределяли темп читательского восприятия, нередко меняли акцентировки, вызывали или, напротив, приглушали дополнительные ассоциации и пр. Прагматическая, утилитарная, «конвенциональная» поэтика как бы надстраивалась над авторским замыслом или вторгалась в него; при отдельном издании романа она исчезала, так как восстанавливались авторское членение текста и нормальный, т. е. предусмотренный заранее, темп его восприятия.
Эта-то «конвенциональная» поэтика у Лермонтова и стала частью авторского замысла, — не первоначального, но возникшего вместе с намерением прочитать «Штосс» и мистифицировать свою аудиторию. При дальнейшей работе она, может быть, исчезла бы и мистифицирующее начало было бы приглушено. Нам неизвестно, как развивалась бы повесть далее: был бы поставлен акцент на болезненной психике художника, гибнущего в погоне за созданным им самим призрачным идеалом женщины-ангела, или же фантастическая повесть с двойным и равноценным рядом мотивировок утвердила бы себя окончательно.
Несомненно, однако, что, еще раз демонстративно обнаружив при чтении свою «устную», «анекдотическую» природу, повесть Лермонтова в окончательном виде должна была предстать читателю как произведение «серьезной» литературы, а не простая дружеская шутка. История ее текста является поэтому одним из наиболее выразительных примеров, свидетельствующих против понятий «канонический текст» и «последняя авторская воля»: воля автора была остановить ее посредине, придав ей временный, локальный, но объективно содержавшийся в ней смысл мистификации; и силою той же воли она должна была оканчиваться иначе в своем «письменном» варианте, где были бы сведены воедино оборванные сюжетные нити и, вероятно, была бы развернута этическая, психологическая, литературная и даже общефилософская проблематика, уже заявленная в известном нам начале. Этому окончанию не суждено было осуществиться.
Сноски
1 Семенов Л. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, с. 384 — 388; Родзевич С. Лермонтов как романист. Киев, 1914, с. 101 — 110. Ср. новейшие работы: Passage Ch. E. The Russian Hoffmanists. The Hague, 1963, p. 191; Ingham N. W. E. T. A. Hoffmann's Reception in Russia. Würzburg, 1974, p. 251 — 269.
2 Котляревский Н. А. М. Ю. Лермонтов. Изд. 5-е. СПб., 1914, с. 225.
3 См., например: Нейман Б. В. Лермонтов и Гоголь. — Учен. зап. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 1946, вып. 118, кн. 2, с. 124 — 138.
4 См.: Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. в 4-х т., т. 4. М. — Л., 1947, с. 468 — 470; вариант в изд.: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т., т. 4. М. — Л., 1959, с. 658 — 660.
5 Слащев Е. Е. О поздней прозе Лермонтова. — В кн.: Славянский сборник. I. Фрунзе, 1958, с. 133 — 141 (Учен. зап. Киргизского гос. ун-та. Филол. фак., вып. 5); Нейман Б. В. Фантастическая повесть Лермонтова. — Научн. докл. высш. школы. Филол. науки, 1967, № 2, с. 14 — 24; Mersereau J. Lermontov's «Shtoss»: Hoax or a Literary Credo? — Slavic Review, 1962, vol 21, N 2, June, p. 280 — 295.
6 Федоров А. В. Лермонтов и литература его времени. Л., 1967, с. 222 — 227; Удодов Б. Т. М. Ю. Лермонтов. Художественная индивидуальность и творческие процессы. Воронеж, 1973, с. 633 — 653.
7 Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 244 — 252.
8 Отеч. зап., 1839, т. 1, отд. 8, с. 1 — 16 (письма 1 — 2); т. 2, отд. 8, с. 1 — 17 (письма 3 — 4); т. 5, отд. 8, с. 12 — 26 (Колдовство XIX столетия. (Письмо 5-е к графине Р-ой)).
9 Висковатый П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, с. 378. — О широком распространении интереса к сверхъестественному в окружении Одоевского см.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель, т. 1, ч. 1. М., 1913, с. 370 и след.
10 См.: Майский Ф. Ф. М. Ю. Лермонтов и Карамзины. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Сб. статей и материалов. Ставрополь, 1960, с. 159 (запись в альбоме 1852 г.).
11 Рус. старина, 1882, № 9, с. 620. — Мартынов в отличие от Дантеса служил не в кавалергардском, а в конногвардейском полку.
12 См. письмо Ростопчиной Одоевскому от 4 февраля 1858 г. (Рус. арх., 1864, стб. 848). — Записки ее Одоевскому опубликованы лишь в незначительной части. Об их взаимоотношениях (с цитацией писем) см.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма..., т. 1, ч. 1, с. 393, 453, 475 и след.; ч. 2, с. 82 и след.
13 Отеч. зап., 1839, т. 5, отд. 8, с. 21 — 22.
14 Там же, т. 1, отд. 8, с. 1.
15 Литературное наследство, т. 45 — 46. М., 1948, с. 399.
16 Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма..., т. 1, ч. 2, с. 82. — Январская книжка журнала вышла к 17 января (Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М. — Л., 1964, с. 114). Другие повести Одоевского, подходящие под описание Тургенева, не были окончены: «Саламандра» («Эльса»), писавшаяся еще в 1838 г., была напечатана в «Отечественных записках» в 1841 г. (№ 1, отд. 3, с. 1 — 38); «Южный берег Финляндии в начале XVIII века» — в «Утренней заре на 1841 год» (см.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма..., т, 1, ч. 2, с. 75).
17 Отеч. зап., 1840, т. 8, отд. 3, с. 73.
18 См. подробнее: Werner H.-G. E. T. A. Hoffmann. Darstellung und Deutung der Wirklichkeit im dichterischen Werk. Berlin — Weimar, 1971, S. 96 ff.
19 Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975, с. 198 — 203.
20 См. об этом: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма..., т. 1, ч. 1, с. 469 и след.
21 Сенковский О. И. (Барон Брамбеус). Собр. соч., т. 8. Спб., 1859, с. 107.
22 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1974, с. 312, 489; Арнольд Ю. Воспоминания, т. 2. М., 1892, с. 198 — 202. — По словам В. А. Соллогуба, Пушкин сделал свое замечание после выхода «Пестрых сказок» (1833), во время встречи их обоих с Одоевским на Невском проспекте (Рус. мир, 1874, № 117). Воспоминания Соллогуба, как правило, точны, хотя и содержат ошибки в датах. Возможно, этот разговор происходил позднее, например в 1836 г., когда Соллогуб, по его собственным словам, стал теснее общаться с Пушкиным. Как бы то ни было, он не остался секретом; в 1860 г. (т. е. до выхода мемуаров Соллогуба) в вульгаризированном виде его передал П. В. Долгоруков в печатном пасквиле на Одоевского как разговор самого Одоевского с Пушкиным (Будущность, 1860, № 1); Одоевский дезавуировал свидетельства Долгорукова (см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М. — Л., 1931, с. 505 — 508; Литературное наследство, т. 22 — 24. М., 1935, с. 117), однако самые слова Пушкина об Одоевском Долгоруков мог слышать хотя бы от того же Соллогуба, с которым он в 1836 г. общался довольно коротко у Карамзиных (см.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836 — 1837 годов. М. — Л., 1960, с. 85, 120); к этому же времени относится отклонение Пушкиным «Сегелиеля», которого Одоевский предполагал печатать в «Современнике» (см. письмо Одоевскому от начала апреля 1836 г. в кн.: Пушкин. Письма последних лет (1834 — 1837). Л., 1969, с. 131), и — затем — прохладный отзыв о «Сильфиде» (там же, с. 158, 333). Воспоминания Ленца, опубликованные вскоре после соллогубовских (Рус. арх., 1878, кн. 1), в некоторых деталях текстуально совпадают с последними, но обрисовывают общее отношение Пушкина к фантастике Одоевского, не воспроизводя его слов о «Пестрых сказках».
23 См.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 322 — 324.
24 Удодов Б. Т. М. Ю. Лермонтов..., с. 648 — 652.
25 Ср.: Ingham N. W. E. T. A. Hoffmann's Reception in Russia, p. 256.
26 Heier E. Lavater'a System of Physiognomy as a Mode of Characterization in Lermontov's Prose. — Arcadia, 1971, Bd 6, H. 3, S. 282.
27 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 253 — 254. — Это, по-видимому, тот же эпизод, сведения о котором мы находим у П. К. Мартьянова (Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. 1. СПб., 1893, с. 152 — 154).
28 Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма..., т. 1, ч. 1, с. 474, 493 — 494. Ср. «Психологические заметки» Одоевского, написанные в 1820-х годах и напечатанные впервые в 1843 г. (Одоевский В. Ф. Русские ночи, с. 216).
29 Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, с. 146 и след.
30 См. подробно: Турьян М. А. Эволюция романтических мотивов в повести В. Ф. Одоевского «Саламандра». — В кн.: Русский романтизм. Л., 1978, с. 201 и след.
31 Гиллельсон М. Последний приезд Лермонтова в Петербург. — Звезда, 1977, № 3, с. 190 — 199.
32 ГПБ, ф. 429 (М. Ю. Лермонтов), ед. хр. 11, л. 6 об.; Михайлова А. Н. Рукописи М. Ю. Лермонтова. Описание. Л., 1941, с. 38 (Тр. Гос. Публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. 2).
33 Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1964, с. 446 — 448.
34 Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, с. 150.
35 Отеч. зап., 1841, т. 15, № 4, отд. 6, с. 68; ср.: Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, с. 150 — 151. — Печатание не могло начаться ранее 6 марта, когда Лермонтов подписал с А. Д. Киреевым соглашение о передаче ему прав на издание (Мануйлов В. А. Лермонтов и Краевский. — В кн.: Литературное наследство, т. 45 — 46, с. 372); 11 марта Краевский сообщал М. Н. Каткову, что роман «печатается» (там же, с. 375).
36 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 285.
37 Герштейн Э. Судьба Лермонтова, с. 251.
38 Одоевский В. Ф. Русские ночи, с. 189.
39 Родзевич С. Лермонтов как романист, с. 109.
40 См.: Удодов Б. Т. М. Ю. Лермонтов..., с. 647, 621.
41 Отеч. зап., 1839, т. 1, отд. 8, с. 5.
42 Там же, с. 8.
43 Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова. — В кн.: Литературное наследство, т. 43 — 44. М., 1941, с. 553.
44 Превосходный анализ этого приема на материале немецкой литературы см. в кн.: Zacharias-Langhans G. Der unheimliche Roman um 1800. Inaugural. Diss. Bonn, 1968, S. 40 — 41.
45 Вопрос о соотношении «Штосса» с художественными принципами писателей «натуральной школы», вообще говоря, довольно сложен. Фантастические мотивы «натуралистам» были отнюдь не противопоказаны; напротив, они встречаются постоянно; мы находим у них и целый ряд сюжетных ситуаций «Штосса», в том числе и эпизод с дворником (см. новейшую работу: Чистова И. С. Прозаический отрывок М. Ю. Лермонтова «Штосс» и «натуральная» повесть 1840-х годов. — Рус. лит., 1978, № 1, с. 116 и след.; там же — ссылки на предшествующую литературу).
46 Отеч. зап., 1839, т. 1, отд. 8, с. З. — Ср. в «Пиковой даме»: призрак старой графини является Германну, «тихо шаркая туфлями» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. 8. [М. — Л.], 1938, с. 247). Подобные же сценки есть и у Гофмана (см.: Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). К проблеме русско-немецких литературных связей. Воронеж, 1977, с. 103).
47 Современник, 1838, т. 11, с. 28 — 32; ср.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения», Пг., 1918, с. 279 — 280.
48 Отеч. зап., 1841, № 1, отд. 3, с. 12.
49 Ср. указание на это у Булгарина в «Иване Выжигине» (Булгарин Ф. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1839, с. 171 — 172).
50 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 153.
51 Семенов Л. Лермонтов и Лев Толстой, с. 384 и след.; Шувалов С. В. Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии. — В кн.: Венок М. Ю. Лермонтову. М. — Пг., 1914, с. 325 — 326.
52 Вольф А. Рассказы Асмодея, ч. 1 — 3. М., 1839; Отеч. зап., 1839, т. 6, отд. 7, с. 135.
53 Ср.: Герштейн Э. Судьба Лермонтова, с. 238 и след.
54 См. об этом в нашей статье «Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов» (Рус. лит., 1964, № 3, с. 46 — 56); о восприятии этой легенды Пушкиным писала А. А. Ахматова (см.: Временник Пушкинской комиссии, 1970. Л., 1972, с. 43). Ср. также: Данилевский Р. Ю. Людвиг Тик и русский романтизм. — В кн.: Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1975, с. 78.
55 ГИМ, ф. 445, ед. хр. 227а (тетр. бывшей Чертковской библиотеки), л. 47 — 53. — Тетрадь эта представляет собою конволют из разных бумаг Лермонтова; где раньше находились листы со «Штоссом», неизвестно. В мемуарах Ростопчиной речь идет об «огромной тетради», где было исписано около 20 страниц, а остальное была «белая бумага». Не исключено, что такой вид первоначально и имела тетрадь со «Штоссом» (размеры ее Ростопчина вряд ли помнила достаточно ясно к 1857 г.). «Штосс» занимает 6 листов (12 страниц); был еще один лист, утраченный ныне, но известный В. А. Соллогубу к моменту публикации повести в его издании «Вчера и сегодня» (6, 669). Нет сомнения, что публикация Соллогуба произведена именно с данного автографа: об этом говорит самый характер разночтений — с искажением фонетически близких слов, с испорченным текстом там, где рукопись залита чернилами, и т. д.
56 Ср. ироническое описание этого приема как широко распространенного: «Напишу, как журналист перед развязкою страшной повести: „Продолжение впредь“» (Ж. К. Третье письмо на Кавказ. — Сын отечества, 1825, № 5, с. 67). Ср. также замечание в связи с публикацией «Вечера на Кавказских водах в 1824 году»: «В конце поставлено: „Продолжение впредь“, магическое выражение, любимое журналистами и, как я слышал, не совсем любимое читателями» (Сев. пчела, 1834, 24 сент., № 215, с. 858).
57 Varma D. The Gothic Flame. London, 1957, p. 104 — 105, 188. — Еще В. Скотт отмечал этот прием в качестве одной из основных композиционных особенностей «готического» романа (см.: Анна Радклиф. (Из сочинений В. Скотта). — Сын отечества, 1826, № 4, с. 379 — 380).