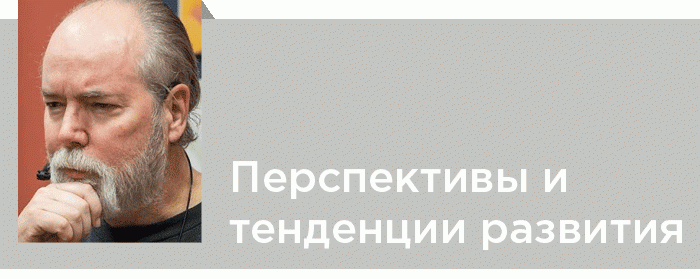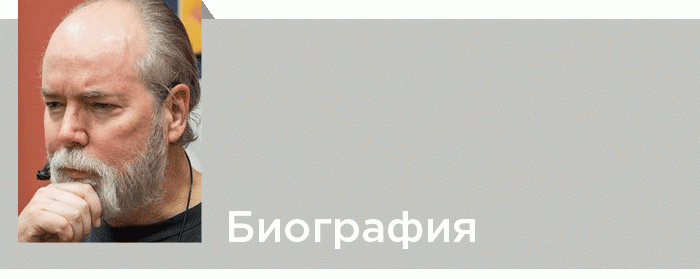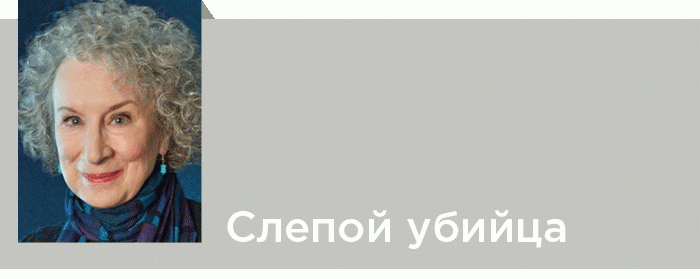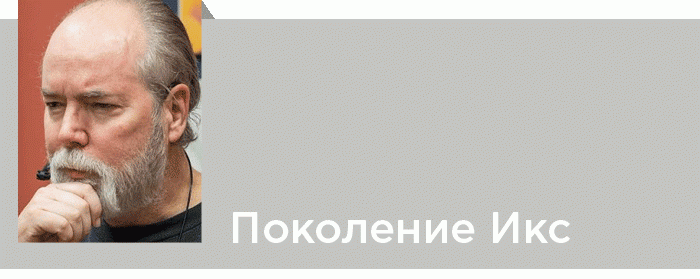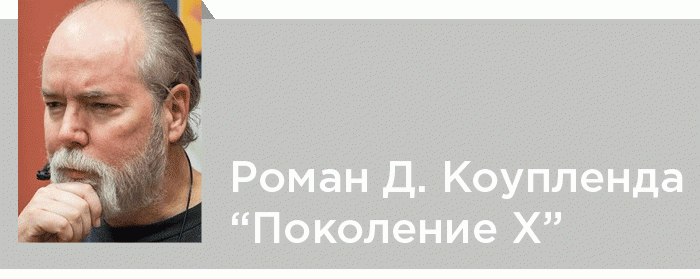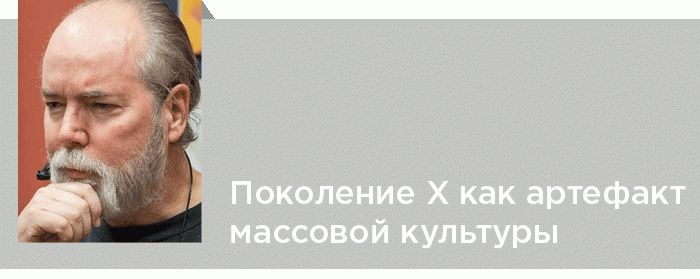Дуглас Коупленд. Пока подружка в коме
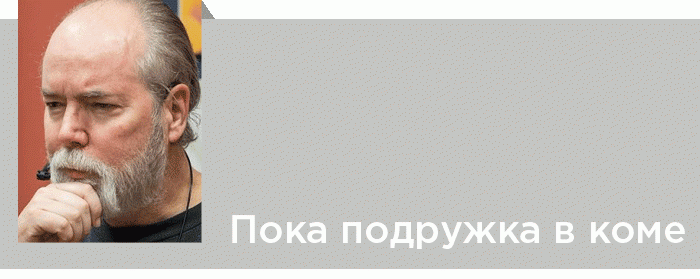
(Отрывок)
Часть I
1. Все идеи верны
Меня зовут Джаред, я – призрак.
Четырнадцатого октября 1978 года, в пятницу, я играл в составе нашей школьной футбольной команды – «Спартан гарде». Это была выездная игра, в другой школе – Хэндсворт, в Северном Ванкувере. В самом начале мне дали пас, и я, обернувшись принять его, сам не знаю, с чего вдруг, отметил про себя, что небо чистое-чистое, прозрачно-голубое – как только что вымытое оконное стекло. В этот миг я и вырубился. По всей видимости, пас я прошляпил, что было дальше – не помню, хотя уже потом мне рассказали, что тренеры остановили игру. Вот это уже было просто глупо: ведь мы явно давили их, и впереди светило повторение позапрошлогоднего разгрома, учиненного нашей командой над тем же соперником.
Но – за те несколько часов, что прошли с моего упущенного паса до пробуждения в больнице Лайонс Гейт, мне был поставлен диагноз: лейкемия, что значит – рак костного мозга, а следовательно, и крови. Ровно через три месяца, четырнадцатого января 1979 года, я умер. Болезнь прогрессировала невероятно быстро. Перед смертью я облысел, а кожа моя приобрела цвет давно не мытой белой машины. Будь у меня возможность прожить все это заново, я бы обязательно поубирал подальше все зеркала месяца за полтора до конца.
У меня была счастливая, наполненная и – короткая жизнь; земной мир был ко мне благосклонен, а поединок с лейкемией стал моим Испытанием. Это, разумеется, если не считать оргии с Черил Андерсон, когда ее предки затеяли ремонт и все семейство перебралось на недельку в мотель. Но это так, к слову, а вообще-то я уверен, что человек, в жизни которого не было Испытания, прожил ее напрасно. Испытание вовсе не обязательно подразумевает особый героизм или мученическую смерть, и даже не обязано включать в себя Черил Андерсон; нередко тихая одинокая жизнь сама по себе становится Испытанием. А еще я вам вот что скажу: больницы – это настоящий магнит для девчонок. Моя палата очень быстро превратилась в выставку букетов, всякого печенья и вязаных штучек, не говоря уже о самих девчонках, которые перед визитом ко мне (и небезуспешно) не один час наводили красоту. Таково уж дурацкое устройство мира, что я был слишком слаб и не мог должным образом воспользоваться поступавшими на мое имя вагонами всяких Бетти и Вероник; исключение – все та же бесстыжая Черил Андерсон, предоставившая мне «мануальную терапию» в тот день, когда у меня вылезли брови; за вышеназванным мероприятием последовали горючие слезы и щелканье «полароидом», где я остался запечатленным в вязаной девчоночьей шапочке. Сплошные слюни.
Но пора обратно, сюда, где я сейчас, в конец света.
Да, мир кончился. То есть он еще есть, но ему конец. Я – у конца света. Пылинка на ветру. Конец мира, как мы его себе представляем. Yet another brick in the wall. Звучит солидно и торжественно, но на самом деле здесь все не так. Мрачно, уныло и тихо, пахнет так, словно в полумиле отсюда горят автомобильные шины.
Давайте-ка я опишу вам недвижимость, что еще сохранилась до сего дня – спустя год после того, как мир кончился. Во-первых, безмолвие – ни шума машин, ни голосов, ни музыки. Театральные занавесы истерты и истрепаны, как выношенные сверх меры рубашки. Бесконечные колонны легковых машин, грузовиков и автобусов оседлали плечи дорог, груженные скорбной поклажей – истлевшими скелетами. По всему миру падают и обрушиваются внутрь себя дома; пианино, подушки, микроволновые печи проваливаются сквозь этажи, обнажая деньги и любовные письма, спрятанные в тайниках под полами. У лекарств и продуктов по большей части вышел срок годности. Мир снаружи терзают дожди и время от времени освещают молнии. Конечно, везде полыхают пожары, а погода становится все более непредсказуемой.
В пригородах, вроде тех, где я вырос, улицы растворяются в быстро наступающей растительности; вьюнки и лианы опутывают дороги, не тревожимые больше шинами «шевроле-камаро». Беззвучно провисают струны теннисных ракеток, убранных в темные шкафы. Десять миллионов картин падают с десяти миллионов стен; с дорожных знаков слезает краска, они покрываются ржавчиной. Бродят стаи голодных собак.
Попавший сейчас на Землю увидел бы уснувшее вечным сном тысячелетие торжества машин и механизмов. Соборы рушатся столь же легко, как биржи. Лишенные энергии затонувшие подводные лодки льнут ко дну, и ближайший миллиард лет им предстоит лишь копить на себе морской ил. Снег в городах не убран, лежит сугробами; молчат музыкальные автоматы в кафе и барах; классные доски навек остались исписанными. Не закрыты компьютерные программы и базы данных; провода свисают со столбов, словно длинные волосы.
Но как меня-то сюда занесло? И сколько мне еще тут околачиваться? Чтобы узнать это, придется поговорить о моих друзьях. Они тоже здесь – где кончается мир. Они тоже оказались в этом самом месте – мои друзья, которые взрослели все то время, что я оставался молодым.
Вопрос – поступил бы я так же снова? Несомненно. Хотя бы потому, что на этом пути я чему-то научился. Большинство людей ничему не учатся на своем пути. А если им и удается во что-то въехать, они имеют обыкновение забывать выученное, когда это оказывается выгоднее. Большинство, даже получив второй шанс, благополучно похеривает его. Это – один из основополагающих законов мироздания, и ничего ты тут не поделаешь. Люди, я это сам заметил, умудряются почти ни во что не врубиться и с третьего раза, уже потратив понапрасну огромное количество времени, денег, энергии, большую часть молодости, да и всего остального – сами можете перечислить. И все-таки они чему-то учатся, что, в конце концов, просто замечательно.
Вот вам история моих друзей, которые наконец усвоили предназначавшийся им урок. Мои друзья – это Карен, Ричард, Пэм, Гамильтон, Венди и Лайнус. Ричард – лучший рассказчик в этой компании, так что дадим ему слово первому. Нет, у Карен получилось бы лучше, но она сама не так много была на Земле. C'est la vie. Но Ричард будет вести свой рассказ только до поры до времени. В какой-то момент эта история перерастет его, охватит всех их. А в конце это будет уже моя история. Впрочем, до этого мы доберемся еще не скоро.
Предназначение – вот то, что мы пытаемся обрести. Будущее еще не наступило. Покорность року – это удел лохов.
18-25-32…Двинули!
2. Все идеи ложны
Мы с Карен лишили друг дружку невинности на вершине горы Гроуз, у лыжного склона, среди кедровых стволов, на ложе из кристального снега, под сверкавшими, как далекие фонарики, звездами. Декабрьский вечер был настолько морозен и ясен, что воздух походил скорее на лунную атмосферу – он словно выжигал легкие изнутри; насыщенный ментолом, он был по-медицински стерилен; в нем едва угадывались запахи озона, цинка, лыжной мази и клубничного шампуня Карен.
Здесь я вернусь к той первой трещинке в скорлупе времени, к тому мигу, когда я был поистине счастлив. Я сам, да и остальные, пустоголовые подростки, ни верующие, ни безбожники, – сгорающие от вожделения на вершине черной горы, нависшей над расцвеченным огнями городом, городом столь юным, что его грезы и сны ведомы лишь эмбриону в утробе, городом, в чьем мерцающем сиянии виделись всеобщий мир и покой, надежда на что-то в будущем. И вот я снова там, на вершине: Карен, что ты увидела? Почему нам не дано было знать? Почему ты… почему мы?
В тот вечер – 15 декабря 1979 года – Карен просто настояла, чтобы мы дошли до самого конца.
«Ричард, будем мы наконец… или как?» – спросила она, а затем, взобравшись на сугроб в форме женской груди посреди трассы для могула, расстегнула молнию на комбинезоне. А потом потащила меня в лес, где повалила в скрипучий снег, настолько холодный, что в нем замерзли бы даже снежные ангелы. Я ощущал себя совсем мальчишкой, она же казалась такой взрослой! Она притянула меня к себе так настойчиво и требовательно, словно вот-вот должна начаться война и нас тотчас же отправят на фронт. И вот мы лежим в снегу, страсть заставляет бешено колотиться наши тела, наш разум – словно перегревшийся игральный автомат, что, обезумев, безостановочно, с лязгом отсчитывает серебряные доллары, рубины и конфеты. Словно вот-вот наступит конец света, а то немногое время, которое еще осталось, нужно немедленно промотать, растранжирить на удовольствия, на то, чтобы насладиться тончайшей пульсацией прохладных сухих лепестков цветущей вишни, проносившихся в такт движению между нашими телами.
А потом – снежинки набились нам в штаны, пролезли под белье и дальше, остужая и вымораживая только что горевшие места, и вот мы уже, наскоро застегнувшись, со свистом несемся по склону к подъемнику. «Ричард, давай в пятнашки! Ты водишь!»
Румяные, чуть смущенные, вновь и вновь переживая про себя только что испытанные телесные ощущения, преобразившие нас обоих, мы влезли на подъемник, который, размеренно покачиваясь, в очередной раз потащил нас вверх по склону и вдруг – взял да и остановился на полдороге. Тут и фонари, освещавшие трассу, заморгали, затем начали выцветать, а затем и вовсе погасли. Мы с Карен остались болтаться в воздухе, зависли, так сказать, на лоне природы, – с джинсово-голубыми в лунном свете лицами. Карен достала из пачки сигарету, и в отблесках язычка пламени биковской зажигалки ее скуластое румяное лицо зажглось нежно-розовым светом, как у куклы в горящем кукольном домике. Я положил руку на ее плечо; вдвоем мы чувствовали себя спокойно и надежно, словно мы – плывущая в небе Солнечная система, теплые, живые планеты посреди полной звезд Вселенной.
Я спросил у Карен, – которая тоже как раз пыталась оценить степень значимости того, что только что произошло между нами там, в лесу, – счастлива ли она. Уже потом, намного позднее, я уяснил для себя, что задавать этот вопрос вообще никогда не стоит. Но Карен улыбнулась, затем усмехнулась и с силой выдохнула в синюю темноту струйку дыма. Я почему-то представил себе драгоценности, выброшенные за борт корабля над Марианской впадиной, исчезающие навсегда. Затем она отвернулась и стала вглядываться в лес по правую руку от трассы; деревья вырисовывались в темноте лишь полосой более густого оттенка черного цвета. Мне вдруг стало ясно, что с нею что-то не то, я ощутил это, как если бы Карен была книгой, читая которую я вдруг обнаружил, что кто-то вырвал самые важные страницы. Она прикусила нижнюю губу, нахмурилась.
А потом она чуть заметно, как бы смущаясь, вздрогнула, словно попытавшись завести свою «хонду-сивик» ключом от квартиры.
Меня вдруг осенило: да ведь Карен сегодня весь день какая-то не такая. Она словно не здесь, время от времени ее внимание застревает на какой-то ерунде вроде дискового телефона оливкового цвета на кухне у моих родителей или букета дурацких гладиолусов там же на столе: «Ой, правда, как красиво…» – а затем она снова выпадает куда-то. А еще она весь день смотрела на небо, причем не просто глазела, а останавливалась, задирала голову и подолгу всматривалась в облака, словно их ей показывали, как кино, на огромном экране.
Плечи Карен чуть согнулись под моей рукой, лицо едва заметно напряглось и посерьезнело. Я сказал:
– Ну что ты… думаешь, не стоило? Брось, ты же знаешь, как я… как я тебя…
А она ответила:
– Да о чем ты, Ричард? Я тоже люблю тебя… дурака. Все в порядке, просто я здорово замерзла, а еще я хочу, чтобы поскорее починили свет. Вот и все, Беб.
Она так называла меня. «Беб» – это такое сопливо-сюсюкающее сокращение от «бэби».
Обступившая нас темнота пугала ее. Карен вдруг оттянула край моей лыжной шапки и поцеловала меня прямо в ледяное, почти восковое ухо. Тогда я крепче обнял ее и вновь спросил, что случилось, потому что ее явно что-то беспокоило.
– Знаешь, Ричард, – сказала она, – мне в последнее время снятся очень странные сны. В них все совсем как наяву… Наверное, чушь все это. В общем, и говорить не о чем. Забыли, согласен?
Карен покачала головой и выпустила в воздух облачко табачного дыма, который тотчас же сплелся в паутину на фоне черного неба. Посмотрев на вышки подъемника с закрепленными на них фонарями, бессильными в тот миг разорвать ночь и залить склон светом искусственного солнца, она резко сменила тему:
– Видел, в каких штанах явилась сегодня Донна Килбрук? Такие узкие – просто смотреть страшно. Между ног все видно. Ужас! В общем, об этом тоже лучше забыть.
– Слушай, Беб, ты мне зубы не заговаривай, – сказал я неожиданно резко и тотчас же разозлился на себя за это.
Я взрослел и дорос уже до того состояния, когда короткие, пусть и остроумные, как мне казалось, реплики перестали быть тем единственным и достаточным языковым средством, с помощью которого можно поддерживать разговор на любую тему. Мы с Карен вообще редко говорили по-настоящему серьезно. Пожалуй, ближе всего сокровенные мысли друг друга открывались нам во время дурацких дискуссий на занятиях по философии – а это, как вы понимаете, не совсем то. Многословность – это лишь защитная броня юности. А нам уже начинало не хватать настоящей работы мысли. Я решил во что бы то ни стало докопаться до сути ее переживаний.
– Ну, брось… Расскажи, что там у тебя. Пожалуйста.
– Не буду. Извини, Беб. Это все так сложно, сразу и не объяснишь.
И вот опять – я почувствовал себя отодвинутым, исключенным из ее мира. А ведь только что мы были единым целым. Просвистел порыв ветра, мы поежились от холода, и вдруг Карен сказала:
– А знаешь, может быть, это был вовсе и не сон. Только ты обещаешь не смеяться?
– А то, спрашиваешь! Само собой – обещаю.
– Нет, когда это было, я спала. Просто оно было намного реальнее любого сна. Может быть – что-то вроде видения.
– Ну?
– И совсем не похоже на сон. Скорее как кусочки из фильма. Знаешь, как по телевизору показывают рекламу какого-нибудь фильма, да еще и со стоп-кадрами. Только все в дымке; похоже, знаешь, на недопроявленную пленку. Примерно как когда я в школе, в фотолаборатории, проявляла снимки, и там постепенно проступали ваши лица. А вообще мне кажется, что это, ну то, что я видела, было будущее.
Сейчас я готов запинать сам себя ногами за то, что сказал тогда в идиотском порыве продемонстрировать остроумие.
– Ну и как там в будущем? – усмехнулся я. – Вьетнамцы завоевали весь мир? Инопланетяне залетают поужинать? Каждому – по личному звездолету? То-то смотрю я на тебя сегодня: ни дать ни взять – курсант из школы астронавтов. – Мне казалось, что я превзошел сам себя: парень хоть куда, хоть прямо на центральный разворот «Голливуд Скуэарз». Но, судя по выражению лица Карен, я жестоко ошибался. Она явно ждала совсем не того.
– Ладно, Ричард. Все с тобой ясно. Ведь знала же, что нельзя тебе рассказывать. Извини, больше не повторится.
Карен отвернулась. Холод.
Я почувствовал то, что, наверное, чувствует крестьянин, глядя на поле, побитое градом.
– Нет! Черт. Карен, пожалуйста! Ну, прости меня. Я болван. Опять пасть разинул. Ну не хотел я, не хотел тебя обидеть! Ты же знаешь, я просто дурака валял. Сам терпеть не могу эту свою привычку, но вот опять сорвалось. Черт. Просто захотелось пошутить. Ну пожалуйста, не сердись. Я очень хочу тебя выслушать. Я прошу тебя.
– Ричард, ваши извинения принимаются, – сказала она, выбросив сигарету; по ее голосу чувствовалось, что прощен я лишь условно.
Потом мы еще некоторое время сидели молча. Было уже не просто холодно, мы вконец окоченели. Глаза привыкли к темноте. Вдруг Карен снова заговорила:
– Все было осязаемым. Понимаешь, я могла прикоснуться к любым вещам и почувствовать их на ощупь. Растения, одежда, все остальное. Особенно сегодня ночью. Дело было у нас дома, на Рэббит-Пейн, только все там как будто одичало. Деревья, трава… люди тоже. Ты, Пэм… грязные какие-то, неопрятные.
Неожиданно у нее будто прояснилось в голове.
– Точно, все это – будущее! – Шмыгнув носом, она втянула обратно свисавшую с него клейкую капельку. – В воздухе пахло дымом. Никаких там летательных аппаратов или скафандров вместо одежды. А вот машины – да, другие. Круглые какие-то, обтекаемые. В одной из них я ехала. И марка какая-то новая, каких сейчас нет… «Эйрбэг»? Да, точно, «эйрбэг». Я помню, это еще на передней панели было написано.
– Тебе там случайно не попадалась «Уолл-Стрит Джорнал», какие-нибудь котировки, ну там, общая ситуация на рынках?
Карен хлопнула себя по лбу:
– Ну, хороша! Надо же – увидеть будущее и обратить внимание только на машины да прически… – Она закатила глаза. – Нет, пусто. Извини, Ричард, тут я тебе не помощник. Или… нет, дай собраться… Подожди, кое-что есть. Да, вот: русские нам больше не враги и… и еще – заниматься сексом стало смертельно опасно. Вот это да!
Подъемник дернулся, закачалось кресло; наверху забурчали моторы. Карен, словно действительно впав в транс, продолжала говорить:
– Еще я на этой неделе видела – там, в будущем – какие-то аппараты… ну, в общем, они не понятно как связаны с деньгами. А люди, они все казались более… более электронными, что ли. Хотя в основном они делали что обычно, ну, машины заправляли, как теперь, и… и… черт, даже не верится: я видела будущее, а кажется, что вот оно, здесь, сейчас. Даже сразу и не скажешь, чем все отличалось. Люди стали лучше выглядеть. Похудели, что ли? Или одеты получше? Или просто в форме – как те, кто бегает по утрам?
– Ну, и?…
– Ладно, ты прав. Мелочей я кучу запомнила. Есть и плохие новости. Знаешь, как «У меня для вас две новости, хорошая и плохая»? – Помолчав, она сказала: – Там, в будущем, – темно. – Опять молчание; Карен кусает губы. – Вот этого я теперь и боюсь.
– В каком смысле – темно?
В тот вечер на мне были только джинсы, без теплого белья. Я поежился.
– Ричард, будущее – не такое уж хорошее место. Не знаю, как это объяснить. Оно – жестокое, что ли? Я сегодня ночью это увидела. Мы все были там. Я видела нас… нет, нас не мучили, не пытали, мы все были живы, и все… все стали старше… средних лет или что-то вроде того, но… «смысл» исчез. А мы этого даже не заметили. Мы сами стали бессмысленными.
– Что ты имеешь в виду? Бессмысленные – это как?
– Ну смотри: жизнь нам вроде и не кажется пустой или тяжелой, но это только если смотреть на самих себя со стороны. А потом я стала искать других людей, чтобы посмотреть, сравнить, живут они так же или нет, но больше там никого не было. Все куда-то делись. Остались только мы – живущие лишенной смысла жизнью. Тогда я внимательно присмотрелась к нам – к Пэм, Гамильтону, к тебе, Лайнусу, Венди, – и все бы ничего, вот только глаза у вас были пустые, бездушные… знаешь, как у лосося на пристани: лежит, один глаз в доску уткнулся, а другой прямо в небо уставился. Только… наверное, хватит уже.
– Нет-нет, говори!
– Я хотела помочь. Но, понимаешь, Ричард, я ведь не знаю, как спасать в такой ситуации, как вернуть человеку душу. И я так ничего и не придумала. Я единственная понимала, что мы потеряли, чего лишились, но что делать – я понятия не имела.
Было ощущение, что Карен вот-вот заплачет. Я сидел молча, не знал, что сказать, лишь обнял ее. Под нами, чуть левее, я разглядел в темноте собравшихся возле подъемника лыжников; они стояли, задрав головы кверху, и передавали друг другу фляжки со спиртным, время от времени подбадривая зависших криками.
Карен встрепенулась и сказала:
– Вспомнила! Там еще Джаред был! Ну, в моем вчерашнем видении. Да-да, был. Тогда, наверное, это даже не видение из будущего, а какое-то… даже не знаю… предупреждение, что-то вроде пародии на рождественское гадание.
– Ну, может быть. – Честно говоря, вспоминать о Джареде именно сейчас у меня не было никакого желания, но я сдержался и промолчал.
Неожиданно подъемник дернулся, протащил нас на несколько футов вперед и снова замер. Погасли и замигавшие было фонари. Мир опять стал черной стылой неподвижностью.
– Ричард, знаешь?…
– Что?
– Да нет, ничего. – Карен взяла себя в руки и решительно сказала: – Не обращай внимания, Беб. Я уже сама устала, рассказывая об этом. Только… – Она сунула руку в карман куртки. – Вот, держи. Я хочу, чтобы этот конверт побыл у тебя. Только не открывай, договорились? Просто пусть он будет у тебя – сегодня. А завтра я его заберу.
– Ну?… – Я взял у нее заклеенный конверт, на котором фломастером было выведено «Ричард» – тем самым бесившим меня девчоночьим, кругленьким, с бесчисленными завитушечками почерком, из-за которого мы за месяц примерно до того здорово поцапались. Я, понимаешь ли, решил выяснить, почему это она не может писать «нормально». Идиот!
Карен заметила, что я смотрю на надпись.
– Ну что, отважный нонконформист, на этот раз достаточно нормально!
Я запихнул конверт во внутренний карман куртки, и тут наш подъемник опять дернуло вперед.
– Завтра отдашь обратно, и без лишних вопросов. Запомнил?
– Есть! Договорились, – сказал я и поцеловал ее.
Подъемник с резким рывком заработал. От неожиданности Карен уронила свои сигареты и выругалась. А в следующую секунду склон залил электрический свет. Энергии у огромных ГЭС в Британской Колумбии было хоть отбавляй. Лыжники под нами встретили свет радостными воплями, словно благодаря кого-то за его появление; наше время кончилось.
– Смотри, вон Венди и Пэм! – воскликнула Карен.
Я чуть не оглох, пока она во весь голос договаривалась с Венди встретиться через полчаса у «Гроуз-Неста» и умоляла Пэм подобрать ее сигареты, оставшиеся уже далеко позади.
Близость наша урезалась почти до прежнего уровня, и мы бодро поплыли над склоном под звуки голоса Карен, вслух обдумывавшей планы на оставшуюся часть вечера.
– Смотри-смотри! Вон там – Донна Килбрук. Эй! Эй!
Я думал о Джареде.
Он был нашим общим другом, а для меня, пожалуй, лучшим другом – в детстве. В старших классах мы как-то разошлись, такое часто бывает с теми, чья дружба завязалась в совсем юном возрасте. Он добился больших успехов в футболе, и постепенно у нас оставалось все меньше общего. А еще он был жутким бабником. Девчонки на него так и вешались, а он и рад был под это дело подставиться. И насколько явно он входил в круг везунчиков, любимчиков судьбы, настолько же очевидно я вставал на неверный путь неудачника по жизни. Нет, мы по-прежнему отлично ладили, но уютно я с ним себя чувствовал только где-нибудь дома, подальше от школы с ее обязательными для того, кто хочет добиться всеобщего признания, ритуалами поведения. Джаред с родителями жил недалеко: за углом, на Сент-Джеймс-плейс. Однажды в жаркий день, во время игры с Хэндсвортской школой, Джаред вырубился начисто, и его отвезли в больницу Лайонс Гейт. Через неделю он остался без своей шикарной светлой шевелюры, через два месяца весил меньше, чем огородное пугало, а через три… его не стало.
Очухались ли мы от этой потери? Не уверен, что полностью. Хуже всего для меня оказалось то, что я вроде как числился «официальным другом» Джареда, так что на меня излили немалую долю особых, персональных соболезнований. Все девчонки, вздыхавшие до того по Джареду, перекинулись на меня, его сексуальная энергия еще долго витала в воздухе. Другое дело, что я вовсе не собирался пользоваться этим и уж тем более начинать жить его разгульной жизнью. Пришлось разыгрывать из себя стоика, хотя на самом деле я злился, боялся, а еще мне было грустно. Джаред ведь действительно думал, что мы – лучшие друзья, хотя на самом деле пути наши давно разошлись. Я нашел себе других друзей и чувствовал себя виноватым, вроде как предателем. Весь следующий год мы не говорили о Джареде, стараясь делать вид, что ничего не случилось, что все идет по плану, хотя это было далеко не так.
3. То, что спит, еще живо
Спускаясь с горы в вагончике канатной дороги, я молчал; Карен о чем-то болтала с Венди и Пэм. Связанные вместе, наши лыжи тихонько позвякивали. Мы с Карен очень изменились с тех пор, как этот же подъемник доставил нас на гору несколько часов назад. Когда вагончик, покачиваясь, прошел мимо центральной опоры, мы увидели лежавший далеко под нами Ванкувер, в который вот-вот должен был войти 1980 год, войти и занять наше юное, хрупкое, словно стеклянное литье, королевство. Мы пытались высмотреть наши дома, что мерцали по ту сторону реки Капилано, в глубине нашего образцового, ухоженного до стерильности пригорода.
Посмотрев прямо вниз, на сугробы и продирающиеся сквозь снег гранитные глыбы, я почувствовал себя чужим в этом мире. Мне почему-то подумалось, что я, наверное, родом с какой-то другой планеты, а на Землю свалился с неба, как метеорит. То есть я здесь не родился, а совершил вынужденную посадку. Ба-бах! И вот, угораздило же, пришлось обосноваться на Земле навеки. Когда вагончик, набирая скорость, заскользил вниз, новички и те, кто пользовался канатной дорогой нечасто, завизжали и заверещали от страха. Я посмотрел на Карен: она сидела, опершись подбородком о лыжные палки, – какая-то особенно красивая. Так выглядят люди, уверенные в том, что ими восхищаются, их обожают.
Вагончик остановился у нижней платформы, и мы поковыляли к моему «датсуну В-210», где тут же сбросили пластмассовые кандалы лыжных ботинок, чтобы пошевелить вконец затекшими пальцами. Забравшись в машину, мы поехали на одну из извилистых пригородных улочек Западного Ванкувера, где, как нам сообщили, одна из ныне забытых, пользовавшихся сомнительной популярностью девчонок собиралась устроить большую вечеринку – родители ее укатили развлекаться на всю катушку в Лас-Вегас, оставив ее «присмотреть за домом».
Прибыв на место, мы выяснили, что наши худшие предположения оправдываются. Такого дурдома нам раньше видеть не приходилось. Подъехали мы около десяти вечера, и наш «датсун» оказался в компании нескольких десятков машин, вкривь и вкось припаркованных на Ирмонт-драйв. Из колючих елок живой изгороди вылетали, словно протоны из ускорителя, подростки, тащившие в руках целые упаковки пивных бутылок, в каждой из которых, несомненно, сидело по джинну, готовому исполнить одно-единственное, самое-самое сокровенное желание.
Отовсюду доносились чьи-то возгласы, слышался звон бьющихся бутылок. В свете уличных фонарей на фоне мерцающих осколков то и дело мелькали какие-то силуэты. Кое-кто из веселящихся тоже недавно приехал с горы. Я услышал свист, обернулся и увидел Гамильтона – моего личного святого, покровителя плохо сложенных карт, подмокших спичек, низкопробной порнухи, паршивой химической завивки, тетрациклина и чужих сигарет. Он кивнул мне из гущи каких-то лавровых кустов, перед которыми мы только что припарковались, и прошипел:
– Эй, Ричард, тащи сюда свою задницу!
Я привычно повиновался и оказался в некоем подобии вигвама, провонявшего – хоть топор вешай – мексиканской травой, причем явно мерзейшего качества, от которой потом башка просто раскалывается. Я разглядел физиономии чуть не десятка приятелей Гамильтона, яростно смоливших свои косяки. Наслаждаться собственной головной болью у меня не было никакого желания, и я сказал:
– Слушай, Гэм, ну и воняет здесь. Словно кто-то набздел в вагоне метро. Давай вылезай отсюда. Девчонки ждут. Да, а где Лайнус?
– Да где-то там, веселится. Я сейчас вылезу. Дин, будь другом, передай мне Зиг-Заг.
Я вернулся к машине, где девчонки обсуждали новую диету Карен. Я поспешил высказаться:
– Карен, надеюсь, ты похерила этот бред насчет полного голодания?
У Карен была навязчивая идея – похудеть к предстоящей поездке на Гавайи.
– Ричард, Беб, мне нужно к следующей неделе довести себя до пятого размера. Иначе я не влезу в новый купальник.
Пэм, худая как спичка, спросила:
– Ты что – так и принимаешь таблетки для снижения веса? Мне-то мама их все время сует, но я отказываюсь.
– Пэм, – ответила ей Карен, – ты же знаешь, что меня на таблетках вырастили, моя мама – просто ходячая аптека. Но что касается амфетаминов, то стоит мне принять хоть одну таблетку, как меня выворачивает наизнанку, и я просто на стенку лезу. – Она замолчала, чтобы сдуть с глаз прядь волос. – От большинства лекарств, даже от витаминов, мне хреново. Другое дело – транквилизаторы. Я их принимаю, чтобы расслабиться, нервишки успокоить. Мама даже выдала мне персональный флакончик.
Прозвучало это, надо признать, эффектно; явно ставилась цель удивить и «зацепить» нас.
Венди, стараясь выглядеть круче, чем на самом деле, сказала:
– Вот прикол-то был бы – врач констатировал передозировку витаминками.
Шутка была встречена без смеха, вежливыми пристальными взглядами. Повисшее молчание нарушила Пэм. Она как раз пыталась тогда пробиться на подиум.
– Ой, а я тут вчера была на просмотре. Знаете, ребята, как эти модели говорят? Ну, когда они друг с другом болтают?
Мы выразили готовность восполнить этот пробел в наших знаниях. Пэм, обрадовавшись, пояснила:
– Звучит это примерно так: »Ку-ку-ку, бе-бе-бе, диета-таблетки, бу-бу-бу…». Поклянитесь, что как только я запою ту же песню, вы сразу же вытащите мою вилку из розетки.
У нас за спинами откуда-то появился Гамильтон – высоченный, в черных ботинках, в рубашке-поло на шнуровке, с кулачищами размером с буханку хлеба и изрядно навеселе.
– Ричард, – обратился он ко мне, – нам нужно срочно проверить, как там идет веселье. Дом вот-вот разнесут на куски. А, Пэмми, привет…
Пэм показала ему язык. Они вот уже три года то ссорились, то мирились, в тот вечер они числились поругавшимися. Гамильтон снова повернулся ко мне.
– Если мы не спасем Лайнуса, – заявил он, – его к полуночи мелко нашинкуют. Там же просто побоище идет. А кроме того… мой мистер Ливер жаждет чего-нибудь тяпнуть.
В пояснение своих слов Гамильтон похлопал себя по животу. В доме тем временем что-то заскрежетало и с грохотом рухнуло на пол.
Пэм провозгласила, глядя куда-то в небо:
– Ну почему? Почему мне так везет на этих самовлюбленных шутов гороховых, которым наплевать, существую я на свете или нет? О, боги любви, пошлите мне в следующий раз кого-нибудь поприличней!
Разговор зашел о том, как мы сегодня покатались, и я вдруг заметил, что стараюсь даже отойти назад, чтобы чуть со стороны посмотреть на Карен, Венди и Пэм. Почему-то, собравшись вместе, они напоминали сестер, очень непохожих друг на друга, но все же сестер. Сами они называли себя «ангелами Чарли», но в те годы такое прозвище закреплялось чуть ли не за каждой троицей девчонок-подружек.
Личность. Совокупность черт и качеств, определяющих ее. Иногда я задаюсь вопросом, что можно сказать о человеке, пока он еще не вырос, возможно ли разглядеть его внутреннюю сущность? В равной ли степени проявляются признаки будущих свойств у разных людей? Вот убийцы – выглядят ли они убийцами годам к восемнадцати? А биржевые брокеры? Официанты? Миллионеры? Высиживается яйцо, а кто из него вылупится – неизвестно. Маленький лебедь? Крокодил? Черепаха?
Венди: широкие плечи – секция плавания, приветливое, серьезное, квадратное, чуть мужского типа лицо, коротко стриженные волосы шоколадного цвета. Мы с Гамильтоном как-то попытались четко обрисовать внешность и манеру поведения Венди, и, пожалуй, Гэм не ошибся, сказав, что она выглядит как двадцать седьмая в очереди претендентов на британский престол. Когда мы собирались под Рождество у нас и нам приходилось представляться взрослым, Венди никогда не забывала добавить: «Я из всех них самая умная». И ведь права она была, абсолютно права.
Пэм (Памела, Пэмми, Памелоид): худая, как струйка воды из незакрытого крана, идеальный овал лица, да и вообще – мордочка словно с открытки, да еще и грива химических кудряшек пшеничного цвета, шелковых на ощупь. Очаровательная лисичка Пэмми. Ее глаза вечно смотрят куда-то чуть дальше, чем твои. « Эй, Пэм, на что засмотрелась?» – «А? Что?… Да так, ничего. Там… В облаках… Что-то…»
Карен: некрупные черты лица, каштановые прямые волосы, разделенные посередине пробором. Глаза – цвета лесного мха. Общаться с ней – одно удовольствие. Что девчонкам, что мальчишкам. Свой парень. На лыжах кататься? В футбол поиграть не хватает человека? Подобрали раненую зверушку, которую теперь лечить и выхаживать надо? Зовите Карен, не ошибетесь.
У всех троих все шесть рук вечно сложены на груди. Одежда – кожаная куртка или пуховик. В сумочке обязательно крепкие сигареты. Лыжные свитера, пропахшие духами «Чарли», жевательная резинка без сахара, да еще – сладко пахнущие волосы. Чистенькие-опрятненькие, раскованные, привлекательные, спортивные.
Карен предложила выпить чего-нибудь, и Венди переспросила ее:
– Ты уверена, что тебе стоит пить? Я в том смысле, что выглядишь ты не слишком здорово. Что ты за целый день съела? Один крекер да полбанки тоника? Поехали лучше ко мне, перехватим чего-нибудь.
– Замолчи! – потребовала Пэмми. – Не искушай меня. Знаю я, чем все это кончится: в итоге именно я сожру все, что у тебя есть в холодильнике. – Помолчав, она решила уточнить: – У тебя там как – найдется что-нибудь?
Карен, не дослушав их, забралась в «датсун», чтобы завязать шнурки на кроссовках. Я же сунулся в машину за свитером и, как назло, увидел, что она глотает две вынутые из пудреницы таблетки. А она застукала меня за тем, как я застукал ее. Показав мне язык, она вздохнула:
– Все я знаю, Ричард: «детский сад» и « бабы-дуры». Эх, тебя бы на мое место – впихнуть в бикини пятого размера!
Я постарался придать своему лицу не осуждающее выражение; по-моему, неудачно.
– Господи, да это же просто валиум. Все совершенно законно. Его вообще мне мама дала. – Карен немного разозлилась на меня за то, что я так некстати заглянул в машину. Наверное, почувствовала себя неловко. Я сказал:
– Карен, ты самая замечательная! Ты отлично выглядишь, ты… у тебя отличная фигура, и ничего в ней не надо менять. Уж я-то знаю… – Я даже подмигнул, что получилось, кажется, скорее похабно, чем по-дружески. – Ты просто дура дурой, что зациклилась на этих диетах.
– Ричард, это так любезно с твоей стороны. Нет, ты правда самый-самый лучший парень на свете, я это знаю и ценю. Но послушай меня: это женское дело. Не лезь, тебя это вообще не касается.
По крайней мере, она улыбалась, говоря это. А потом она перегнулась через спинку сиденья и успела чмокнуть меня, прежде чем я вылез из машины и вернулся к импровизированному бару, организованному Памелой на капоте.
– Подними окно и закрой дверь, – попросила меня Карен, перекатывая во рту валиум. – А то – вдруг Бог подсматривает?
После этого она мне ничего не говорила. Почти двадцать лет.
Пэм достала бутылку «Смирновской» и вместе с Венди разлила по глоточку в утащенные из «Макдональдса» бумажные стаканчики. В качестве разбавителя пошел тоник «Таб».
Венди рассказала о том, как ходила в пятницу к методисту из отдела школьного образования. Она подумывала о том, чтобы поступить на подготовительное отделение Университета Британской Колумбии – с интенсивной подготовкой на медицинский факультет, но никак не могла решиться, боясь, что упустит все прелести студенческой жизни. «Сами понимаете, пьянки, посиделки с наркотой, беспорядочный секс. И всякие там подставные письма в редакцию „Пентхауза“!»
Пэм была не в настроении обсуждать будущую учебу или работу.
– Слушай, Венди, – перебила она подругу, – давай сегодня просто выпьем и пойдем пошляемся. Крушить дома – это забава для мальчишек.
Судя по грохоту, доносившемуся из здания, оно должно было вот-вот взлететь на воздух, как это бывает в фильмах ужасов.
Гамильтон сказал:
– Эй, Пэмми, что это с тобой? Да ты просто боишься этих убойных девок в белых джинсах. Признайся.
В 1979 году белые джинсы были среди тусующихся девчонок кодовым сигналом того, что их обладательница готова поцапаться и поскандалить по любому поводу.
– Что?… А ты – ты-то сам не боишься?
– Туше, Памела, – улыбнулась Венди и посмотрела на меня. – А ты, Ричард, что скажешь? Пойдешь в гости-то?
– Э-э… не хотелось бы, честно говоря. Но ведь там Лайнус остался. Мы договорились, что встретимся на вечеринке. Было бы нечестно и жестоко оставить его в лапах дикарей. Может быть, в этот самый миг, пока мы здесь медлим, он уже сидит в кипящем котле и почитывает какую-нибудь Энциклопедию всемирной литературы.
Пэм погладила висевший у нее на шее медальон, в котором, как по секрету рассказала мне Карен, лежали несколько волосков с интимного места Гамильтона. Венди доцедила свой коктейль и, подмигнув Пэм, заговорщицки произнесла:
– Е-П-К!
Я спросил, что это значит, и девчонки в унисон отчеканили:
– Еще-По-Коктейлю! А теперь, мальчики, марш спасать Лайнуса. Ну, а мы вас тут подождем, чего выпить – у нас у самих есть.
Ну, мы с Гамильтоном и пошли по подъездной дорожке. Особо мы на вечеринку не стремились, но хихиканье за нашими спинами заставляло нас обоих держаться преувеличенно бодро и смело. Дом, в котором разворачивалось веселье, погибал на глазах. Его рвали на части злобные, неблагодарные дети, жестокие чудовища, акулы, разгулявшиеся в кровавой воде; они накинулись на дом как таковой, на свой инкубатор – один к одному похожий на их собственные дома, дома, пропитавшие своих безжалостных обитателей невыносимой одинаковостью и предсказуемостью, не давая им никакой возможности выбора.
Выдернутый из горшка фикус взгромоздился на бильярдный стол. Осыпавшаяся с корней земля вперемешку с пивом образовала грязную корку, в которой покоился шар под номером шесть. Стеклянная раздвижная дверь была разбита – в ней зияла дыра размером чуть больше кулака. С ее краев на ковер еще капала кровь. Стены гостиной, где стоял телевизор, выглядели пятнистыми, словно шкура далматинского дога, – их покрывали дыры и вмятины, пробитые тяжелыми ботинками. Оставшиеся бильярдные шары кто-то старательно пошвырял через эти дыры во двор. Туалет был мерзейшим образом забит и переполнен; блевал народ повсюду, а затем разносил это дело по дому, загаживая самые немыслимые поверхности.
– Похоже на бунт в тюрьме строгого режима, – заметил Гамильтон.
В целости оказалась лишь стереосистема – благодаря своей уникальной способности создавать атмосферу. Гости, кто в джинсовых, кто в кожаных куртках, нетвердые на ногах, заставляли несчастный аппарат играть на полную громкость, а сами, впав в неистовство, хлебали пиво, крутили стулья и срывали лампы с покрытого пятнами потолка.
Девушки, те самые – крутые, из Северного Ванкувера, в знаменитых белых брюках, – сидели в хозяйской спальне, не принимая личного участия в разрушении. Спальня была превращена в курилку, обитательницы которой примеряли чьи-то шелковые блузки, пробовали оранжевую губную помаду и бесконечно причесывались. Некоторые, перебравшись на кухню, прямо на столешнице делили дурь фамильным серебром, лишь изредка отрываясь от дела, когда грохот ломаемой мебели становился особенно громким.
Мы стали пробираться дальше. Ни я, ни Гамильтон до того не бывали на вечеринках такой степени агрессивности, и, честно говоря, нам было не по себе, хотя мы друг другу в этом и не признавались. Засунув руки в карманы, мы с самым небрежным видом ходили из комнаты в комнату.
– Хотел бы я знать, что именно так навязчиво наводит меня на мысль, что человечество как биологический вид деградирует? – пробурчал Гамильтон.
Оскорбленный столь многосложной фразой, один из участников «веселья» попытался врезать Гамильтону кулаком в грудь.
– Понял, – поспешил согласиться Гэм. – Ладно. Тогда – где тут у вас сральник?
Второй туалет оказался вовсе разнесен вдребезги. Через окно мы посмотрели на то, как народ разбрасывает над бассейном пластинки, пытаясь сбить эти похожие на летучих мышей мишени пивными бутылками.
Проходя мимо чьей-то бывшей спальни, мы наткнулись на Лайнуса: он сидел – сгорбившийся, небритый, вытирая нос заляпанной чернилами ладонью, – склонившись над каким-то атласом, явно не замечая того, что творилось вокруг.
– А, это вы. Привет. Слушайте, вы, наверное, хотите поесть, ну, или чего-нибудь… – такими словами он встретил нас.
Мы прикинули, стоит ли задерживаться в этом сумасшедшем доме. Почему-то самую большую тоску навевала мысль о том, какие кары обрушатся на его непосредственную обитательницу. Гамильтон сказал:
– Ребята, скоро соседи полицию вызовут. Так что – тяпнем чего-нибудь наскоро и свалим отсюда. Лайнус, пошли.
Во дворе словно сверкнула зеленоватая молния. Посыпались стекла. А еще через пару секунд здоровенное кресло-качалка отправилось ко дну бассейна.
Лайнус последовал за нами, не забыв перед этим аккуратно поставить на книжную полку пару свалившихся книг. Закурив, он осведомился:
– Ребята, а вы знаете, что в Африке, оказывается, больше шестидесяти стран?
Не удостоив его ответом, Гамильтон проорал: «Сгиньте, мерзкие недоумки и хулиганы!» – и стал пробиваться к выходу из дома. Мы свернули с дорожки и перебрались через изгородь в соседний дворик; по улице к дому уже катили полицейские джипы, их мигалки озаряли окрестности вспышками цветов американского флага – красным, белым и синим. Около моего «датсуна» Венди и Пэм склонились над осевшей на землю Карен.
– Ричард, – сказала Венди, – Карен отключилась. Мы всего-то пару глотков тяпнули, а с ней – смотри сам, что творится. Вообще это на нее не похоже. Пэм, притащи какое-нибудь одеяло. Ричард, ее нужно отвезти домой. Лайнус, привет. Как тебе эта… ну, вечерника?
– Погром! – ответил за друга Гамильтон.
Я не на шутку заволновался: чтобы Карен отключилась с двух легких коктейлей? Выглядела она вроде нормально, но что-то было явно не так. Нет, ее не тошнило, ничего такого, просто слабость и побледневшее лицо. Говорить с ней оказалось бесполезно. Она почти спала, не пытаясь ни вымолвить хоть слово, ни кивнуть, ни посмотреть в глаза. Чтобы скрыть накатывавшую на меня панику, я с напускным равнодушием сказал:
– Поехали к ней. Ее родителей нет дома, мы спокойно уложим ее спать, а сами посмотрим телевизор, да и за ней последим. Скорее всего, ничего серьезного…
– Всё идиотские диеты, – сказала Венди. – Наверное, ее просто срубило после такой нагрузки. Шутка ли – кататься на лыжах, проголодав перед этим несколько дней.
– Поехали, – согласилась Пэм, – как раз успеем к «Субботнему вечеру» по ящику.
Мы с Венди положили Карен в «датсун», ее кожа покрылась испариной, но ничего подобного ознобу заметно не было. Наша маленькая автоколонна направилась к дому Карен – через один от моего собственного. Я сам отнес ее на руках внутрь, снял с нее куртку, разул и уложил на кровать. На всякий случай я решил укрыть ее еще одним одеялом. Вроде бы все шло нормально. Ну, упала девушка в обморок, так ведь и досталось ей сегодня…
Мы вернулись в гостиную как раз к началу «Субботнего вечера». Венди успела поджарить попкорна на кухне, мы уселись в мягкие кресла и стали смотреть шоу, открывавшееся выступлением какого-то юмориста. Гамильтон, понимая, что проигрывает телевизору, попытался вновь переключить наше внимание на себя, рассказывая «аппетитные» истории про нарывы да фурункулы и выдавая весьма посредственные похабные анекдоты. Мы порекомендовали ему заткнуться.
Лайнус, согнувшись в три погибели, рассматривал стоявшую под елкой среди подарков кроваво-красную комнатную поинсеттию. Он рассказывал нам о сетке сосудов в ее лепестках, восхищался клеточной структурой ее стебля и листьев. По ходу дела он объяснил, почему корни можно сравнить с электропроводами и что фотосинтез – это наиболее самодостаточная и эффективная из всех возможных систем, преобразующих энергию Солнца.
– Эй, кто-нибудь скажет этому Джонни Яблочное Семечко «fermez la bouche»? – спросил Гамильтон.
Пэмми потихоньку переместилась поближе к нему. Законодательница вкусов Венди, как раз пребывавшая в снобистском периоде «я-не-смотрю-телевизор», занялась подсчетом собранных матерью Карен фигурок и изображений сов.
– Совы, совы, шагу некуда ступить – везде совы. Даже над телефоном в прихожей совенок из макраме. Штук тридцать таких плетеных птичек, и можно соорудить себе вязаный комбинезон наподобие того, что был у Энн-Маргрет в «Томми» перед тем, как она свалилась от смеха прямо в тушеные бобы.
– Венди, что ты там говоришь? – донесся с кухни голос Пэм. Почему миссис Мак-Нил «съехала» на совах? Что они для нее значат? Какая такая в них мрачная тайна? Какую ее внутреннюю потребность удовлетворяют эти птички?
Я извинился за невнимание к разговору и пошел посмотреть, как там Карен. Последнее, что я услышал из гостиной, было «восемьдесят шесть» Венди, относившееся к очередной обнаруженной и пронумерованной сове. Карен была бледная как полотно. Она лежала, запрокинув голову, ее глаза неподвижно глядели в одну точку, даже не на потолке, а где-то в бесконечности.
У меня в мозгу словно что-то взорвалось, а руки и ноги, наоборот, онемели; во рту пересохло, горло сдавило.
– Она… Она не… не дышит! – прохрипел-проорал я. – Она не дышит !
Все бросились из кухни и гостиной в комнату Карен.
– Что?…
Пэм закричала:
– Черт! Твою мать! Господи, Венди, ты же занималась плаванием. Давай, делай ей искусственное дыхание!
Венди бросилась к кровати и стала целовать Карен «поцелуем жизни». Гамильтон вызвал «скорую». Пэм взмолилась:
– Нет, только не это! Еще один Джаред!
Эти слова взбесили Гамильтона, он в ответ закричал:
– Выброси из башки эту хренотень! Даже не думай. Не смей даже думать о том, чтобы подумать об этом!
Джаред. О Господи! Это ведь может быть навсегда. Может забрать ее от меня. У меня на глаза навернулись слезы, запершило в горле. Мы все вдруг ощутили свою беспомощность и отчаянную бесполезность. Нам оставалось только бормотать ругательства да сокрушенно качать головами. Настольная лампа с пластмассовым абажуром, стоявшая в изголовье кровати, освещала ядовито-желтым светом лицо Карен и часть стены с фотообоями – старыми, уже подвыцветшими: фотография лунного пейзажа и встающей из-за горизонта Земли. Медали с соревнований по плаванию, игрушечный песик Снупи с надписью на ошейнике: «Самой лучшей дочке на свете». Помада, блеск для губ, какие-то салфетки. Пара рубашек, вынутых из ящиков, но не удостоенных чести быть надетыми сегодня; пивная кружка с мелкими монетами; учебники, какой-то словарь, щетки для волос.
Через парадную дверь в дом вбежали санитары с носилками, на которые они легко перекинули неподвижное, точно пластилиновое тело Карен. Водитель «скорой» спросил:
– Пили?
Мы сказали, что да, водку.
– Наркотики, лекарства?
Никто, кроме меня, не знал про валиум, пришлось сказать.
– Две таблетки транквилизатора. Насколько я знаю – валиум.
– Передозировка возможна?
– Нет. Я видел, как она принимала всего две штуки.
– Траву курила?
– Нет. Понюхайте ее, если не верите.
В горло Карен вставили трубку для искусственной вентиляции легких.
– Родители?
– Они уехали в Бирч-Бэй.
– Сколько она уже не дышит?
– Точно не знаю. Несколько минут, наверное. Еще полчаса назад она была в полном сознании.
– Ты ее парень?
– Ну да.
– Поедешь с нами.
Мы пулей вылетели в гостиную, за дверь, на лужайку, понеслись к калитке. От моего дома спешно приближались мои родители, на лицах у них переливались огни мигалки «скорой». Когда они разглядели, что на носилках не я, страха в их глазах поубавилось, но не сильно.
– Гамильтон, объясни им, что к чему, – сказал я. – Мне нужно ехать.
Мы с Карен в утробе фургона «скорой помощи» понеслись к больнице Лайонс Гейт. Сквозь заднее стекло я бросил последний взгляд на тот квартал, где выросли Карен, я, Гамильтон, Лайнус и Пэмми, и он показался мне холодным, сухим и неподвижно-спокойным – как могильный склеп.
Кошмарный оранжевый «шевроле LUV» отца Карен… дым этилированного бензина… две таблетки… аккуратно подстриженные живые изгороди…
Машина проскочила по Рэббит-лейн к Стивенс-драйв и выехала на автостраду – кратчайший путь к больнице. Откуда мне было знать тогда, что наступает совсем другое время.
Произведения
Критика